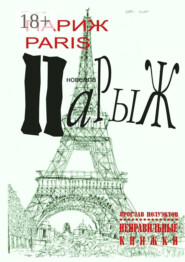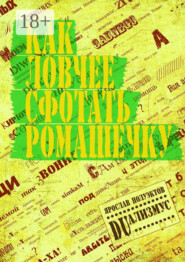По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
А слона-то я приметилъ! или Фуй-Шуй. трилогия: RETRO EKTOF / ЧОКНУТЫЕ РУССКИЕ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В центре помещения, высунув язык и надвинувши на затылок картуз с высоким, синим и достаточно потертым околышком, пристроился уже знакомый нам озабоченный молодой человек годков восемнадцати. Михейша, или по правильному, Михаил Игоревич Полиевктов – Большой Брат, увеличенный временем, поставивший сам себя в такую позицию Секретный Брат. Или просто брат уже упомянутых особ с бантиками.
Убежав от сестер по возрасту, он, кажется, забыл выбросить из закромов души привычки детства. И, кажется, определившись и самоосознав себя, застеснялся знакомства и родства с глупыми еще и по—деревенски скроенными младшими сестрицами.
Он в гражданской одежке, сшитой далеко не в роскошном Вильно, откуда он недавно прибыл: жилет из черного крепа, расстегнутая и намеком покрахмаленная рубашка, сбитый в сторону самовязный шейный аксессуар.
Галстук дорог на вид, но лоск на нем чисто наживной. Образовался он по причине чуть ли не ежеминутного ощупывания его, выправления и приглаживания перед зеркалом и без оного. Блеск усиливается во время обеденного застолья, завтрака и ужина, в пору пластилиновой и глиняной лепки, в полном соответствии с немытостью рук и… Скажем еще прямее, – закрепился он окончательно по причине напускной творческой запущенности себя самого в целом, неотъемлемо включая детали.
Завершает описание внешности полутаежного денди тускло—зеленый, художественно помятый сюртук с черными отворотами. Как дальний и отвергнутый родственник всего показного великолепия, сейчас он апатично свисает с деревянного кронштейна, украшенного резными набалдашниками и напоминающими своей формой переросшие луковицы экзотического растения, – то ли китайского чеснока, то ли корней североморских гладиолусов, удивительным образом прижившихся в сибирской глухомани.
Рассеянность и острейший ум, направленные по молодости не на целое, а на ароматные детали, являются органическим продолжением облика юноши и направляют всеми его поступками.
Михейша только что вернулся с практики. Скинув штиблеты, натертые желтым кремом, совершенно неуместным в здешней летней пыли, и, заменив их домашними тихоходами—бабушами, он первым делом осведомился о дедушке.
– Деда дома?
– Нет его. Уехал в Ёкск.
– А зачем?
– А тебе почем знать? – посмеивается бабка, – нечто сможешь месторождением бензина помочь? Или на тебя ёкчане топливный кран переписали?
– Бензин делают из нефти, бабуля.
– Это вопрос или утверждение?
– А то сама не знаешь! Смеешься, да?
– Как знать. Может, нефть сделана из бензина. Под землей разве видно?
– Вот черт! Запудрила мозги.
Обнаружив полное отсутствие хозяина и разумной мысли у бабы Авдоши… или наоборот… а, все равно… Словом, Михейша ринулся в Кабинет.
Он водрузил колени в важное дедово кресло, обтянутое потертой кожей крапчатой царевны, подросшей в лягушачестве и остепенившейся, оставшись вечной девой, не снеся ни икринки, ни испытав радостей постельной любви с Иванодурачком – боярским сыном. До сих пор тот скулит где—то на болотах в поисках небрежно отправленной стрелы.
Михейша облокотился на столешницу, подпертую башнеобразными ногами, зараженными индийской слоновьей болезнью посередине, и с базедовым верхом, привезенным с Суматры. В столешнице пропилена круглая музейная дырка, накрытая стеклом от иллюминатора с рухнувшего Цепеллина. Под стеклом светятся фосфорные Дашины зубки. Привинчена назидательная бронзовая табличка «Итоги качания на люстре!»
Михейша сдвинул в сторону кипу мешающих дедовых бумаг. Вынул и постранично разбирает хрустящие нумера прессы.
Газета с неорусскими буквами, – страниц в тридцать шесть, – растеряла от долготы пересылки естественную маркость, типографский запах и пластичность газетной целлюлозы. Любую прессу, приползшую сюда черепашьими стежками, здесь называют не свежей, а последней.
В номере уже имеются дедушкины пометы в виде краснобумажных, вставленных на скрепы листков, и имеются отцовские. Эти – синие.
Михейше, читающему с измальства, тогда еще, благодаря бабушкиному покровительству, доверили вставлять в газетки вместо привычных взрослых вставышей листы растительного происхождения: с бузины, березы, осины. Всё дозволено, кроме запрещенного. Возбранен тополь. Его листья клейкие и маркие.
***
Возвращаемся к горячим и долголетне совершаемым проказам.
Вонючие, но невзрывоопасные опыты проводятся также на лоджии, это под самой крышей. Это сдвоенная, не разделенная границами, лоджия Михейши и его старшей сестры. При такой планировке удобно подглядывать и подбрасывать в окна дохлых, задохнувшихся пылью гадюк! Кто кормил гадюк пылью – история умалчивает. Но мы—то с вами догадываемся, верно? Каждая гадюка, хоть зоологическая, хоть политическая, заслуживает страшной смерти в мучениях. Каждая гадюка точно знает, как больно становится тем, кого она удостаивает почести быть ею укушенным.
Ленку уговорить легко. Она сама падка на такого рода «фейерверные» развлечения. Но Михейша здесь играет главную роль, он – идейный руководитель, химик и исполнитель, а Ленка – всего—то навсего – назначенная «осторожница» и санитарка.
Осторожница Ленка Михейшу не только не продаст, но еще и прикроет с самыми нужными интонациями. Еще и алиби придумает: мы только что (кто бы поверил, но верят) с братиком из лесу вернулись, вот что – набрали клюквы; вот корзинка (вчерашнего дня), но вы сегодня туда (неведомо куда) не ходите, «там» (неизвестно где расположено это «там») туман и комарье; смотрите, как нас покусали, а покусаны Ленка с Михейшей всегда.
Ветер Розы – Роза Ветров[19 - Роза ветров (для совсем неграмотных) – принятая в некоторых областях знаний диаграмма преобладающих ветров для разных времен года в определенной части Земли.] разносит чумовато едкие запахи по всем сторонам света. Западный ветер несет запашок вдоль почти что глухой стены родительского дома, потому родственникам он не мешает, а северный…
Соседский север – это не север Фритьофа Нансена. На нашем доморощенном севере живет Макар Фритьофф с двумя «Ф» в конце фамилии и одной – в начале. Это что—то!
В понимании Михейши, жизнь соседа Фритьоффа – это отдельная песня – короткая и бесшабашно длинная, печальная и одновременно разудалая песня. Как у преступников и героев далеких Соловков.
***
Северный сосед – это упомянутый уже курносый и рябой, крайне застенчивый и с мелко дрожащей головой от когда пронзившей насквозь все ее нервы вражеской пулей, отставной полковник Макар Дементьевич Нещадный. Он помнит еще цветные вышитые погоны, и захватил переодевание армии в зеленое, безрюшечное, простецкое одевалово.
У него клочковатая прическа, прихваченная в нужных ему местах китайской нитью, которую теперь и прической—то по большому счету назвать нельзя: какое нам дело до немодных китайских причесок? Прическа это вам не шкаф и не швейная машинка. Вот с этого и начинается дурь! А еще он носит данную ему дедом Федотом занятную кличку «Фритьофф – нихт в дышло, найн в оглоблю офф». Вот это уже совсем в точку, и похоже оно на веселую в смеси с сермяжиной правду.
Этот увлеченный человек занят выводом свиной породы, излучающей приятный запах навоза. На этом деле он надеется разбогатеть и поправить свои дела, пошатнувшиеся после развода с хозяйственной, умной, но, в некотором роде, и чисто лишь по его мнению, блудливой женой.
Слегка взбалмошная, абсолютно верная, но, как водится в высылочных полудеревнях, – флиртоватая до определенной черты – жена отставного месье—полковника по книжному имясочетанию Софья Алексеевна при разводе сработала классически.
Вот как дело было:
Во—первых, отобрала у мужа половину пенсии, а также все внутреннюю меблировку, кухонное серебро, сервантные и потолочные хрустали. В новую жизнь взяла обветшалый, но со вкусом собранный и еще годящийся на переделки женский гардероб.
Во—вторых, не поставив в известность мужа, неглупая Софья прихватила половину общих накоплений в виде пары рулончиков ассигнаций. Ассигнации свернуты в немалые диаметры и перевязаны по моднобанковски каучуковыми тесемками.
В—третьих, не пересчитывая, Софья забрала, все золотые, чеканенные еще царицей монеты: в Питерах, видите ли, они ей нужнее. Чтобы правильную квартиру арендовать. В общий улов – десяток коробочек с украшениями, нажитыми во время довоенно теплящейся любви. В то число входят мелкие боевые трофеи женской направленности, взятые напрокат у турков, сербов и греков – всё золотого оттенка.
Успешно потратив оставшиеся накопления, Макар Дементьевич вовсе не растерялся. Отсутствие жены простимулировало дремлющюю до поры диковинную предприимчивость: Фритьофф активно занялся упомянутой наукой селекции.
Он активно коллекционирует и сортирует результаты. Хранит их для потомства вполне надлежаще: в никелированных медицинских ванночках, с подписями на крышках, все подписи, как полагается, сделаны на латыни. Баночки и ванны составляются штабелями в лабаз со льдом.
Экспериментирует Фритьофф в белом, облицованном изнутри керамикой и обвешанном цветастыми лоскутными занавесками, сарае, по четкости планировки больше похожим на казармы для младшего военного состава.
Он умело дрессирует питомцев… – Питомцев? Да, да, да, кажется, мы уже об этом говорили. Помните «питонцев» Даши и Оли на… nn—ой странице?
…Короче, показывает им, любимым, музыку. Кормит цветами – преимущественно геранью, а по сезонной возможности розами и сибирским виноградом. Для всего этого лабораторного умопомрачения старик—месье Макар содержит спецоранжерейку. Имеются: плодово—цветочный сад, огород и Пристойный Двор для приличного выгула.
Моется сие привилегированное стадо в уличном душе. Давление в шланге создает странный прибор с инерционным штурвалом – он же мотор. Кто банщик и по совместительству механик – отдельно представлять не надо.
Спать своих воспитанников Макар кладет на нары. Нары больше похожи на среднего класса кровати an ein persons с частой решеткой, будто бы защищающей от расползания младенцев.
В свинюшкины спальни проведено отопление.
Скотный селекторско—колледжный двор Макара Дементьевича сплошь замощен деревянным настилом и выскоблен до палубного блеска. Провинившихся свиных учеников и службистов, ненароком и не со зла, а ради шутки нагадивших в парадном дворе, Макар Дементьевич, невзирая на юмор, на ранги и половую принадлежность, наказывает запиранием в гауптвахте. И в дополнение – лишением чесательных льгот.
Живет дедушка Макар практически за счет сдачи на убой тех, и лишь только тех возвышенных животных, кто не прошел экзамен по «Основам спартанского этикета», а также тех, кто купился на простейших «Десяти признаках испорченной аристократии». Первый признак там (извините): «германцы и римляне выпускают газы во время обеда, а в Октоберфест облегчаются по малому под стол».