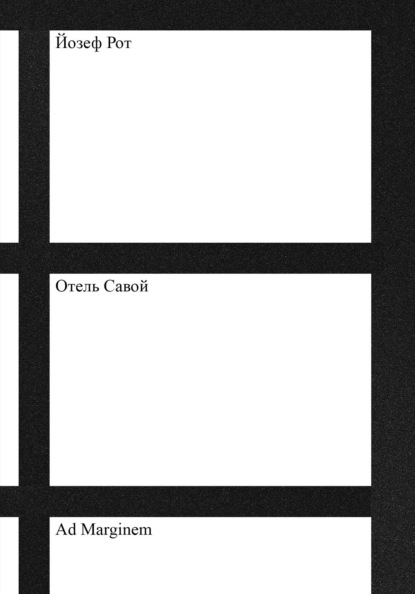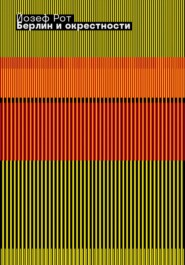По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отель «Савой»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отель «Савой»
Йозеф Рот
Впервые напечатанный в нескольких выпусках газеты Frankfurter Zeitung весной 1924 года, роман известного австрийского писателя и журналиста (1894–1939), стал одним из бестселлеров веймарской Германии. Действие происходит в отеле в польском городке Лодзь, который населяют солдаты, возвращающиеся с Первой мировой войны домой, обедневшие граждане рухнувшей Австро-Венгерской империи, разорившиеся коммерсанты, стремящиеся уехать в Америку, безработные танцовщицы кабаре и прочие персонажи окраинной Европы.
Йозеф Рот
Отель «Савой»
Книга первая
I
Я прибываю в десять часов утра в отель «Савой», решив тут отдохнуть несколько дней или неделю. В этом городе живут у меня родственники – мои родители были русские евреи. Мне хочется раздобыть тут денег, чтобы продолжить свой путь на Запад.
Я возвращаюсь восвояси после трехлетнего пребывания в плену. Я жил в сибирском лагере для военнопленных и миновал ряд русских деревень и городов, где исполнял обязанности рабочего, поденщика, ночного сторожа, носильщика и подручного пекаря.
На мне русская рубаха, кем-то мне подаренная, короткие брюки, доставшиеся по наследству от умершего товарища, и сапоги, все еще годные, хотя сам я уже не помню их происхождения.
Впервые после пятилетнего перерыва я вновь на пороге Европы.
Более европейским, чем все прочие гостиницы восточной части города, представляется мне отель «Савой», семиэтажная громада с золотою вывескою и ливрейным швейцаром. Гостиница эта сулит воду, мыло, английский клозет, лифт; горничных в белых наколках; радостно блестящие урыльники, подобные чудным сюрпризам в своих шкапчиках из темной фанеры; электрические лампочки, расцветающие за розовыми и зелеными абажурами, подобно чашечкам цветов; резко звучащие звонки, послушные нажиму пальца, и кровати с перинами, эластичные и мягкие, готовые принять мое тело в свои объятия.
Мне радостно, что я могу снова скинуть с себя старый образ жизни, как это уже столь часто случалось за последние годы. Я мысленно вижу солдата, убийцу, почти убитого, воскресшего, заключенного, странника.
Мне рисуется утренний туман, слышится бой барабанов марширующей воинской части, дребезжание раскрывающихся окон верхнего этажа; я вижу мужчину в белой рубашке, без сюртука, вижу подергивание солдат, вижу сверкающую росою лесную поляну; я бросаюсь на траву перед «фиктивным неприятелем» и чувствую чисто животное желание остаться здесь лежать, лежать вечно, на бархатной траве, нежно ласкающей мой нос.
Я слышу тишину больничной палаты, белую тишину. В одно летнее утро я встаю со своей койки, слышу трели звонких жаворонков, ощущаю вкус утреннего какао с белым хлебом, намазанным маслом, и запах йодоформа в стадии «первой диеты».
Я обитаю в белом мире, сплошь состоящем из неба и снега. Бараки, наподобие желтой проказы, покрывают почву. Я смакую последнюю сладкую затяжку из где-то подобранного окурка сигары, читаю страницу объявлений устарелой отечественной газеты, повторяя про себя хорошо известные названия улиц, узнавая знакомого торговца всякою всячиною, вспоминая о швейцаре, о блондинке Агнессе, с которою провел ночь.
Я слышу шум приятного дождя во время ночи, проведенной без сна, вижу быстро тающие на улыбающемся утреннем солнце ледяные сосульки, мысленно хватаю могучие груди женщины, встреченной по пути и брошенной на покрытую мхом землю, вспоминаю белую роскошь ее членов. Я сплю одуряющим сном на сеновале, в сарае. Я шагаю по взрытым полям и прислушиваюсь к жидким звукам какой-то балалайки.
Столь многое может впитать в себя человек и при всем том остаться не измененным физически, сохранившим прежнюю походку и осанку. Пить из миллионов сосудов, никогда не насытиться, сверкать, подобно радуге, всеми цветами и тем не менее оставаться прежнею радугою с одинаковой скалою красок…
Я мог явиться в отель «Савой» с одною рубашкою и покинуть его в качестве владельца двадцати чемоданов, оставаясь неизменным Гавриилом Даном. Быть может, эта пришедшая мне на ум мысль и придала мне столько самонадеянности, гордости и повелительности во внешности и в обращении, что швейцар кланяется мне, бедному страннику в русской блузе, а мальчик-рассыльный услужливо застывает в ожидании моих распоряжений, хотя у меня и нет никакого багажа.
Я вхожу в лифт: стены его украшены зеркалами; прислужник, человек пожилой, пропускает проволочный канат, хватаясь за него руками; кабина поднимается со мною ввысь; я парю в воздухе – и мне кажется, что полет мой продолжится еще порядочное время. Я наслаждаюсь этим скользящим вверх движением. При этом я думаю о том, на сколько ступеней мне пришлось бы с трудом взбираться, если бы я не стоял сейчас в этом роскошном лифте. Тут я мысленно отшвыриваю всю свою горечь, бедность, все свои странствования бездомного скитальца, свой голод и нищенское прошлое вниз, глубоко в пропасть, откуда они меня, вздымающегося все выше и выше, уже никогда больше не настигнут.
Моя комната – я выбрал одну из наиболее дешевых – расположена на шестом этаже и помечена номером 703. Число это мне нравится – я суеверен на числа; нуль посредине похож на даму, которую сопровождают более пожилой и молодой кавалеры. Постель покрыта одеялом желтого цвета. Слава богу, что не серым: оно напоминало бы военную службу. Я несколько раз включаю и выключаю свет, раскрываю дверцы ночного шкафчика, матрац подается под нажимом руки и эластичен, в графине сверкает вода, окно выходит на задние дворы, на которых весело развевается пестрое белье, кричат дети, прохаживаются куры.
Умывшись, я медленно проскальзываю в постель, всласть наслаждаясь каждою секундою. Я раскрыл окно; куры болтают громко и весело, но их болтовня напоминает сладкую снотворную музыку.
Без сновидений я сплю целый день.
II
Позднее солнце окрашивало багрянцем верхние окна противоположного дома. Белье, куры, дети исчезли со двора.
Утром, когда я прибыл, шел небольшой дождик. Так как с того времени погода прояснилась, то мне казалось, что я проспал не один день, а целых три. Моей усталости как не бывало. Сердце мое охватило радостное настроение. Я жаждал познакомиться с городом, с новою жизнью. Моя комната казалась мне такою близкою, как если бы я уже долго проживал в ней; звонок, кнопка, электрический штепсель, зеленый абажур на лампе, платяной шкаф, умывальник – представлялись мне старыми знакомыми. Все было уютно-родным, как в комнате, где провел свое детство, все успокаивало и излучало тепло, как бывает после дорогой встречи.
Новым был лишь плакат на дверях. Там стояло:
«Просим о соблюдении тишины после десяти часов вечера. За пропажу драгоценностей ответственности не несем. В доме имеется сейф.
С почтением
Калегуропулос, хозяин гостиницы».
Имя это было чужое, греческое. Мне захотелось просклонять его: Калегуропулос. Калегуропулу, Калегуропуло – мне пришлось подавить в себе слабое воспоминание о неуютных школьных часах, об учителе греческого языка, восставшем в моей памяти в темно-зеленом пиджачке, как фигура давно за минувшие годы забытая. Потом я решил прогуляться по городу, быть может, посетить кого-либо из родных, если для этого останется время, и пожуировать, если данный вечер и этот город предоставят соответствующую возможность.
Я иду по коридору в направлении к главной лестнице. И меня радуют прекрасный таметный пол этого коридора, красноватая чистота отдельных плиток, эхо моих твердых шагов.
Медленно спускаюсь с лестницы. Из нижних этажей до меня долетает звук голосов. Здесь, наверху, тихо, все двери замкнуты; как в старинном монастыре, проходишь мимо келий молящихся монахов. Пятый этаж точь-в-точь такой же, как и шестой; тут легко ошибиться; как там, так и здесь напротив лестницы повешены большие часы, только ход их не точен: часы шестого этажа показывают десять минут восьмого, на часах пятого – ровно семь, а на четвертом этаже – без десяти минут семь.
Плиты таметного пола в коридоре третьего этажа покрыты темно-красным с зеленою каймою ковром, так что уже не слышишь своих шагов. Номера комнат здесь не намалеваны на самих дверях, но обозначены на овальных фарфоровых дощечках. Навстречу попадается горничная с метелкой из перьев и корзиною для бумаги; по-видимому, тут обращается больше внимания на чистоту. Здесь проживают богачи, и хитрец Калегуропулос нарочно дает отставать часам, потому что богачи располагают временем.
На первом этаже обе створки одной из дверей широко распахнуты.
Это была большая комната в два окна; там виднелись две кровати, два шкафа, зеленый плюшевый диван, темно-коричневая изразцовая печь и специальная подставка для багажа. На дверях не видно было объявления Калегуропулоса: быть может, квартирантам этого этажа было предоставлено право шуметь после десяти часов; быть может, пред ними отвечали «за пропажу драгоценностей»; быть может, им уже было известно о сейфах или Калегуропулос лично сообщал им об этом?
Из одной из соседних комнат шумно вышла женщина, надушенная и в сером боа из перьев. «Это – дама», – говорю я самому себе и спускаюсь, непосредственно за нею, по немногим ступенькам, весело рассматривая ее маленькие лакированные сапожки. Дама на минуту задерживается около швейцара; я одновременно с нею достигаю выходных дверей. Швейцар низко кланяется, и мне лестно думать, что швейцар, быть может, принимает меня за спутника этой богатой дамы.
Не имея в виду определенного направления, я решил пойти вслед за этой особой.
Из узкого переулка, в котором находилась гостиница, она повернула направо. Передо мною лежала широкая площадь рынка. Был, вероятно, базарный день: на булыжной мостовой валялись в беспорядке сено и отруби. Как раз в это время запирались магазины. Раздавался стук ключей и лязг цепей; разносчики отправлялись домой со своими маленькими тележками, а женщины в пестрых головных платках, осторожно держа перед своими животами полные горшки, проходили, спеша, мимо меня; на руках их висели переполненные базарные мешки, из которых выглядывали деревянные кухонные ложки. Малочисленные фонари серебристым светом оделяли сумерки; на тротуарах началось гулянье, мужчины в форме и штатском размахивали изящными тросточками, и клубы русских духов повсюду то разносились, то исчезали. Со стороны вокзала плелись экипажи с горами наваленного багажа и закутанными пассажирами. Мостовая была плоха, имела выбоины и внезапные провалы; на поперечных местах были положены гниющие доски, изумительно трещавшие.
И все-таки вечером город казался приветливее, чем днем. Утром он имел серый вид. Угольная пыль и чад близких фабрик заволакивали его, на углах улиц корчились грязные нищие, а в узких переулочках виднелись нечистоты и ведра с навозом. Темнота же скрывала все: грязь, порок, заразу и бедность, скрывала милостиво, по-матерински, всепрощающе, всепокрывающе.
Дома, на самом деле только непрочные и попорченные, кажутся в темноте призрачными и таинственными, имеющими произвольную архитектуру. Покосившиеся мезонины мягко врастают во мглу, бедноватый свет таинственно мерцает в потускневших оконных стеклах, а в двух шагах, рядом, потоки света льются из огромных, в рост человека, витрин кондитерской, в зеркалах отражаются хрусталь и люстры, ангелы в нежно склоненных позах витают на разрисованном потолке. Это – кондитерская тех богачей, которые в этом городе добывают и тратят деньги.
Сюда именно прошла дама. Я не последовал за нею, соображая, что денег моих мне должно хватить на порядочное время, раньше, чем я смогу отсюда уехать.
Я продолжал свою прогулку, видел темные группы юрких евреев в лапсердаках, слышал громкое бормотанье, взаимные приветствия, гневные слова и длинные речи: пух и перо, проценты, хмель, сталь, апельсины – так и носились в воздухе, брошенные устами, направленные в уши. Какие-то мужчины с подозрительными взглядами и резиновыми воротничками были, по-видимому, полицейскими.
Я машинально схватился за карман на груди, где лежал мой паспорт, и сделал это столь же непроизвольно, как хватался за козырек фуражки в бытность мою солдатом, когда вблизи появлялось начальство. Я возвращался из плена, бумаги мои были в порядке, опасаться мне было нечего.
Я подошел к городовому и спросил его, где улица Гибкая. Там жили мои родные, богатый дядя Феб Белауг. Городовой понимал по-немецки, многие тут говорили по-немецки: немецкие фабриканты, инженеры и купцы доминировали в обществе, деловой жизни и промышленности города.
Мне пришлось идти десять минут и размышлять о Фебе Белауге, о котором отец мой в венском Леопольдштадте всегда отзывался с завистью и ненавистью, возвращаясь домой утомленный и подавленный после сбора платежей в рассрочку.
Мне пришлось идти минут десять и размышлять о Фебе с уважением; казалось, будто речь шла действительно о боге солнца. Один только отец мой называл его не иначе как «подлец Феб» – за то, что дядя предположительно пустил в рост приданое моей матери. Мой отец был всегда слишком труслив, никогда не требовал выплаты этого приданого, а только ежегодно, всегда приблизительно в одно и то же время, справлялся в списке приезжих, не прибыл ли и не остановился ли Феб Белауг в гостинице «Империал». Если же тот оказывался в числе прибывших, отец отправлялся к своему свояку, чтобы пригласить его на чашку чаю в Леопольдштадт. Мать надевала тогда черное платье с облетевшим и поредевшим стеклярусом. Она уважала своего богатого брата, как будто он представлял нечто очень чужое ей, царственное, как будто бы не одно и то же лоно родило их обоих, не одни груди вскормили их. Дядя являлся, приносил мне какую-нибудь книгу; из темной кухни доносился запах пирожков. В этой кухне проживал мой дед. Он выходил из нее лишь в особо торжественных случаях, и тогда казалось, что он только что испекся: он появлялся свежеумытый, с белою крахмальною манишкою на груди, подмигивая сквозь слишком слабые для него очки и склоняясь вперед, чтобы взглянуть на сына своего Феба, гордость его старости.
Феб смеется широким смехом; у него жирный двойной подбородок и красные складки на шее; от него пахнет сигарами, иногда и вином. Он запечатлевает каждому из нас по два поцелуя, в каждую щеку по одному. Он говорит много, громко и весело. Когда же его спросишь, хороши ли дела, глаза его выпучиваются, он весь съеживается, ежеминутно он может затрястись, как мерзнущий нищий, и его двойной подбородок исчезает за воротником: «Дела не радуют в такое плохое время. Когда я был маленьким, я получал маковую рогульку за полкопейки, теперь же булка стоит гривенник, дети – сухо дерево, завтра пятница! – растут и нуждаются в деньгах; Александру ежедневно требуются они на карманные расходы».
Отец одергивал свои манжеты и тер их о край стола, улыбался слабо и выжидательно всякий раз, когда Феб обращался к нему в разговоре, и желал своему свояку умереть от сердечного удара. Спустя два часа Феб вставал, совал матери в руку серебряную монету, такую же подавал деду, а большую блестящую монету опускал в мой карман. Отец сопровождал его, так как было уже темно, вниз по лестнице, держа в высоко приподнятой руке керосиновую лампу, а мать восклицала:
– Натан, не забудь об абажуре! – Отец бережно относился к последнему, и, так как дверь оставалась еще полуоткрытой, слышалась бодрая брань Феба.
Через два дня Феб оказывался в отъезде, отец же заявлял: «Подлец уже уехал».
Йозеф Рот
Впервые напечатанный в нескольких выпусках газеты Frankfurter Zeitung весной 1924 года, роман известного австрийского писателя и журналиста (1894–1939), стал одним из бестселлеров веймарской Германии. Действие происходит в отеле в польском городке Лодзь, который населяют солдаты, возвращающиеся с Первой мировой войны домой, обедневшие граждане рухнувшей Австро-Венгерской империи, разорившиеся коммерсанты, стремящиеся уехать в Америку, безработные танцовщицы кабаре и прочие персонажи окраинной Европы.
Йозеф Рот
Отель «Савой»
Книга первая
I
Я прибываю в десять часов утра в отель «Савой», решив тут отдохнуть несколько дней или неделю. В этом городе живут у меня родственники – мои родители были русские евреи. Мне хочется раздобыть тут денег, чтобы продолжить свой путь на Запад.
Я возвращаюсь восвояси после трехлетнего пребывания в плену. Я жил в сибирском лагере для военнопленных и миновал ряд русских деревень и городов, где исполнял обязанности рабочего, поденщика, ночного сторожа, носильщика и подручного пекаря.
На мне русская рубаха, кем-то мне подаренная, короткие брюки, доставшиеся по наследству от умершего товарища, и сапоги, все еще годные, хотя сам я уже не помню их происхождения.
Впервые после пятилетнего перерыва я вновь на пороге Европы.
Более европейским, чем все прочие гостиницы восточной части города, представляется мне отель «Савой», семиэтажная громада с золотою вывескою и ливрейным швейцаром. Гостиница эта сулит воду, мыло, английский клозет, лифт; горничных в белых наколках; радостно блестящие урыльники, подобные чудным сюрпризам в своих шкапчиках из темной фанеры; электрические лампочки, расцветающие за розовыми и зелеными абажурами, подобно чашечкам цветов; резко звучащие звонки, послушные нажиму пальца, и кровати с перинами, эластичные и мягкие, готовые принять мое тело в свои объятия.
Мне радостно, что я могу снова скинуть с себя старый образ жизни, как это уже столь часто случалось за последние годы. Я мысленно вижу солдата, убийцу, почти убитого, воскресшего, заключенного, странника.
Мне рисуется утренний туман, слышится бой барабанов марширующей воинской части, дребезжание раскрывающихся окон верхнего этажа; я вижу мужчину в белой рубашке, без сюртука, вижу подергивание солдат, вижу сверкающую росою лесную поляну; я бросаюсь на траву перед «фиктивным неприятелем» и чувствую чисто животное желание остаться здесь лежать, лежать вечно, на бархатной траве, нежно ласкающей мой нос.
Я слышу тишину больничной палаты, белую тишину. В одно летнее утро я встаю со своей койки, слышу трели звонких жаворонков, ощущаю вкус утреннего какао с белым хлебом, намазанным маслом, и запах йодоформа в стадии «первой диеты».
Я обитаю в белом мире, сплошь состоящем из неба и снега. Бараки, наподобие желтой проказы, покрывают почву. Я смакую последнюю сладкую затяжку из где-то подобранного окурка сигары, читаю страницу объявлений устарелой отечественной газеты, повторяя про себя хорошо известные названия улиц, узнавая знакомого торговца всякою всячиною, вспоминая о швейцаре, о блондинке Агнессе, с которою провел ночь.
Я слышу шум приятного дождя во время ночи, проведенной без сна, вижу быстро тающие на улыбающемся утреннем солнце ледяные сосульки, мысленно хватаю могучие груди женщины, встреченной по пути и брошенной на покрытую мхом землю, вспоминаю белую роскошь ее членов. Я сплю одуряющим сном на сеновале, в сарае. Я шагаю по взрытым полям и прислушиваюсь к жидким звукам какой-то балалайки.
Столь многое может впитать в себя человек и при всем том остаться не измененным физически, сохранившим прежнюю походку и осанку. Пить из миллионов сосудов, никогда не насытиться, сверкать, подобно радуге, всеми цветами и тем не менее оставаться прежнею радугою с одинаковой скалою красок…
Я мог явиться в отель «Савой» с одною рубашкою и покинуть его в качестве владельца двадцати чемоданов, оставаясь неизменным Гавриилом Даном. Быть может, эта пришедшая мне на ум мысль и придала мне столько самонадеянности, гордости и повелительности во внешности и в обращении, что швейцар кланяется мне, бедному страннику в русской блузе, а мальчик-рассыльный услужливо застывает в ожидании моих распоряжений, хотя у меня и нет никакого багажа.
Я вхожу в лифт: стены его украшены зеркалами; прислужник, человек пожилой, пропускает проволочный канат, хватаясь за него руками; кабина поднимается со мною ввысь; я парю в воздухе – и мне кажется, что полет мой продолжится еще порядочное время. Я наслаждаюсь этим скользящим вверх движением. При этом я думаю о том, на сколько ступеней мне пришлось бы с трудом взбираться, если бы я не стоял сейчас в этом роскошном лифте. Тут я мысленно отшвыриваю всю свою горечь, бедность, все свои странствования бездомного скитальца, свой голод и нищенское прошлое вниз, глубоко в пропасть, откуда они меня, вздымающегося все выше и выше, уже никогда больше не настигнут.
Моя комната – я выбрал одну из наиболее дешевых – расположена на шестом этаже и помечена номером 703. Число это мне нравится – я суеверен на числа; нуль посредине похож на даму, которую сопровождают более пожилой и молодой кавалеры. Постель покрыта одеялом желтого цвета. Слава богу, что не серым: оно напоминало бы военную службу. Я несколько раз включаю и выключаю свет, раскрываю дверцы ночного шкафчика, матрац подается под нажимом руки и эластичен, в графине сверкает вода, окно выходит на задние дворы, на которых весело развевается пестрое белье, кричат дети, прохаживаются куры.
Умывшись, я медленно проскальзываю в постель, всласть наслаждаясь каждою секундою. Я раскрыл окно; куры болтают громко и весело, но их болтовня напоминает сладкую снотворную музыку.
Без сновидений я сплю целый день.
II
Позднее солнце окрашивало багрянцем верхние окна противоположного дома. Белье, куры, дети исчезли со двора.
Утром, когда я прибыл, шел небольшой дождик. Так как с того времени погода прояснилась, то мне казалось, что я проспал не один день, а целых три. Моей усталости как не бывало. Сердце мое охватило радостное настроение. Я жаждал познакомиться с городом, с новою жизнью. Моя комната казалась мне такою близкою, как если бы я уже долго проживал в ней; звонок, кнопка, электрический штепсель, зеленый абажур на лампе, платяной шкаф, умывальник – представлялись мне старыми знакомыми. Все было уютно-родным, как в комнате, где провел свое детство, все успокаивало и излучало тепло, как бывает после дорогой встречи.
Новым был лишь плакат на дверях. Там стояло:
«Просим о соблюдении тишины после десяти часов вечера. За пропажу драгоценностей ответственности не несем. В доме имеется сейф.
С почтением
Калегуропулос, хозяин гостиницы».
Имя это было чужое, греческое. Мне захотелось просклонять его: Калегуропулос. Калегуропулу, Калегуропуло – мне пришлось подавить в себе слабое воспоминание о неуютных школьных часах, об учителе греческого языка, восставшем в моей памяти в темно-зеленом пиджачке, как фигура давно за минувшие годы забытая. Потом я решил прогуляться по городу, быть может, посетить кого-либо из родных, если для этого останется время, и пожуировать, если данный вечер и этот город предоставят соответствующую возможность.
Я иду по коридору в направлении к главной лестнице. И меня радуют прекрасный таметный пол этого коридора, красноватая чистота отдельных плиток, эхо моих твердых шагов.
Медленно спускаюсь с лестницы. Из нижних этажей до меня долетает звук голосов. Здесь, наверху, тихо, все двери замкнуты; как в старинном монастыре, проходишь мимо келий молящихся монахов. Пятый этаж точь-в-точь такой же, как и шестой; тут легко ошибиться; как там, так и здесь напротив лестницы повешены большие часы, только ход их не точен: часы шестого этажа показывают десять минут восьмого, на часах пятого – ровно семь, а на четвертом этаже – без десяти минут семь.
Плиты таметного пола в коридоре третьего этажа покрыты темно-красным с зеленою каймою ковром, так что уже не слышишь своих шагов. Номера комнат здесь не намалеваны на самих дверях, но обозначены на овальных фарфоровых дощечках. Навстречу попадается горничная с метелкой из перьев и корзиною для бумаги; по-видимому, тут обращается больше внимания на чистоту. Здесь проживают богачи, и хитрец Калегуропулос нарочно дает отставать часам, потому что богачи располагают временем.
На первом этаже обе створки одной из дверей широко распахнуты.
Это была большая комната в два окна; там виднелись две кровати, два шкафа, зеленый плюшевый диван, темно-коричневая изразцовая печь и специальная подставка для багажа. На дверях не видно было объявления Калегуропулоса: быть может, квартирантам этого этажа было предоставлено право шуметь после десяти часов; быть может, пред ними отвечали «за пропажу драгоценностей»; быть может, им уже было известно о сейфах или Калегуропулос лично сообщал им об этом?
Из одной из соседних комнат шумно вышла женщина, надушенная и в сером боа из перьев. «Это – дама», – говорю я самому себе и спускаюсь, непосредственно за нею, по немногим ступенькам, весело рассматривая ее маленькие лакированные сапожки. Дама на минуту задерживается около швейцара; я одновременно с нею достигаю выходных дверей. Швейцар низко кланяется, и мне лестно думать, что швейцар, быть может, принимает меня за спутника этой богатой дамы.
Не имея в виду определенного направления, я решил пойти вслед за этой особой.
Из узкого переулка, в котором находилась гостиница, она повернула направо. Передо мною лежала широкая площадь рынка. Был, вероятно, базарный день: на булыжной мостовой валялись в беспорядке сено и отруби. Как раз в это время запирались магазины. Раздавался стук ключей и лязг цепей; разносчики отправлялись домой со своими маленькими тележками, а женщины в пестрых головных платках, осторожно держа перед своими животами полные горшки, проходили, спеша, мимо меня; на руках их висели переполненные базарные мешки, из которых выглядывали деревянные кухонные ложки. Малочисленные фонари серебристым светом оделяли сумерки; на тротуарах началось гулянье, мужчины в форме и штатском размахивали изящными тросточками, и клубы русских духов повсюду то разносились, то исчезали. Со стороны вокзала плелись экипажи с горами наваленного багажа и закутанными пассажирами. Мостовая была плоха, имела выбоины и внезапные провалы; на поперечных местах были положены гниющие доски, изумительно трещавшие.
И все-таки вечером город казался приветливее, чем днем. Утром он имел серый вид. Угольная пыль и чад близких фабрик заволакивали его, на углах улиц корчились грязные нищие, а в узких переулочках виднелись нечистоты и ведра с навозом. Темнота же скрывала все: грязь, порок, заразу и бедность, скрывала милостиво, по-матерински, всепрощающе, всепокрывающе.
Дома, на самом деле только непрочные и попорченные, кажутся в темноте призрачными и таинственными, имеющими произвольную архитектуру. Покосившиеся мезонины мягко врастают во мглу, бедноватый свет таинственно мерцает в потускневших оконных стеклах, а в двух шагах, рядом, потоки света льются из огромных, в рост человека, витрин кондитерской, в зеркалах отражаются хрусталь и люстры, ангелы в нежно склоненных позах витают на разрисованном потолке. Это – кондитерская тех богачей, которые в этом городе добывают и тратят деньги.
Сюда именно прошла дама. Я не последовал за нею, соображая, что денег моих мне должно хватить на порядочное время, раньше, чем я смогу отсюда уехать.
Я продолжал свою прогулку, видел темные группы юрких евреев в лапсердаках, слышал громкое бормотанье, взаимные приветствия, гневные слова и длинные речи: пух и перо, проценты, хмель, сталь, апельсины – так и носились в воздухе, брошенные устами, направленные в уши. Какие-то мужчины с подозрительными взглядами и резиновыми воротничками были, по-видимому, полицейскими.
Я машинально схватился за карман на груди, где лежал мой паспорт, и сделал это столь же непроизвольно, как хватался за козырек фуражки в бытность мою солдатом, когда вблизи появлялось начальство. Я возвращался из плена, бумаги мои были в порядке, опасаться мне было нечего.
Я подошел к городовому и спросил его, где улица Гибкая. Там жили мои родные, богатый дядя Феб Белауг. Городовой понимал по-немецки, многие тут говорили по-немецки: немецкие фабриканты, инженеры и купцы доминировали в обществе, деловой жизни и промышленности города.
Мне пришлось идти десять минут и размышлять о Фебе Белауге, о котором отец мой в венском Леопольдштадте всегда отзывался с завистью и ненавистью, возвращаясь домой утомленный и подавленный после сбора платежей в рассрочку.
Мне пришлось идти минут десять и размышлять о Фебе с уважением; казалось, будто речь шла действительно о боге солнца. Один только отец мой называл его не иначе как «подлец Феб» – за то, что дядя предположительно пустил в рост приданое моей матери. Мой отец был всегда слишком труслив, никогда не требовал выплаты этого приданого, а только ежегодно, всегда приблизительно в одно и то же время, справлялся в списке приезжих, не прибыл ли и не остановился ли Феб Белауг в гостинице «Империал». Если же тот оказывался в числе прибывших, отец отправлялся к своему свояку, чтобы пригласить его на чашку чаю в Леопольдштадт. Мать надевала тогда черное платье с облетевшим и поредевшим стеклярусом. Она уважала своего богатого брата, как будто он представлял нечто очень чужое ей, царственное, как будто бы не одно и то же лоно родило их обоих, не одни груди вскормили их. Дядя являлся, приносил мне какую-нибудь книгу; из темной кухни доносился запах пирожков. В этой кухне проживал мой дед. Он выходил из нее лишь в особо торжественных случаях, и тогда казалось, что он только что испекся: он появлялся свежеумытый, с белою крахмальною манишкою на груди, подмигивая сквозь слишком слабые для него очки и склоняясь вперед, чтобы взглянуть на сына своего Феба, гордость его старости.
Феб смеется широким смехом; у него жирный двойной подбородок и красные складки на шее; от него пахнет сигарами, иногда и вином. Он запечатлевает каждому из нас по два поцелуя, в каждую щеку по одному. Он говорит много, громко и весело. Когда же его спросишь, хороши ли дела, глаза его выпучиваются, он весь съеживается, ежеминутно он может затрястись, как мерзнущий нищий, и его двойной подбородок исчезает за воротником: «Дела не радуют в такое плохое время. Когда я был маленьким, я получал маковую рогульку за полкопейки, теперь же булка стоит гривенник, дети – сухо дерево, завтра пятница! – растут и нуждаются в деньгах; Александру ежедневно требуются они на карманные расходы».
Отец одергивал свои манжеты и тер их о край стола, улыбался слабо и выжидательно всякий раз, когда Феб обращался к нему в разговоре, и желал своему свояку умереть от сердечного удара. Спустя два часа Феб вставал, совал матери в руку серебряную монету, такую же подавал деду, а большую блестящую монету опускал в мой карман. Отец сопровождал его, так как было уже темно, вниз по лестнице, держа в высоко приподнятой руке керосиновую лампу, а мать восклицала:
– Натан, не забудь об абажуре! – Отец бережно относился к последнему, и, так как дверь оставалась еще полуоткрытой, слышалась бодрая брань Феба.
Через два дня Феб оказывался в отъезде, отец же заявлял: «Подлец уже уехал».