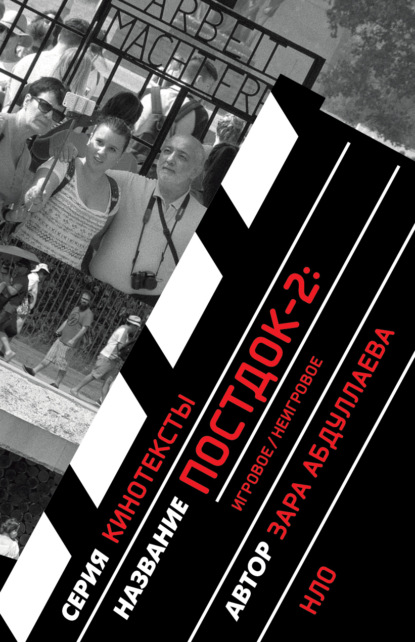По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Постдок-2: Игровое/неигровое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обычно таким методом режиссеры работают с непрофессиональными актерами. Но документалист приглашает актеров, обученных Херманисом, в игровое кино, чтобы добиться уровня достоверности неигрового.
Казалось бы, и так считается, что внимание Херманиса «к пристальному, словно под микроскопом, рассматриванию интимной жизни, – родом из кинодокументалистики, стремящейся запечатлеть фрагмент жизни обычного человека»[17 - Там же. С. 221.]. Однако это «внимание» – лишь первоначальный и первый слой работы с текстом интервью и с актерами. Театральные хроники Нового Рижского театра складываются в живой архив, поскольку в зависимости от реакции зала актерам дозволяется менять отрепетированный текст. Но такие сдвиги назвать импровизацией было бы неправильно. Безмолвная реакция зрителей управляет ходом «Латышских историй», отчего эти спектакли не эксплуатируют отрепетированную достоверность реальных монологов.
Спектакль «Латышская любовь» строился по другому методу. Актеры выбрали газетные объявления о знакомствах и довообразили истории, которые могли бы случиться, если б встреча потенциальных парочек состоялась. Однако текст объявлений, которые актеры читают в начале спектакля до того, как они перевоплотятся в персонажей, становится документальной завязкой для суперусловного зрелища. Молодые актеры в париках, с толщинками играют стариков, пародируют «натуральную достоверность» персонажей, доводя ее до гротеска, который остраняет, но и усугубляет точность наблюдения актеров, их дистанцию по отношению к персонажам. Никакой иллюзии на сцене, никакого натурализма в исполнении. Плохо нарисованные задники (каким-нибудь неудачником-«фотореалистом», или самоучкой, или художником, выдуманным Ильей Кабаковым), на фоне которых разыгрываются ироничные – узнаваемые истории старого художника и бывшей балерины, или немолодых геев, или сексапильной училки и половозрелого ученика, или пожилых хористов на традиционном празднике песни. Плоская «пейзажная живопись» и утрированно сыгранные сценки – среда, где трепещут воспоминания и фантазия в поисках пресловутой реальности, оседающей в сухих строчках газетных объявлений или в документальной основе «Латышских историй».
«Театральный режиссер ведь все время несознательно смотрит вокруг, что украсть можно. И вот нечего украсть. Этот мир так унифицирован. Все едят одни и те же продукты, все одеваются одинаково – Роман Абрамович одевается так же, как мы с тобой. Значит, надо сконцентрироваться на частном человеке»[18 - Херманис А. Указ. соч.]. И нафантазировать, попутно обобщив, его характерные повадки, реплики, пластику.
«Документальный театр – следствие стремления искусства к достоверности не в миметическом, но онтологическом смысле»[19 - Матвиенко К. Кинофикация театра: история и современность. С. 229.]. Постдокументальный – следствие интереса к частным хроникам, удостоверяющим «натуральную условность» новой театральной реальности. И достоверность «нарративов нового типа, в том числе биографических», как в моноспектакле Херманиса и актера Виллиса Даудзиньша «Дед». В нем предпринята «реконструкция событий Второй мировой войны в судьбах отдельных людей, поиск пропавшего деда одного из героев по обе стороны фронта. Параллельно рассматриваются возможности того, что дед был а) красным партизаном, б) легионером, сражавшимся до 1945 года на стороне немцев, и в) легионером из противотанковых частей, случайно, не по своей воле перешедшим на сторону русских, ставшим танкистом и провоевавшим на своем Т-34 до самого взятия Берлина. И каждая из этих возможных версий судьбы деда сыграна убедительно и правдоподобно, хотя то, какова была судьба этого человека „на самом деле“, узнать невозможно. Спектакль заканчивается звонком из архива: сотрудники обнаружили документы, проливающие свет на „подлинную историю“ деда главного героя. Но что это за документы, мы так и не узнаём»[20 - Колмане И. Обустройство опыта // НЛО. 2009. № 2. С. 242.].
Работа с документом и с легендами биографии поручена актеру, который рассказывает про трех солдат, имевших имя его деда, и поочередно превращается из рассказчика в персонажей-антисемитов (один служил в советской армии, другой воевал на стороне фашистов), присваивая (как писатель Эстерхази, переписывающий в архиве отчеты своего любимого отца, оказавшегося сексотом и тем самым разделяя его вину) чужой опыт, ставший «своим».
Третий солдат, находившийся «во время войны и на той и на другой стороне (или ни на одной из них)»[21 - Годер Д. Театр как исследование жизни // Время новостей. 2010. 5 мая. С. 10.], выглядел гораздо менее агрессивным и вполне безопасным. Три версии судьбы, сыгранные с равной достоверностью, засвидетельствовали не только, разумеется, мастерство актера, но поставили вопрос об осмыслении конкретной биографии: реальной и выдуманной. А смерть солдата снимает (искупает) разночтения между документом и легендой.
Сцена заставлена цветами «в горшках, кадках, ящиках, они занимают все пространство, и актер сидит в окружении коробок и мешков с землей и удобрениями», в финале он складывает эти цветы в одном месте «и ‹…› стоит рядом с покрытой цветами горой, будто у свежей могилы»[22 - Там же.]. Эта сценографическая метафора (16 марта в Латвии – день поминовения всех погибших во время войны, на чьей бы стороне они ни воевали) удостоверяет живое и потому тревожное воспоминание – реальный смысл условного спектакля, в котором единственный актер свидетельствует о трех солдатах под одним именем. Иначе говоря, документирует ту художественную реальность, которую не поколеблет даже звонок из архива.
«Рассказы Шукшина», отсылающие – на слух и до просмотра – к нейтральному названию «Латышских историй», сыграны русскими звездами и молодыми замечательными артистами (проект инициирован фестивалем NET («Новый европейский театр»)). В отличие от «Латышских историй», основанных на реальных событиях жизни реальных рижан, доверившихся латышским актерам, которые их рассказали, «Рассказы Шукшина» – совсем другое предприятие. Оно громко вписалось в московскую театральную реальность и обозначило новый контекст режиссуры Херманиса.
Реализация этого проекта – высочайшего класса антрепризы (в безоценочном смысле) – побуждает воспринимать его успех не только как удачу фестивальной инициативы. Дело в том, что этот спектакль ставит множество концептуальных вопросов, небезразличных для понимания современного бытования и кинематографа, и так называемого современного искусства.
Успех «Рассказов Шукшина» невольно и при этом бесконфликтно проявил как реальные ожидания широкой публики, так и предпочтения профессиональной.
Радикальность так называемого современного искусства приватизирована фестивальным кино и театральным рынком. Чуткие художники, режиссеры, конечно, понимают это. Такое положение вещей оставили практикующим авторам как будто две возможности: либо присоединиться к победителям, либо остаться на обочине, расставшись с персональными завоеваниями, взращенными на другой территории, в пространстве иного понимания границ, больше не существующих и потому невоспринимаемых. Возможно, наоборот: эта пограничная территория не воспринимается, поскольку перестала быть значимой. Не случайно Херманис говорит, что ему уже неинтересно собирать и комбинировать реальность, как лего. Отсутствие такого интереса – не только частное признание конкретного режиссера. Он сформулировал общее ощущение: теперь уже неизвестно, где находится питательная среда для конъюнктуры – в «левом» ли арте, имеющем по традиции дивиденды, или же в зрелищном мейнстриме, к которому не без скепсиса относятся европейские режиссеры.
Но «Рассказы Шукшина» – в отличие от такого простейшего разведения – случай не столь тривиальный.
Отвечая перед московской премьерой на вопрос, продолжает ли он в новом спектакле исследовать границы между реальным и вымышленным, режиссер сказал: «Нет, эту границу я покинул год назад. Раньше – да, я думал, что все самое существенное происходит здесь. Театр я не смотрел, только документальные фильмы и кино, которое сделано на этой границе. Но для меня это исчерпанная территория, где грибы уже не растут ‹…› Сейчас я думаю, что документом можно вдохновляться, брать из него материал, но стараться его претворить в как можно более поэтические образы»[23 - Херманис А. Хиппи Шукшина: Интервью Алены Карась // Российская газета. 2008. 17 нояб. С. 9.].
Герои шукшинских рассказов привлекли европейского режиссера тем, что это тексты «про здоровых людей». А при этом еще про чувствительных. Это уникальное сочетание, это «снятое противоречие» между «бедным», жертвенным драматическим искусством, которое он практикует в Риге, и здоровым масскультом, ублажающим столичную публику блестящим качеством, свидетельствует не только о прагматизме рижанина, но об иной ситуации, о которой Херманис, возможно, даже не предполагал. Или которую в виду не имел.
Этот спектакль – это через точку Реалити. Шоу – культурологический парадокс. В «Рассказах Шукшина» с бродвейским блеском, вестэндской техничностью, русской удалью, персональной спортивной гибкостью играют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Играют согбенных, шепелявых стариков, сексуальную дамочку с осиной талией, крутыми бедрами и романтического ухажера, немую девочку и гуляку с самоубийственной душевной стрункой, бесшабашную сплетницу и глумливого отца семейства. И так далее – в десяти шукшинских рассказах, ставших шлягером, восхитившим мастерством на фоне вульгарных столичных антреприз. И на фоне тех спектаклей и фильмов, в которых эти актеры играли отлично, однако в условиях менее точной и не очень осмысленной режиссуры выглядели то выше такой режиссуры, то ниже себя.
Те из европейских кинорежиссеров (как, например, Лукас Мудиссон) или латиноамериканских (скажем, как Алехандро Иньярриту), кто получил возможность работать в Голливуде, имеют репутацию капитулянтов, а то и предателей своего радикального прошлого. Смена персональных целей и биографических стратегий таких режиссеров не кажется привлекательной.
Херманис тоже совершил любопытный зигзаг. Не только раскрыл в заказном проекте грандиозную сноровку знаменитых актеров, отработавших в Москве, а не на Бродвее свой звездный статус, но усложнил стратегию перехода границ, или работы на границе. Не исключено, что свой коммерческий спектакль – не в этическом, а в прямом смысле слова – он выстраивал не «специально». Просто предложение конкретного фестиваля спровоцировало условия игры, соответствующие ожиданиям заказчиков. Но эти условия совпали на новом этапе биографии с интересами самого Херманиса. А также – с духом нового для него места и общего для нас времени.
Следует напомнить, что одним из фундаментальных свойств режиссуры этого европейца, его прежней – «новой театральной» – реальности была дистанция. Когда Херманис работал на границе документа и вымысла, гротеска и реализма, когда вводил в один спектакль профессионалов и аматёров, когда персонажу-женщине, которого играл актер-мужчина, предоставлял партнера, комментирующего ее (и его) пантомиму, когда деликатно вставлял в рассказы актеров о реальных рижанах переход от первого лица к третьему, именно дистанция определяла драматические отношения актера с персонажем, а сцены – с залом. В «Долгой жизни», «Соне», «Латышских историях», «Звуке тишины» он использовал дистанцию по-разному, но – как открытый прием, позволяющий в непохожих спектаклях ее преодолеть. Усугубленная условность открывала простор для воображения не только театральной реальности.
«Рассказы Шукшина», в которые Херманис ввел знакомые и уже полюбившиеся акценты своей режиссуры, пребывают в ограниченном пространстве уже только сценической реальности. Это обстоятельство обеспечило желанную, несмотря на все еще раздающиеся то там, то тут «жалобы турка», сладость чистого развлечения, первоклассного аттракциона и того здорового начала, которое режиссер разглядел в шукшинских персонажах, а публика приняла за искусство (вообще, а не только массовое). Именно «искусства» недоставало столичной публике, несмотря на восторг профессионалов, в его рижских спектаклях, которые неправомерно сравнивали с опусами Театра. doc или с имитацией студенческих показов. Удивительно, что те же критики, которых заставили вздрогнуть рижские спектакли, приняли на ура и «Рассказы Шукшина».
Дистанция и граница как фундаментальные понятия теории искусства приказали тут долго жить. Конечно, те принципы, по которым создавались и воспринимались разные «тексты» по обеим сторонам границы, как и старинное «разделение труда» на игровое, скажем, кино и неигровое, уже давно стали предметом пустопорожних дискуссий. Ведь все самое проблемное, рефлексивное находится в пограничной зоне. Именно пограничные зоны являлись не одно десятилетие колоссальным источником фиксации становящейся реальности. А также побуждали размышлять о том, что находится внутри этих границ, а что – вовне. Какова природа изменения авторской позиции, новых способов восприятия произведений, расшифровки их культурных, социальных и художественных задач.
Дистанция как важнейший инструмент создания, восприятия, декодирования художественных языков оставалась сильнейшим, если не единственным (психологическим) механизмом, с помощью которого человек осуществлял выход из миметического – обыденного – мира в мир собственно художественных смыслов, включая пространство бессилия или пустотных зон. В ситуации уничтожения или слипания разного рода границ роль дистанции и, соответственно, чувства дистанции, казалось бы, повышается. Она как бы сигналит о переходе из одного типа текста или изображения, или текста-изображения в совершенно другой.
Поставив «Рассказы Шукшина» за границей, Херманис – после рижского опыта – использовал ресурсы дистанции в противоположных целях. Энергичный спектакль, выстроенный на ослепительных мизансценах, превращает режиссерскую дистанцию, актерское отстранение в прием, неизменно – по окончании того или иного «номера», выхода, реплики – требующий аплодисментов публики. Но череда доходчиво спроектированных дистанций (текста, исполнительских техник, фотореализма, фольклорной музыки), представленных и спрессованных в «Рассказах Шукшина», становится здесь декоративной приметой или даже виньеткой фирменного режиссерского стиля. Дистанция вроде есть, но в то же время ее словно бы и нет. Или она играет необычную для себя роль. Найдя позицию, Херманис оказался одновременно внутри и вне избранного материала. Столкнув фотопортреты натуральных сельских жителей с геморроидальными, морщинистыми и гладкими лицами, портреты выразительных старух и молодух, беззубых или с золотыми зубами стариков, фотографии «поэтических», будто из календаря, пейзажей, минималистскую сценическую площадку и актеров в дизайнерских или с чужого плеча костюмах, Херманис сделал суперусловный спектакль. Но замкнул его в иллюзионистскую театральную коробку. Таким образом он предъявил – звучит как оксюморон – концептуальную антрепризу, которая так обрадовала столичный истеблишмент.
Херманис вписал концептуальное искусство в масскульт. Для этого он огламурил гротескный гиперреализм сценического действия, превратил (в сравнении с «Латышскими историями») сдвиг между рассказом от первого и третьего лица, между «словом и изображением»[24 - В рассказе «Степкина любовь» две актрисы, лузгая семечки, частят текст о роскошной девице в сапогах, которая тут же, на сцене, фигуряет в туфельках; в рассказе «Игнат вернулся» нам рассказывают, как приехал герой в деревню в черном костюме, а показывают его – в сером.] всего лишь в смешную краску. Не случайно «Рассказы Шукшина» стали дорогим (сердцам зрителей и по билетным ценам) коммерческим продуктом.
Именно дистанция между щитовыми фотографиями задника – портретами реальных жителей села Сростки – и актерами, которые играют шукшинских персонажей (включая корову с колокольчиком) в громадном возрастном диапазоне, в разной пластике, на разные голоса, между рассказом и показом как будто бы организует режиссуру Херманиса. Но при этом она рассеивается, не тревожит, не трогает, не раздражает. Публика наслаждается невероятным перевоплощением звезд и сверхчутких актеров, шукшинским текстом, фотографией Шукшина, появившейся ближе к финалу на заднике, супергротескными мизансценами на фоне фотореализма[25 - На пейзаже, который служит задником в рассказе «Игнат вернулся», изображены три селянина спиной к зрителям, лицом к «дали». Когда же персонажи Шукшина «шли молча» (этот текст доносится со сцены), актеры, игравшие людей, уходящих вдаль, садятся на скамью спиной к залу, лицом – к спинам фигурантов на заднике, рифмуя – в этой мизансцене у огней рампы и на рекламном фото – зрелищную реальность «другой мифологии».], напомнившего рекламу «Бенеттона». Так Алвис Херманис и фотограф Моника Пормале, которые, напоминает режиссер, «вообще иностранцы, то есть люди со стороны», награждают антрепризу статусом шикарного предприятия, акцентируя, вопреки указанию режиссера в программке, не два разных мира – «сегодняшний и тот, чужой для современной Москвы», а исключительно «этот», единый и неделимый.
Последний, как уведомил Херманис, из цикла его (пост)документальных спектаклей – «Кладбищенские посиделки». Или «Вечеринка на кладбище» – под таким названием он был показан в Москве на фестивале «Сезон Станиславского» (2010). Спектакль о латышском «дне поминовения», когда в летние дни люди собираются на могилах, встречаются с родственниками, друзьями и предаются воспоминаниям.
На стульях сидят актеры с духовыми инструментами, как бы участники похоронного оркестра. И – рассказывают кладбищенские истории. Выпивают, закусывают, будто на кладбище. И – играют на своих инструментах. За оркестром – экран, на котором (пандан воспоминаниям солистов) сменяются черно-белые фотографии, снятые Мартинсом Граудсом на столь популярных в Латвии посиделках.
Анекдоты, случаи окрашены вовсе не черным, а просветленным и даже жизнеутверждающим юмором. Воспоминания «оркестрантов», за которыми ощущается хор других голосов, – с них-то и записывались тексты, которые звучат как фольклорные рассказы. Отстраняются же они актерами, исполняющими музыкальные фрагменты из репертуара похоронных оркестров.
Актеры драматического театра, участники спектакля, в котором действия в традиционном смысле нет, впервые взяв в руки духовые инструменты, играют фальшиво, как, собственно, в реальности и бывает, за исключением похорон какого-нибудь государственного человека. Тут рассказывают, например, как родственники заказывают любимые мелодии покойников. И – озвучивают их. Поэтому «Yesterday» битлов в подобном самодеятельном исполнении единственно верно во избежание уже сценической, а не музыкальной фальши. Зрители узнают, что во время таких кладбищенских посиделок, к которым рижане готовятся загодя, наряжаясь, запасаясь скатертями, чтобы расстелить на травке у могил, музыканты отлично зарабатывали и подкреплялись. Так длилось до 1991 года, когда и деньги у населения перевелись, и похоронные бюро вынуждены были предлагать вместо живой музыки синтезатор.
Обыденная мифология в этих фольклорных, документально зафиксированных историях, иронически отчужденных актерами, искрит чудесными нюансами, милейшими подробностями. Например, на могилах католиков во время праздников полно еды. А у лютеран нет ничего. Зато крест лютеране ставят покойникам в ногах, чтобы легче было, поднявшись и ухватившись за него, пойти на Страшный суд. На могилах же католиков крест ставят в головах, что, конечно, затрудняет опору покойничков в их движении, «восстании масс» из могил. Подмечен в этих латышских историях и «возраст призыва» на тот свет: сорок пять – пятьдесят лет. Кто остался жив, протянет еще лет десять, двадцать.
Целая поэма в прозе посвящена емкостям для кладбищенских цветов: после войны это были гильзы, потом банки или вазочки, которые, впрочем, воровали, теперь – бутылки из-под кока-колы.
Вспоминают они и советское время, названное латышскими актерами «русским», когда приходилось визировать текст «прощального слова» на похоронах. Но горечь звучит только в истории про славное похоронное бюро «Вечность», действующее через больничных «сексотов» для перехвата мертвых клиентов.
Антропологический опыт, собранный Херманисом и его актерами в воспоминаниях соотечественников, транслирует образ времени, места, ритуалов похорон и посмертных обрядов в документальных фотографиях и сценической рефлексии, дистанцирующей фольклорные тексты трогательной иронией актеров.
После спектакля
Салон автобуса. Чешские актеры травят байки по пути на гастроли, во время которых покажут спектакль по роману «Братья Карамазовы». Один анекдот заимствован из документального фильма о потомке Достоевского, водителе троллейбуса в Петербурге, которого пригласили в Германию на конференцию по творчеству его предка. Не зная ничего о своем великом «однофамильце» и не говоря на иностранных языках, он на конференцию поехал, почему-то (водитель все-таки) уверенный, что получит в награду «Мерседес».
Таков пролог фильма Петра Зеленки «Карамазовы» (2008), намечающий, на первый взгляд, пересекающиеся границы между нон-фикшн и фикшн, игровым и парадокументальным пространством, но, в сущности, – между разными зонами условности.
Репетиции спектакля чешской труппы, то есть документация проекта, показанного на фестивале, девиз которого «Ближе к жизни», пройдут в Новой Гуте, в руинах сталелитейного завода, где еще работают некоторые цеха, – на идеальной площадке современного искусства.
Актеры и режиссер осваиваются в импровизированных гримерках, раздолбанных душевых, принимающая сторона в лице девушки Каси, менеджера театрального фестиваля, знакомит своих подопечных с историей завода.
Второй пролог обозначает еще одну зону пограничного взаимодействия: чешские актеры не знают ни польского, ни английского языка, на котором работает с иностранными актерами Кася, предвещая новую преграду для коммуникации.
Репетиции (и спектакль, который кинозрители не увидят) пройдут в громадном цеху. Металлическая дверь пожарного театрального занавеса – метафора железного – поднимается, открывая сценическую и одновременно съемочную площадку.
Ответственный за безопасность предлагает актерам работать в разрушенном помещении в касках. Кася рассказывает о недавнем несчастном случае: с подвесных мостков сорвался сын одного из рабочих завода и сломал позвоночник. Камера Зеленки направляется к этому рабочему; он будет постоянно присутствовать на репетициях, иногда оказываясь случайным участником мизансцены (действие спектакля разворачивается не только на подмостках, но и по всему заводу). Таким образом в документальную хронику репетиций внедряется посторонний, а именно игровой сюжет.
Трехчастная форма драмы, зависшей между закулисной историей актеров, историей польского рабочего и романной интригой на подмостках завода, составляет межжанровую структуру фильма. Пролог вводит в документальную стилистику съемок театральных репетиций, «по случайности» связанных с внесценическими событиями, которые – параллельно фрагментам инсценированного романа – составят драматургический конфликт этих «Карамазовых».
Таким образом, девиз театрального фестиваля («Ближе к жизни») реализуется в фильме Зеленки в своем буквальном и непредсказуемом смысле.
Центральная часть – репетиции чешского спектакля – окажется рамкой для пунктирного квазидокументального (по ту сторону сцены) сюжета о польском рабочем. Эта «реальная история отца с сыном», за жизнь которого – во время репетиций – борются за кулисами, в больнице, отзывается вымышленной историей героев Достоевского, разыгранной актерами на заводе.
Эпилог фильма порождает новую коллизию между историей на подмостках и историей внесценической. В эпилоге фильма «Карамазовы» протагонистом оказывается случайный зритель репетиций спектакля, человек из публики, а зрителями «новой драмы», совпавшей с «драмой жизни», становятся актеры, покидающие сценическую и съемочную площадку завода.
Эти две истории (одну ставил театральный режиссер, а снимал режиссер игрового кино, другую – тот же Петр Зеленка, работающий и как документалист) сплетаются в прозрачную конструкцию, благодаря которой проблематизируются разные типы условности. Театральная и кинематографическая. При этом он не разрушает, а только сдвигает границы театральных репетиций (в одном из эпизодов актеры в ролях Ивана и Смердякова продолжают диалог во дворе завода, уже как персонажи фильма и без присмотра театрального режиссера, оставшегося в стенах завода). При этом Зеленка включает польского рабочего в пространство театральных мизансцен, то есть наделяет ролью, с которой будут взаимодействовать актеры в ролях актеров, а не сценических персонажей.
Текст Достоевского для героев (актеров и зрителей спектакля) этого фильма играет ту же роль, что и практика verbatim для персонажей (актеров, записывающих интервью своих прототипов) документального театра. Но аутентичность, иначе говоря, художественная правда игрового материала поверяется тут историей «настоящего» рабочего и его восприятием инсценировки Достоевского. Таким образом, отношения между двумя условными мирами сопрягаются и дистанцируются друг от друга, порождая впечатление неигровой и недокументальной конструкции. Это впечатление возникает за счет контрапункта между заимствованным, заученным текстом (чужой речью) актеров и событием в жизни киноперсонажа, становящимся к финалу действующим лицом, а не пассивным, хотя и внимательным зрителем репетиций.
Репетицию сцены Грушеньки с Митей, обвиненным в убийстве отца, Зеленка сопрягает с моментом, когда рабочему-поляку сообщают о смерти его сына. Звонит мобильный телефон. У рабочего падает из рук молоток. Чуть заметное замешательство репетирующих актеров. Камера направляется к рабочему и следует за ним «за кулисы», в душевую, где не участвующий в этой репетиции чешский актер репетирует фокусы (для, возможно, какого-то другого представления).
Следующая сцена – другое закулисье с актерами, отработавшими сцену, во время которой раздался звонок мобильного телефона. Кася объясняет, хотя актеры уже догадались, что сын рабочего умер. И что фестивальный девиз «Ближе к жизни» – «плохая» идея. Рабочий в душевой достает заначку, выпивает. За кадром слышен текст следующей сцены – крик капитана Снегирева. Безмолвный шок рабочего за сценой озвучивается закадровым криком актера в роли отца Илюшечки Снегирева.
Рабочий возвращается в цех и просит продолжать репетицию. Следующая сцена – речь Мити на суде, фрагмент текста о том, что он невиновен в смерти отца. Актер в роли Мити, отыгравший свою сцену, сомневается в подлинности «настоящей» трагедии, случившейся на заводе: «Если б у меня умер сын, – говорит он партнеру, – я бы не смотрел эту пьесу».
Казалось бы, и так считается, что внимание Херманиса «к пристальному, словно под микроскопом, рассматриванию интимной жизни, – родом из кинодокументалистики, стремящейся запечатлеть фрагмент жизни обычного человека»[17 - Там же. С. 221.]. Однако это «внимание» – лишь первоначальный и первый слой работы с текстом интервью и с актерами. Театральные хроники Нового Рижского театра складываются в живой архив, поскольку в зависимости от реакции зала актерам дозволяется менять отрепетированный текст. Но такие сдвиги назвать импровизацией было бы неправильно. Безмолвная реакция зрителей управляет ходом «Латышских историй», отчего эти спектакли не эксплуатируют отрепетированную достоверность реальных монологов.
Спектакль «Латышская любовь» строился по другому методу. Актеры выбрали газетные объявления о знакомствах и довообразили истории, которые могли бы случиться, если б встреча потенциальных парочек состоялась. Однако текст объявлений, которые актеры читают в начале спектакля до того, как они перевоплотятся в персонажей, становится документальной завязкой для суперусловного зрелища. Молодые актеры в париках, с толщинками играют стариков, пародируют «натуральную достоверность» персонажей, доводя ее до гротеска, который остраняет, но и усугубляет точность наблюдения актеров, их дистанцию по отношению к персонажам. Никакой иллюзии на сцене, никакого натурализма в исполнении. Плохо нарисованные задники (каким-нибудь неудачником-«фотореалистом», или самоучкой, или художником, выдуманным Ильей Кабаковым), на фоне которых разыгрываются ироничные – узнаваемые истории старого художника и бывшей балерины, или немолодых геев, или сексапильной училки и половозрелого ученика, или пожилых хористов на традиционном празднике песни. Плоская «пейзажная живопись» и утрированно сыгранные сценки – среда, где трепещут воспоминания и фантазия в поисках пресловутой реальности, оседающей в сухих строчках газетных объявлений или в документальной основе «Латышских историй».
«Театральный режиссер ведь все время несознательно смотрит вокруг, что украсть можно. И вот нечего украсть. Этот мир так унифицирован. Все едят одни и те же продукты, все одеваются одинаково – Роман Абрамович одевается так же, как мы с тобой. Значит, надо сконцентрироваться на частном человеке»[18 - Херманис А. Указ. соч.]. И нафантазировать, попутно обобщив, его характерные повадки, реплики, пластику.
«Документальный театр – следствие стремления искусства к достоверности не в миметическом, но онтологическом смысле»[19 - Матвиенко К. Кинофикация театра: история и современность. С. 229.]. Постдокументальный – следствие интереса к частным хроникам, удостоверяющим «натуральную условность» новой театральной реальности. И достоверность «нарративов нового типа, в том числе биографических», как в моноспектакле Херманиса и актера Виллиса Даудзиньша «Дед». В нем предпринята «реконструкция событий Второй мировой войны в судьбах отдельных людей, поиск пропавшего деда одного из героев по обе стороны фронта. Параллельно рассматриваются возможности того, что дед был а) красным партизаном, б) легионером, сражавшимся до 1945 года на стороне немцев, и в) легионером из противотанковых частей, случайно, не по своей воле перешедшим на сторону русских, ставшим танкистом и провоевавшим на своем Т-34 до самого взятия Берлина. И каждая из этих возможных версий судьбы деда сыграна убедительно и правдоподобно, хотя то, какова была судьба этого человека „на самом деле“, узнать невозможно. Спектакль заканчивается звонком из архива: сотрудники обнаружили документы, проливающие свет на „подлинную историю“ деда главного героя. Но что это за документы, мы так и не узнаём»[20 - Колмане И. Обустройство опыта // НЛО. 2009. № 2. С. 242.].
Работа с документом и с легендами биографии поручена актеру, который рассказывает про трех солдат, имевших имя его деда, и поочередно превращается из рассказчика в персонажей-антисемитов (один служил в советской армии, другой воевал на стороне фашистов), присваивая (как писатель Эстерхази, переписывающий в архиве отчеты своего любимого отца, оказавшегося сексотом и тем самым разделяя его вину) чужой опыт, ставший «своим».
Третий солдат, находившийся «во время войны и на той и на другой стороне (или ни на одной из них)»[21 - Годер Д. Театр как исследование жизни // Время новостей. 2010. 5 мая. С. 10.], выглядел гораздо менее агрессивным и вполне безопасным. Три версии судьбы, сыгранные с равной достоверностью, засвидетельствовали не только, разумеется, мастерство актера, но поставили вопрос об осмыслении конкретной биографии: реальной и выдуманной. А смерть солдата снимает (искупает) разночтения между документом и легендой.
Сцена заставлена цветами «в горшках, кадках, ящиках, они занимают все пространство, и актер сидит в окружении коробок и мешков с землей и удобрениями», в финале он складывает эти цветы в одном месте «и ‹…› стоит рядом с покрытой цветами горой, будто у свежей могилы»[22 - Там же.]. Эта сценографическая метафора (16 марта в Латвии – день поминовения всех погибших во время войны, на чьей бы стороне они ни воевали) удостоверяет живое и потому тревожное воспоминание – реальный смысл условного спектакля, в котором единственный актер свидетельствует о трех солдатах под одним именем. Иначе говоря, документирует ту художественную реальность, которую не поколеблет даже звонок из архива.
«Рассказы Шукшина», отсылающие – на слух и до просмотра – к нейтральному названию «Латышских историй», сыграны русскими звездами и молодыми замечательными артистами (проект инициирован фестивалем NET («Новый европейский театр»)). В отличие от «Латышских историй», основанных на реальных событиях жизни реальных рижан, доверившихся латышским актерам, которые их рассказали, «Рассказы Шукшина» – совсем другое предприятие. Оно громко вписалось в московскую театральную реальность и обозначило новый контекст режиссуры Херманиса.
Реализация этого проекта – высочайшего класса антрепризы (в безоценочном смысле) – побуждает воспринимать его успех не только как удачу фестивальной инициативы. Дело в том, что этот спектакль ставит множество концептуальных вопросов, небезразличных для понимания современного бытования и кинематографа, и так называемого современного искусства.
Успех «Рассказов Шукшина» невольно и при этом бесконфликтно проявил как реальные ожидания широкой публики, так и предпочтения профессиональной.
Радикальность так называемого современного искусства приватизирована фестивальным кино и театральным рынком. Чуткие художники, режиссеры, конечно, понимают это. Такое положение вещей оставили практикующим авторам как будто две возможности: либо присоединиться к победителям, либо остаться на обочине, расставшись с персональными завоеваниями, взращенными на другой территории, в пространстве иного понимания границ, больше не существующих и потому невоспринимаемых. Возможно, наоборот: эта пограничная территория не воспринимается, поскольку перестала быть значимой. Не случайно Херманис говорит, что ему уже неинтересно собирать и комбинировать реальность, как лего. Отсутствие такого интереса – не только частное признание конкретного режиссера. Он сформулировал общее ощущение: теперь уже неизвестно, где находится питательная среда для конъюнктуры – в «левом» ли арте, имеющем по традиции дивиденды, или же в зрелищном мейнстриме, к которому не без скепсиса относятся европейские режиссеры.
Но «Рассказы Шукшина» – в отличие от такого простейшего разведения – случай не столь тривиальный.
Отвечая перед московской премьерой на вопрос, продолжает ли он в новом спектакле исследовать границы между реальным и вымышленным, режиссер сказал: «Нет, эту границу я покинул год назад. Раньше – да, я думал, что все самое существенное происходит здесь. Театр я не смотрел, только документальные фильмы и кино, которое сделано на этой границе. Но для меня это исчерпанная территория, где грибы уже не растут ‹…› Сейчас я думаю, что документом можно вдохновляться, брать из него материал, но стараться его претворить в как можно более поэтические образы»[23 - Херманис А. Хиппи Шукшина: Интервью Алены Карась // Российская газета. 2008. 17 нояб. С. 9.].
Герои шукшинских рассказов привлекли европейского режиссера тем, что это тексты «про здоровых людей». А при этом еще про чувствительных. Это уникальное сочетание, это «снятое противоречие» между «бедным», жертвенным драматическим искусством, которое он практикует в Риге, и здоровым масскультом, ублажающим столичную публику блестящим качеством, свидетельствует не только о прагматизме рижанина, но об иной ситуации, о которой Херманис, возможно, даже не предполагал. Или которую в виду не имел.
Этот спектакль – это через точку Реалити. Шоу – культурологический парадокс. В «Рассказах Шукшина» с бродвейским блеском, вестэндской техничностью, русской удалью, персональной спортивной гибкостью играют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Играют согбенных, шепелявых стариков, сексуальную дамочку с осиной талией, крутыми бедрами и романтического ухажера, немую девочку и гуляку с самоубийственной душевной стрункой, бесшабашную сплетницу и глумливого отца семейства. И так далее – в десяти шукшинских рассказах, ставших шлягером, восхитившим мастерством на фоне вульгарных столичных антреприз. И на фоне тех спектаклей и фильмов, в которых эти актеры играли отлично, однако в условиях менее точной и не очень осмысленной режиссуры выглядели то выше такой режиссуры, то ниже себя.
Те из европейских кинорежиссеров (как, например, Лукас Мудиссон) или латиноамериканских (скажем, как Алехандро Иньярриту), кто получил возможность работать в Голливуде, имеют репутацию капитулянтов, а то и предателей своего радикального прошлого. Смена персональных целей и биографических стратегий таких режиссеров не кажется привлекательной.
Херманис тоже совершил любопытный зигзаг. Не только раскрыл в заказном проекте грандиозную сноровку знаменитых актеров, отработавших в Москве, а не на Бродвее свой звездный статус, но усложнил стратегию перехода границ, или работы на границе. Не исключено, что свой коммерческий спектакль – не в этическом, а в прямом смысле слова – он выстраивал не «специально». Просто предложение конкретного фестиваля спровоцировало условия игры, соответствующие ожиданиям заказчиков. Но эти условия совпали на новом этапе биографии с интересами самого Херманиса. А также – с духом нового для него места и общего для нас времени.
Следует напомнить, что одним из фундаментальных свойств режиссуры этого европейца, его прежней – «новой театральной» – реальности была дистанция. Когда Херманис работал на границе документа и вымысла, гротеска и реализма, когда вводил в один спектакль профессионалов и аматёров, когда персонажу-женщине, которого играл актер-мужчина, предоставлял партнера, комментирующего ее (и его) пантомиму, когда деликатно вставлял в рассказы актеров о реальных рижанах переход от первого лица к третьему, именно дистанция определяла драматические отношения актера с персонажем, а сцены – с залом. В «Долгой жизни», «Соне», «Латышских историях», «Звуке тишины» он использовал дистанцию по-разному, но – как открытый прием, позволяющий в непохожих спектаклях ее преодолеть. Усугубленная условность открывала простор для воображения не только театральной реальности.
«Рассказы Шукшина», в которые Херманис ввел знакомые и уже полюбившиеся акценты своей режиссуры, пребывают в ограниченном пространстве уже только сценической реальности. Это обстоятельство обеспечило желанную, несмотря на все еще раздающиеся то там, то тут «жалобы турка», сладость чистого развлечения, первоклассного аттракциона и того здорового начала, которое режиссер разглядел в шукшинских персонажах, а публика приняла за искусство (вообще, а не только массовое). Именно «искусства» недоставало столичной публике, несмотря на восторг профессионалов, в его рижских спектаклях, которые неправомерно сравнивали с опусами Театра. doc или с имитацией студенческих показов. Удивительно, что те же критики, которых заставили вздрогнуть рижские спектакли, приняли на ура и «Рассказы Шукшина».
Дистанция и граница как фундаментальные понятия теории искусства приказали тут долго жить. Конечно, те принципы, по которым создавались и воспринимались разные «тексты» по обеим сторонам границы, как и старинное «разделение труда» на игровое, скажем, кино и неигровое, уже давно стали предметом пустопорожних дискуссий. Ведь все самое проблемное, рефлексивное находится в пограничной зоне. Именно пограничные зоны являлись не одно десятилетие колоссальным источником фиксации становящейся реальности. А также побуждали размышлять о том, что находится внутри этих границ, а что – вовне. Какова природа изменения авторской позиции, новых способов восприятия произведений, расшифровки их культурных, социальных и художественных задач.
Дистанция как важнейший инструмент создания, восприятия, декодирования художественных языков оставалась сильнейшим, если не единственным (психологическим) механизмом, с помощью которого человек осуществлял выход из миметического – обыденного – мира в мир собственно художественных смыслов, включая пространство бессилия или пустотных зон. В ситуации уничтожения или слипания разного рода границ роль дистанции и, соответственно, чувства дистанции, казалось бы, повышается. Она как бы сигналит о переходе из одного типа текста или изображения, или текста-изображения в совершенно другой.
Поставив «Рассказы Шукшина» за границей, Херманис – после рижского опыта – использовал ресурсы дистанции в противоположных целях. Энергичный спектакль, выстроенный на ослепительных мизансценах, превращает режиссерскую дистанцию, актерское отстранение в прием, неизменно – по окончании того или иного «номера», выхода, реплики – требующий аплодисментов публики. Но череда доходчиво спроектированных дистанций (текста, исполнительских техник, фотореализма, фольклорной музыки), представленных и спрессованных в «Рассказах Шукшина», становится здесь декоративной приметой или даже виньеткой фирменного режиссерского стиля. Дистанция вроде есть, но в то же время ее словно бы и нет. Или она играет необычную для себя роль. Найдя позицию, Херманис оказался одновременно внутри и вне избранного материала. Столкнув фотопортреты натуральных сельских жителей с геморроидальными, морщинистыми и гладкими лицами, портреты выразительных старух и молодух, беззубых или с золотыми зубами стариков, фотографии «поэтических», будто из календаря, пейзажей, минималистскую сценическую площадку и актеров в дизайнерских или с чужого плеча костюмах, Херманис сделал суперусловный спектакль. Но замкнул его в иллюзионистскую театральную коробку. Таким образом он предъявил – звучит как оксюморон – концептуальную антрепризу, которая так обрадовала столичный истеблишмент.
Херманис вписал концептуальное искусство в масскульт. Для этого он огламурил гротескный гиперреализм сценического действия, превратил (в сравнении с «Латышскими историями») сдвиг между рассказом от первого и третьего лица, между «словом и изображением»[24 - В рассказе «Степкина любовь» две актрисы, лузгая семечки, частят текст о роскошной девице в сапогах, которая тут же, на сцене, фигуряет в туфельках; в рассказе «Игнат вернулся» нам рассказывают, как приехал герой в деревню в черном костюме, а показывают его – в сером.] всего лишь в смешную краску. Не случайно «Рассказы Шукшина» стали дорогим (сердцам зрителей и по билетным ценам) коммерческим продуктом.
Именно дистанция между щитовыми фотографиями задника – портретами реальных жителей села Сростки – и актерами, которые играют шукшинских персонажей (включая корову с колокольчиком) в громадном возрастном диапазоне, в разной пластике, на разные голоса, между рассказом и показом как будто бы организует режиссуру Херманиса. Но при этом она рассеивается, не тревожит, не трогает, не раздражает. Публика наслаждается невероятным перевоплощением звезд и сверхчутких актеров, шукшинским текстом, фотографией Шукшина, появившейся ближе к финалу на заднике, супергротескными мизансценами на фоне фотореализма[25 - На пейзаже, который служит задником в рассказе «Игнат вернулся», изображены три селянина спиной к зрителям, лицом к «дали». Когда же персонажи Шукшина «шли молча» (этот текст доносится со сцены), актеры, игравшие людей, уходящих вдаль, садятся на скамью спиной к залу, лицом – к спинам фигурантов на заднике, рифмуя – в этой мизансцене у огней рампы и на рекламном фото – зрелищную реальность «другой мифологии».], напомнившего рекламу «Бенеттона». Так Алвис Херманис и фотограф Моника Пормале, которые, напоминает режиссер, «вообще иностранцы, то есть люди со стороны», награждают антрепризу статусом шикарного предприятия, акцентируя, вопреки указанию режиссера в программке, не два разных мира – «сегодняшний и тот, чужой для современной Москвы», а исключительно «этот», единый и неделимый.
Последний, как уведомил Херманис, из цикла его (пост)документальных спектаклей – «Кладбищенские посиделки». Или «Вечеринка на кладбище» – под таким названием он был показан в Москве на фестивале «Сезон Станиславского» (2010). Спектакль о латышском «дне поминовения», когда в летние дни люди собираются на могилах, встречаются с родственниками, друзьями и предаются воспоминаниям.
На стульях сидят актеры с духовыми инструментами, как бы участники похоронного оркестра. И – рассказывают кладбищенские истории. Выпивают, закусывают, будто на кладбище. И – играют на своих инструментах. За оркестром – экран, на котором (пандан воспоминаниям солистов) сменяются черно-белые фотографии, снятые Мартинсом Граудсом на столь популярных в Латвии посиделках.
Анекдоты, случаи окрашены вовсе не черным, а просветленным и даже жизнеутверждающим юмором. Воспоминания «оркестрантов», за которыми ощущается хор других голосов, – с них-то и записывались тексты, которые звучат как фольклорные рассказы. Отстраняются же они актерами, исполняющими музыкальные фрагменты из репертуара похоронных оркестров.
Актеры драматического театра, участники спектакля, в котором действия в традиционном смысле нет, впервые взяв в руки духовые инструменты, играют фальшиво, как, собственно, в реальности и бывает, за исключением похорон какого-нибудь государственного человека. Тут рассказывают, например, как родственники заказывают любимые мелодии покойников. И – озвучивают их. Поэтому «Yesterday» битлов в подобном самодеятельном исполнении единственно верно во избежание уже сценической, а не музыкальной фальши. Зрители узнают, что во время таких кладбищенских посиделок, к которым рижане готовятся загодя, наряжаясь, запасаясь скатертями, чтобы расстелить на травке у могил, музыканты отлично зарабатывали и подкреплялись. Так длилось до 1991 года, когда и деньги у населения перевелись, и похоронные бюро вынуждены были предлагать вместо живой музыки синтезатор.
Обыденная мифология в этих фольклорных, документально зафиксированных историях, иронически отчужденных актерами, искрит чудесными нюансами, милейшими подробностями. Например, на могилах католиков во время праздников полно еды. А у лютеран нет ничего. Зато крест лютеране ставят покойникам в ногах, чтобы легче было, поднявшись и ухватившись за него, пойти на Страшный суд. На могилах же католиков крест ставят в головах, что, конечно, затрудняет опору покойничков в их движении, «восстании масс» из могил. Подмечен в этих латышских историях и «возраст призыва» на тот свет: сорок пять – пятьдесят лет. Кто остался жив, протянет еще лет десять, двадцать.
Целая поэма в прозе посвящена емкостям для кладбищенских цветов: после войны это были гильзы, потом банки или вазочки, которые, впрочем, воровали, теперь – бутылки из-под кока-колы.
Вспоминают они и советское время, названное латышскими актерами «русским», когда приходилось визировать текст «прощального слова» на похоронах. Но горечь звучит только в истории про славное похоронное бюро «Вечность», действующее через больничных «сексотов» для перехвата мертвых клиентов.
Антропологический опыт, собранный Херманисом и его актерами в воспоминаниях соотечественников, транслирует образ времени, места, ритуалов похорон и посмертных обрядов в документальных фотографиях и сценической рефлексии, дистанцирующей фольклорные тексты трогательной иронией актеров.
После спектакля
Салон автобуса. Чешские актеры травят байки по пути на гастроли, во время которых покажут спектакль по роману «Братья Карамазовы». Один анекдот заимствован из документального фильма о потомке Достоевского, водителе троллейбуса в Петербурге, которого пригласили в Германию на конференцию по творчеству его предка. Не зная ничего о своем великом «однофамильце» и не говоря на иностранных языках, он на конференцию поехал, почему-то (водитель все-таки) уверенный, что получит в награду «Мерседес».
Таков пролог фильма Петра Зеленки «Карамазовы» (2008), намечающий, на первый взгляд, пересекающиеся границы между нон-фикшн и фикшн, игровым и парадокументальным пространством, но, в сущности, – между разными зонами условности.
Репетиции спектакля чешской труппы, то есть документация проекта, показанного на фестивале, девиз которого «Ближе к жизни», пройдут в Новой Гуте, в руинах сталелитейного завода, где еще работают некоторые цеха, – на идеальной площадке современного искусства.
Актеры и режиссер осваиваются в импровизированных гримерках, раздолбанных душевых, принимающая сторона в лице девушки Каси, менеджера театрального фестиваля, знакомит своих подопечных с историей завода.
Второй пролог обозначает еще одну зону пограничного взаимодействия: чешские актеры не знают ни польского, ни английского языка, на котором работает с иностранными актерами Кася, предвещая новую преграду для коммуникации.
Репетиции (и спектакль, который кинозрители не увидят) пройдут в громадном цеху. Металлическая дверь пожарного театрального занавеса – метафора железного – поднимается, открывая сценическую и одновременно съемочную площадку.
Ответственный за безопасность предлагает актерам работать в разрушенном помещении в касках. Кася рассказывает о недавнем несчастном случае: с подвесных мостков сорвался сын одного из рабочих завода и сломал позвоночник. Камера Зеленки направляется к этому рабочему; он будет постоянно присутствовать на репетициях, иногда оказываясь случайным участником мизансцены (действие спектакля разворачивается не только на подмостках, но и по всему заводу). Таким образом в документальную хронику репетиций внедряется посторонний, а именно игровой сюжет.
Трехчастная форма драмы, зависшей между закулисной историей актеров, историей польского рабочего и романной интригой на подмостках завода, составляет межжанровую структуру фильма. Пролог вводит в документальную стилистику съемок театральных репетиций, «по случайности» связанных с внесценическими событиями, которые – параллельно фрагментам инсценированного романа – составят драматургический конфликт этих «Карамазовых».
Таким образом, девиз театрального фестиваля («Ближе к жизни») реализуется в фильме Зеленки в своем буквальном и непредсказуемом смысле.
Центральная часть – репетиции чешского спектакля – окажется рамкой для пунктирного квазидокументального (по ту сторону сцены) сюжета о польском рабочем. Эта «реальная история отца с сыном», за жизнь которого – во время репетиций – борются за кулисами, в больнице, отзывается вымышленной историей героев Достоевского, разыгранной актерами на заводе.
Эпилог фильма порождает новую коллизию между историей на подмостках и историей внесценической. В эпилоге фильма «Карамазовы» протагонистом оказывается случайный зритель репетиций спектакля, человек из публики, а зрителями «новой драмы», совпавшей с «драмой жизни», становятся актеры, покидающие сценическую и съемочную площадку завода.
Эти две истории (одну ставил театральный режиссер, а снимал режиссер игрового кино, другую – тот же Петр Зеленка, работающий и как документалист) сплетаются в прозрачную конструкцию, благодаря которой проблематизируются разные типы условности. Театральная и кинематографическая. При этом он не разрушает, а только сдвигает границы театральных репетиций (в одном из эпизодов актеры в ролях Ивана и Смердякова продолжают диалог во дворе завода, уже как персонажи фильма и без присмотра театрального режиссера, оставшегося в стенах завода). При этом Зеленка включает польского рабочего в пространство театральных мизансцен, то есть наделяет ролью, с которой будут взаимодействовать актеры в ролях актеров, а не сценических персонажей.
Текст Достоевского для героев (актеров и зрителей спектакля) этого фильма играет ту же роль, что и практика verbatim для персонажей (актеров, записывающих интервью своих прототипов) документального театра. Но аутентичность, иначе говоря, художественная правда игрового материала поверяется тут историей «настоящего» рабочего и его восприятием инсценировки Достоевского. Таким образом, отношения между двумя условными мирами сопрягаются и дистанцируются друг от друга, порождая впечатление неигровой и недокументальной конструкции. Это впечатление возникает за счет контрапункта между заимствованным, заученным текстом (чужой речью) актеров и событием в жизни киноперсонажа, становящимся к финалу действующим лицом, а не пассивным, хотя и внимательным зрителем репетиций.
Репетицию сцены Грушеньки с Митей, обвиненным в убийстве отца, Зеленка сопрягает с моментом, когда рабочему-поляку сообщают о смерти его сына. Звонит мобильный телефон. У рабочего падает из рук молоток. Чуть заметное замешательство репетирующих актеров. Камера направляется к рабочему и следует за ним «за кулисы», в душевую, где не участвующий в этой репетиции чешский актер репетирует фокусы (для, возможно, какого-то другого представления).
Следующая сцена – другое закулисье с актерами, отработавшими сцену, во время которой раздался звонок мобильного телефона. Кася объясняет, хотя актеры уже догадались, что сын рабочего умер. И что фестивальный девиз «Ближе к жизни» – «плохая» идея. Рабочий в душевой достает заначку, выпивает. За кадром слышен текст следующей сцены – крик капитана Снегирева. Безмолвный шок рабочего за сценой озвучивается закадровым криком актера в роли отца Илюшечки Снегирева.
Рабочий возвращается в цех и просит продолжать репетицию. Следующая сцена – речь Мити на суде, фрагмент текста о том, что он невиновен в смерти отца. Актер в роли Мити, отыгравший свою сцену, сомневается в подлинности «настоящей» трагедии, случившейся на заводе: «Если б у меня умер сын, – говорит он партнеру, – я бы не смотрел эту пьесу».