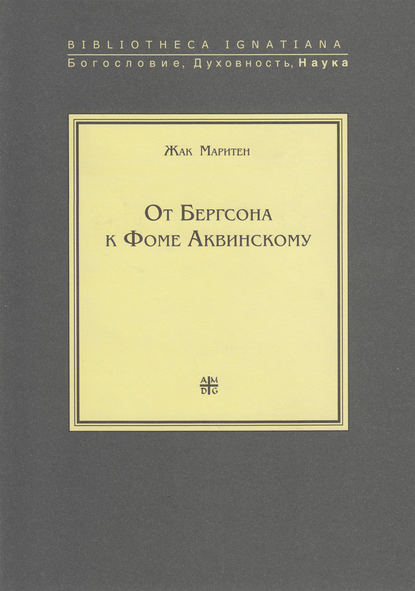По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Бергсона к Фоме Аквинскому
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стремление исходит от призыва высших душ, сопричастных духовному порыву и проникающих в открытый для бесконечности мир свободы и любви, недосягаемый для психологических и социальных механизмов; оно исходит от призыва героя и от движущей силы эмоции, которая, передаваясь душе и пробуждая ее сокровеннейшее жизненное начало, делает ее свободной. С этими двумя законами – законом давления и законом стремления – сопряжены две совершенно различные формы морали: закрытая мораль или, коротко говоря, мораль социального конформизма и мораль открытая, мораль святости.
Подобное различие Бергсон устанавливает и в отношении религии. С одной стороны, существует религия статическая, типичным примером которой служат первобытные верования. Такая религия отвечает нуждам в некотором смысле биологическим, связанным с сохранением и историческим эволюционированием социальных объединений на нашей планете; в силу этих нужд должна развиваться мифотворческая функция как защитная реакция природы против разлагающей силы интеллекта – в частности, против представления интеллекта о неизбежности смерти и против представления о ввергающей в отчаяние полосе непредвиденного между задуманным делом и желаемым результатом.
Тут для Бергсона открывается возможность привлечь современные труды по этнологии и социологии, посвященные первобытному мышлению, магии, тотемизму и мифологии. Этим трудам он отводит строго определенное место, подвергая критике их чрезмерные притязания.
С другой стороны, существует динамическая религия, которая есть, прежде всего, призвание к мистической жизни. В главе о динамической религии Бергсон исследует греческий и восточный мистицизм, мистицизм пророков Израиля, христианский мистицизм; подводя итог этому исследованию, он считает себя вправе сказать, что один лишь христианский мистицизм действительно достиг цели.
Опыт мистиков и приводит Бергсона к существованию Бога. Философское умозрение относительно жизненного порыва и первичного средоточия творческой силы, откуда он исходит, могло навести на мысль о существовании Бога, теперь же оно утверждается безусловным образом. Как именно? Через свидетельство тех, кто обладает опытом восприятия божественного. Надо верить мистикам в отношении Бога, так же как физикам – в отношении материи: и те и другие компетентны, знают то, о чем говорят.
В заключительной главе, которая называется «Механика и мистика», Бергсон, как бы торопясь принести свое свидетельство, делится мыслями относительно многих вопросов культурного, социального и нравственного порядка, волнующих сегодня человечество. У этой главы нет тесной связи с предыдущими. Но забота автора о том, чтобы донести до нас, на закате своей жизни, предостережения свободной и бескорыстной мудрости, тем более знаменательна и вызывает у нас тем большую признательность.
Не обсуждая здесь эту главу, я лишь отмечу следующее. Опровергая весьма распространенное и весьма поверхностное мнение, Бергсон утверждает, что механика и мистика не только не противоположны по своей природе, но и нуждаются одна в другой, одна другую дополняют. «Что мистицизм требует аскетизма, не вызывает сомнений. И тот и другой всегда будут уделом немногих. Но столь же несомненно и то, что истинный, полный, деятельный мистицизм стремится к распространению, движимый любовью, составляющей его сущность. Однако как же мог бы он распространиться, пусть даже смягченный и ослабленный, каким он неизбежно и будет, среди людей, поглощенных страхом голода? Человек возвысится над землей лишь тогда, когда мощное оснащение обеспечит ему точку опоры. Он должен оказать давление на материю, если хочет оттолкнуться от нее. Иными словами, мистика нуждается в механике. На это не обращали должного внимания, потому что механика, из-за ошибочного перевода стрелки, пошла по пути, ведущему к чрезмерному благосостоянию и роскоши для части общества, а не к освобождению всех». С другой стороны, «в этом непомерно возросшем теле душа остается такой же, как была: она уже слишком мала, чтобы его наполнить, слишком слаба, чтобы им управлять. Так образовалась пустота между телом и душой. Отсюда – грозные социальные, политические, межнациональные проблемы, в которых обнаруживает себя эта пустота и которые заставляют нас сегодня прилагать столько беспорядочных и тщетных усилий, чтобы ее заполнить: тут нужны новые запасы потенциальной энергии, теперь уже моральной. Выше мы говорили, что мистика нуждается в механике. Но это еще не все. Добавим, что увеличившееся тело ждет духовного дополнения и что механика требует мистики. У механики, быть может, более мистические истоки, чем принято считать; она найдет правильный путь и принесет пользу, соответственную ее возможностям, только если человечество, которое она еще больше пригнула к земле, сможет с ее помощью выпрямиться и устремить взор в небеса»[33 - Les Deux Sources de la Morale et de la Religion. Paris, Alcan, 1932, p. 334–335.].
Две различные точки зрения
Чтобы попытаться вынести суждение о последнем этапе развития бергсоновской мысли, каким он представлен в «Двух источниках», можно стать на две совершенно различные точки зрения, рассматривать вещи в двух различных аспектах: в аспекте концептуализации и построения доктрины, или в плане философии как системы; и в аспекте определяющих интенций и интуиций, или в плане философии как духа. Вначале мы станем на первую точку зрения. И здесь мы не сможем закрыть глаза на то, что идеи Бергсона о морали и религии, несмотря на высветившиеся в них великие истины, требуют некоторых существенных оговорок.
Повинен в этом метафизический аппарат бергсоновской философии. Не раз уже справедливо отмечали – в частности, и по поводу «Двух источников», – что метафизика Бергсона отягощена «онтологической недостаточностью» и радикальным эмпиризмом. Ясность и возвышенность мысли, скрупулезное внимание к совокупному свидетельству опыта, плодотворная утонченность и глубина, которыми мы восхищаемся у Бергсона, не восполняют этих несовершенств доктрины. Притом же я должен ограничиться воззрениями, изложенными в «Двух источниках». Я знаю, что Бергсон не выразил здесь многих мыслей, которые он рассматривал тогда как «частные мнения» (он хотел, чтобы его приверженцы «читали между строк»); знаю, что его неустанная исследовательская работа не прекратилась после «Двух источников» и продолжалась, в частности, в области религии. Но в данном философском обсуждении мне дозволено учитывать лишь те положения доктрины, которые Бергсон сформулировал в своих книгах.
Если рассматривать саму систему интерпретации, предложенную в «Двух источниках», то относительно предпринятой Бергсоном попытки открытия и интеграции духовного в его наиболее возвышенных формах возникает вопрос: не является ли эта попытка – коль скоро она связана с системой идей, изложенной в «Творческой эволюции», – опытом сведения духовного к биологическому? Я подразумеваю биологическое, которое стало настолько трансцендентным, что его мыслят как источник созидания миров, но которое тем не менее остается биологическим, поскольку это слово относится к ступеням жизни, характеризуемым прежде всего через органическое и психическое, ступеням, где жизнь проявляет себя через одушевление материи и где имманентная активность, следовательно, по необходимости связана с условиями деятельности, направленной вовне, и с условиями продуктивности. Правда, за пределами мира благодати и сверхприродной жизни духовность в человеке никогда не превосходит биологическое в полной мере.
Попытаемся теперь подробнее рассмотреть, во-первых, Бергсонову концепцию морали, во-вторых, его концепцию религии и, в-третьих, его концепцию мистической жизни.
Бергсоновская теория морали
Справедливо замечено, что в области моральной философии есть две возможные позиции. Одну можно назвать идеалистической: это позиция чисто рефлективная; тут не различаются умозрительная сфера и сфера практическая; моральная жизнь оказывается родной стихией и, так сказать, самой витальностью всякого мышления; в качестве объективного начала не признается никакое другое мышление, помимо человеческого, именуемого в этом случае Мышлением. Другую мы назвали бы космической: она обращена к бытию; в основе ее – тот факт, что человек находится в мире, окружающем его со всех сторон; моральная жизнь человека рассматривается как частное проявление жизни универсума[34 - См. указанную выше статью Этьена Борна. – Некоторые формулировки Этьена Борна в этой замечательной статье столь несомненно верны, что я не нашел ничего лучшего, как просто воспроизвести их здесь.].
Позиция этики св. Фомы Аквинского – это позиция космическая; позиция бергсоновской этики – также космическая. И невозможно преувеличить значимость того обновления, каким современная философская мысль обязана Бергсону. Бергсон признал зависимость моральной философии от метафизики и философии природы и связал с философией универсума судьбу философии человеческого действования. Он снимает с нас, таким образом, последние чары кантианства и восстанавливает великую философскую традицию человечества.
Мораль космического типа не может обойтись без определенной системы мироздания, универсум свободы предполагает уже существующий до него универсум природы и претворяет в действительность одно из его устремлений; я должен знать, где я пребываю и кто я, прежде чем знать – и затем чтобы знать, – что мне надлежит делать. Все это совершенно верно, и во всем этом Бергсон и св. Фома – единомышленники. Но мы сразу видим, что проблема переносится теперь в другую плоскость: возникает вопрос об оценке самой предложенной нам метафизики и системы мироздания. Представляет ли собой мир творческую эволюцию? Или он есть иерархия возрастающих степеней совершенства? Способен ли человеческий интеллект постичь бытие и обладает ли он, соответственно, способностью регулировать жизнь и деятельность, так что разум служит, по выражению Фомы Аквинского, непосредственным правилом человеческих поступков? Или же то, что удерживает человека в соприкосновении с реальностью, с динамическим порывом, составляющим тайну действительности, есть своего рода инстинкт и как бы голос самой жизни в глубинах нашей души, пробуждаемый, прежде всего, эмоцией? Ясно, что в первом и во втором случае система этики будет строиться по-разному. Мы признательны Бергсону за то, что он возвел свою теорию морали на фундаменте метафизики, но должны констатировать, что эта метафизика – метафизика жизненного порыва, а метафизика жизненного порыва отворачивается от некоторых принципиально важных истин.
Этика Бергсона продолжает и завершает основную тему его метафизики: жизнь есть в существе своем творческий динамизм, который развивается, поднимая мертвую тяжесть, преодолевая препятствие, без конца создаваемое падением материи – ее неизменным состоянием. Таким образом, начиная с нашего первого морального опыта мы чувствуем свою двоякую зависимость: зависимость по отношению к навязываемой обществом дисциплине, которая давит на нас, но кажется нам внутренней, потому что она превратилась в привычку; зависимость по отношению к всеобщему порыву жизни, устремляющему нас вперед, когда мы следуем призыву героя. Мы не самостоятельны: давление и стремление – вот естественные силы, действующие в нас, но исходящие не от нас самих. Социальное давление сопряжено с обязанностью, которой Бергсон, похоже, придает лишь, так сказать, физический смысл; освобождающее стремление нераздельно с эмоцией, которая подобна естественной или сверхъестественной благодати, мыслимой как всепобеждающее влечение, как неодолимое тяготение.
Во всем этом, и в частности в возврате к мысли о некой внутренней послушности как существенном элементе моральной жизни, заключены ценные истины. Но где же сама мораль, скажем мы, где же ее собственное дело? Мораль испарилась. Сведенная к своей главной задаче, особенно если рассматривать лишь ее базисные естественные структуры, мораль есть нечто очень скромное, сугубо человеческое, в ней нет ни блеска, ни славы; это грубовато-суровая, терпеливая, осторожная, рассудительная труженица. С ее помощью жалкое разумное животное должно разобраться в путях, ведущих к счастью, правильно пользуясь тем слабым светочем, который возвышает человека над всем телесным миром и благодаря которому он в состоянии осуществлять свободный выбор, сам избирать свое блаженство и говорить «да» или «нет» разным вожатым и продавцам красочных открыток, вызывающимся привести его к счастью. Человек должен исправлять самого себя посредством разума и свободы, но для чего? Чтобы прийти к выводу, что разумно повиноваться закону, установленному неизвестно кем. Какая тоска! Неблагодарный труд – самосовершенствоваться, когда ты представляешь собой нечто столь малоинтересное, как человек, неблагодарный труд – пользоваться своей свободой, особенно если тем самым в конечном счете только исполняешь чужую волю. Все это человеческая работа, напряжение разума и противодействие подавляемой свободы. Что же удивительного в том, что это как-то улетучивается в иррационалистической философии, которая признает интеллект пригодным лишь к созданию орудий, которая полагает, что мотивы действия являются лишь по принятии решения, и рассматривает свободу воли не иначе, как высочайшую вершину жизненной спонтанности? В Бергсоновой теории морали нас больше всего вводит в заблуждение именно то, что мораль в самом строгом смысле слова из нее устранена. Человек здесь мыслится то на уровне инфрарационального общественного, то на уровне супрарационального мистического.
Бергсон, по сути, разрывается между двумя противоположностями, и только когда он отдаст себе в этом отчет, он, возможно, задумается о тяжком, но самостоятельном труде, осуществляемом моралью. Бергсон не оставляет нам никакой возможности следовать своим человеческим путем – между поработительными притязаниями общества и призывом героя, между страхом, заставляющим подражать другим, и ревностным служением Богу. Подобие манихейского раскола – это расплата за всецело эмпиристскую концепцию, согласно которой действовать означает непременно уступать силе, либо принуждающей, либо влекущей: один только разум, начало нравственного универсума, отличного и от общественного повиновения, и от мистического порыва, может познать, исходя из собственных законов этого универсума, порядок, подчиняющий социальное мистическому и в то же самое время примиряющий их. Но установить такую субординацию и достичь такого примирения – значит выйти за пределы бергсонизма.
Если бы мы ставили задачей рассмотреть вопрос более глубоко, надо было бы напомнить здесь, что центральное значение в этике имеет понятие цели: поскольку человеческое бытие подчинено определенной цели – и по природе вещей, и по своей онтологической структуре, – этика и человеческая воля зависимы от Другого и должны принимать его, участвуя в великой вселенской игре бытия. Но цель эта познается разумом, а воля свободно устремляется к ней и свободно избирает средства к ее достижению; таким образом, мир морали есть мир свободы, возвышающийся над природным миром. Мораль космического типа – да, но при условии, что в сердце космоса пребывают разум и свобода. Однако понятие цели, от которого все это зависит, отсутствует в Бергсоновой теории морали, равно как и в его метафизике; этот недостаток – неизбежное следствие бергсоновского иррационализма.
Можно сказать, что стиль этики в философии бытия, или у св. Фомы, – это рациональный космический стиль; у Бергсона же это иррациональный космический стиль. Для Бергсона все исходит из творческого порыва, беспрестанно движущего всеобщую жизнь; и нравственное благородство, божественная свобода подвижника нравственной жизни, есть лишь кульминация всеобщего жизненного порыва, к которой восходят ступень за ступенью, невзирая на неудачи и поражения. В конечном итоге не существует частного порядка, составляющего порядок собственно морали. Для св. Фомы порядок моральной жизни, т. е. практического разума, направляющего действия человеческого существа к его подлинной цели, составляет частный порядок внутри всеобщего метафизического порядка и основывается на этом порядке. Бог, зиждитель и начало всеобщего порядка и всеобщей жизни, в качестве такового не имеющий ничего противоположного себе и ниоткуда не встречающий сопротивления, есть также начало бытия, зиждитель и начало морального, частного, порядка и моральной, частной, жизни – сферы, где человек может воспротивиться божественной воле; и если разум – правило человеческих поступков, то лишь постольку, поскольку он сопричастен вечному закону, который есть сама творческая мудрость.
Итак, у Бергсона мы находим этику творческого порыва, или творческой эволюции, сохраняющую от морали, смею сказать, все, кроме самой морали; философия же бытия включает этику творческой мудрости, подтверждающую специфичность морали и вместе с тем, с одной стороны, признающую ее биологические корни и ее социальную обусловленность и поэтому привлекающую общественные дисциплины в меру их согласия с разумом, а с другой стороны, оставляющую мораль открытой для трансцендентных призывов, для более глубоких очищений и более возвышенных императивов мистической жизни.
Бергсоновская теория религии
Относительно бергсоновской теории религии следует сделать аналогичные замечания. Бергсон прекрасно определил истинную цену, т. е. отвел весьма скромное место, амбициозным умозрениям социологической школы, касающимся первобытного менталитета. Он показал, в частности, что мышление первобытного человека подчиняется тем же законам, что и наше мышление, но вследствие совершенно иных условий существования приводит к совсем другим результатам. Не могу удержатся от того, чтобы не привести здесь две страницы, являющие замечательный пример добродушия, с каким при случае посмеиваются умудренные метафизики.
«Рассмотрим, к примеру, одну из самых любопытных глав книги г-на Леви-Брюля, ту, где рассказывается о первом впечатлении, произведенном на аборигенов нашим огнестрельным оружием, нашей письменностью и книгами – словом, тем, что мы им несем. Это впечатление поначалу приводит нас в замешательство. У нас действительно возникает соблазн приписать его особому мышлению, отличному от нашего. Однако по мере того как мы будем устранять из нашего ума знание, приобретенное нами постепенно и почти неосознанно, “первобытное” объяснение станет казаться нам все более естественным. Вот люди, перед которыми путешественник раскрывает книгу; им толкуют, что эта книга сообщает какие-то сведения. Отсюда они заключают, что книга говорит и что, приблизив ее к уху, они услышат звук. Но ожидать иного от человека, чуждого нашей цивилизации, значит требовать от него интеллекта гораздо большего, чем у любого из нас, большего даже, чем у самых умных людей, большего, чем у гения: это значит желать, чтобы он заново изобрел письменность. Ведь если бы он представлял себе возможность отобразить речь на листе бумаги, то он овладел бы принципом алфавитного или, шире, фонетического письма; он сразу же оказался бы в той точке развития, которая в цивилизованном обществе была достигнута долгими усилиями многих выдающихся людей. Поэтому не будем говорить здесь об умах, отличных от нашего. Скажем просто, что эти люди не знают того, что усвоили мы.
Далее, бывает, что невежество сопровождается, как мы уже отмечали, отвращением к умственному усилию. Такие случаи г-н Леви-Брюль отнес к рубрике “Неблагодарность больных”. Аборигены, которых лечили европейские врачи, не испытывают к ним никакой благодарности; наоборот, они ждут от врача вознаграждения, как будто это они оказали ему услугу. Но, не имея никакого представления о нашей медицине, не зная, что такое наука в сочетании с искусством, видя к тому же, что врачу далеко не всегда удается вылечить больного, понимая, наконец, что он тратит свое время и труд, – как же им не вообразить себе, что у врача есть какой-то неведомый им корыстный интерес делать то, что он делает? И разве не естественно, что они, не желая трудиться, чтобы преодолеть свое невежество, принимают интерпретацию, которая первой приходит им в голову и из которой они вдобавок могут извлечь выгоду? Обращая этот вопрос к автору “Первобытного мышления”, я приведу здесь очень давнее воспоминание, едва ли, однако, более давнее, чем наша старая дружба. В детстве у меня были плохие зубы. Время от времени приходилось водить меня к дантисту, который тотчас же расправлялся с виновным зубом, безжалостно вырывая его. Между нами говоря, мне было не особенно больно: эти зубы выпали бы сами собой; но, не успев еще сесть в кресло, я уже издавал ужасающие крики – из принципа. Родители в конце концов нашли средство заставить меня молчать. Врач со звоном бросал в стакан, служивший для полоскания рта после операции (асептика в те далекие годы была неизвестна), монетку в пятьдесят сантимов, покупательная способность которой равнялась тогда десяти леденцам. Мне было лет шесть или семь, и я был не глупее других. Я, конечно, мог догадаться, что родители сговорились с дантистом, чтобы купить мое молчание, и что заговор был устроен ради моего же блага. Но для этого требовалось легкое усилие мысли, я же предпочитал не делать такого усилия, вероятно, из лени, а может быть, и не желая менять свое отношение к человеку, на которого я – уместно сказать – имел зуб. Я просто позволял себе не задумываться, и представление о дантисте само собой отчетливо рисовалось в моем уме. Этот человек, ясное дело, испытывал величайшее удовольствие, вырывая зубы; он даже не скупился выложить за это пятьдесят сантимов»[35 - Les Deux Sources, p. 158–160.].
Таким образом, «первобытное мышление» можно обнаружить и у людей цивилизованных. Поведение целых народов в наши дни позволяет проиллюстрировать это утверждение примерами уже не столь невинными, как история с зубами юного Бергсона.
Но вернемся к теории религии. По нашему мнению, Бергсонову теорию статической религии, несмотря на множество глубоких замечаний, губит его нежелание видеть в этой религии – существующей со всеми ее непоследовательностями и противоречиями, которые Бергсон подвергает очень тонкому анализу, в пространстве мысли, отовсюду омываемом и затопляемом водами воображения[36 - См. наш этюд «Знак и символ» («Signe et Symbole») в «Quatre Essais sur l’Esprit dans sa condition charnelle».], – подспудную естественную работу метафизического разума, естественный поиск и естественное чувство абсолютного. Религия, называемая у него статической, религия в своих примитивных, крайне социализованных формах, с неотъемлемой от нее мифотворческой функцией, представляется ему защитной реакцией против опасностей, создаваемых интеллектом. У подобных соблазнительных теорий есть тот же минус, что и у высказываний гения. Возьмите какое-нибудь гениальное изречение, – у вас будет шанс высказать не менее глубокую истину, говоря прямо противоположное. Например: Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. Человек – это мыслящий тростник. Гений есть долготерпение. Ну а если я скажу: На солнце и на смерть можно смотреть в упор? Если я скажу: Человек не мыслящий тростник? Гений есть долгое нетерпение? Я думаю, все это будет столь же верно. Бергсон считает, что интеллект разрушает надежды и вселяет страх и что мифотворческая функция, отражая в себе могучие биологические инстинкты, необходима, чтобы дать человеку мужество жить. Но ведь можно и, наоборот, счесть, что зрелище жизни вызывает гнетущие чувства («Ты преумножил народ, – рек псалмопевец, – но не преумножил радости») и что интеллект, с его изначальными и непреложными метафизическими истинами, дает нам мужество жить, а мифотворческая функция есть своеобразное преломление ободряющих практических внушений интеллекта в мире воображения. И, возможно, обе эти точки зрения истинны.
Как бы то ни было, все тот же, в каком-то смысле манихейский, подход – раскол и противопоставление – заставляет Бергсона разделять статическую религию, религию в ее низших формах, социализованных и материализированных, и религию динамическую, открытую для всеобщности ума. При этом и там и здесь утрачивается то, что могло бы составить их единство, а именно скрытая или явная онтологическая ценность определенных восприятий и определенных верований.
Ведь динамическая религия также лишается своего объективного познавательного содержания, своих собственно интеллектуальных данных, супрарациональную ценность которых невозможно утверждать, не утверждая одновременно скрывающихся в них рациональных ценностей.
Бергсоновская теория мистической жизни
Перейдем теперь к тому, что говорит нам Бергсон в «Двух источниках морали и религии» о мистиках. Здесь тоже, если рассматривать вещи не столько с точки зрения духа, влечению которого он следовал, сколько с точки зрения предлагаемой им доктринальной концептуализации, мы принуждены сделать некоторые оговорки.
Когда мистики говорят, что они воссоединились с Первоначалом как с жизнью своей жизни, они вовсе не думают, будто им открылся некий жизненный порыв, или безымянное творческое усилие; им уже ведомо имя того, кому они приверженны: они уже знают – чрез веру, общую у них со всеми, кто восприял слово откровения, – кто этот Бог и что предначертал он людям.
Вопрос о том, представляет ли Первоначало, с которым воссоединяются мистики, трансцендентную причину всего сущего[37 - Les Deux Sources, p. 256, 269, 281. Слабые места, которые можно отметить на этих страницах, связаны с метафизическими положениями Бергсона – на них он неоднократно ссылается, считая их обоснованными в других своих работах.], Бергсон считает второстепенным. Мистики же не обходят этот вопрос и отвечают на него утвердительно.
Они удостоверяют (и оттого книга Бергсона, я бы сказал, оставляет нас по крайней мере в недоумении), что их воля, их любовь устремлены не к радости творческого порыва, совершенно свободного от всякой цели, а, наоборот, к некой бесконечной цели и что чудесное волнение их души обладает смыслом и существованием лишь потому, что направляет их к этой цели, влечет туда, где они обретут жизнь нетленную.
Они удостоверяют (и таким образом ставят и решают вопрос о значении догмата – вопрос, которого Бергсон не поднимал, желая оставаться только философом, но на который, я думаю, вряд ли можно дать правильный ответ, если согласиться с его критикой понятия и понятийных формулировок) – мистики удостоверяют, что их опыт переживания божественного имеет своим непосредственным и доступным источником живую веру и что, хотя опыт этот неясен и обретается через любовь, в нем, однако, состоит высшее познание, ибо разум в этом не-знании насыщается от своего более благородного предмета.
Наконец, если обратиться к проблеме действия и созерцания, мистики удостоверяют, что, хотя созерцание преизобилует действием, все же неверно писать – тут я критикую более выражение, нежели мысль, но скоро я к этому вернусь – или, по меньшей мере, двусмысленно писать, что последний этап созерцания – погрузиться в действие[38 - Les Deux Sources, p. 236.] и уступить неотразимому натиску, подвигающему душу на самые великие дела[39 - Ibid., p. 248.].
В сущности говоря, система Бергсона недооценивает прежде всего истинную значимость наследия метафизического знания в строгом смысле слова и истинную значимость выводов разума в области метафизики. В «Двух источниках» Бергсон продолжает весьма несправедливо порицать это наследие; данное им изложение идей Платона и Аристотеля искажено номиналистскими и иррационалистическими предубеждениями его собственной метафизики. Неудивительно, что, видимо, те же самые предубеждения заслоняют от автора «Двух источников» первостепенную важность, как и подлинную область, истины, сообщаемой человеку через положения вероучения. Разве не читаем мы, что в своей книге Бергсон занимает позицию, «из которой явствует божественность всех людей», так что «несущественно, зовется ли Христос человеком или нет»?[40 - Ibid., p. 256.] Кажется, Бергсон не сознает, что, поскольку источник преображения человека в Бога – не в творении человеческой природы, а в новом творении, совершаемом благодатью, вопрос о том, является ли Христос, оставаясь человеком, личным Богом, возникает в первую очередь. Философская доктрина, игнорирующая доступность онтологических ценностей для разума; почти полный отказ от собственно рациональных и интеллектуальных доказательств в области метафизики; забвение того существенного факта, что мистический опыт предполагает познаваемую естественным и сверхъестественным путем реальность своего объекта и что он превращается в ничто, если он не есть приятие бытийствующей Истины, – все это, очевидно, и склоняет бергсоновскую теологию к своеобразному эволюционизму пелагианского типа, оставляющему без внимания или сглаживающему различие природы и благодати.
На это, конечно, можно возразить, что Бергсон никоим образом не впадает в пелагианскую теологию, поскольку он вообще не разрабатывает теологии. Совершенно верно. Но тогда встает вопрос, оправдан ли такой метод – философствовать о религии, не разрабатывая вовсе никакой теологии.
Бергсонизм с точки зрения философии как духа: определяющие интуиции
Мы рассмотрели некоторые важные положения «Двух источников» с точки зрения концептуализации и построения доктрины, или в аспекте философии как системы; при этом нам пришлось сделать немало критических замечаний. Но все предстает в ином свете, если рассматривать учение Бергсона с точки зрения философии как духа, или с точки зрения определяющих интенций и интуиций. Здесь мы можем восхищаться с чистой душою.
Нет ничего более волнующего, а в каком-то смысле и более убедительно свидетельствующего о трансцендентной природе духа, нежели мысль, вопреки своему философскому аппарату неустанно и смело следующая ясным духовным путем и благодаря внутреннему свету отыскивающая двери, на пороге которых останавливается всякая философия (войти в эти двери философу предстояло несколькими годами позже)[41 - Г-жа Бергсон опубликовала фрагмент завещания своего мужа, датированного 8 февраля 1937 г. Вот этот фрагмент: «Мои размышления постепенно привели меня к католичеству, в котором я вижу полное завершение иудаизма. Я принял бы его, если бы не видел, как на протяжении нескольких лет поднимается страшная волна антисемитизма, которая вот-вот обрушится на мир. Я хотел оставаться среди тех, кого завтра будут преследовать. Но я надеюсь, что католический священник согласится, с позволения кардинала – архиепископа Парижского, прочесть молитву на моих похоронах. В случае, если такое разрешение не будет получено, надо обратиться к раввину, не скрывая от него и вообще от кого бы то ни было моей моральной приверженности к католичеству, так что в первую очередь я изъявляю желание, чтобы меня отпевал католический священник». Воля Бергсона была исполнена: католический священник молился над его телом.До того как строки, опубликованные г-жой Бергсон, стали известны в Америке, Раиса Маритен сообщила одному из нью-йоркских журналов следующую информацию: «Вот новые сведения для архивов “Commonweal”, относительно христианства Бергсона. Мне написали из Швейцарии, что после публикации французского текста моей статьи в журнале “Nova et Vetera” газета “Figaro” опубликовала отклик “Бергсон и католичество”, где приводится свидетельство «одного известного доминиканца, состоявшего в дружеских отношениях с Бергсоном”. Согласно этому свидетельству, Бергсон не принял, но решился принять крещение: «Бергсон изъявил желание креститься и выбрал для этого священника. Но он заявил, что хочет подождать, – из щепетильности, принимая во внимание происходящие события. Мне известно это от самого упомянутого священника, который в соответствии с волей покойного был призван его родными для отпевания тела, хотя похороны не были христианскими”. Является ли эта версия окончательной, или ее дополнят еще какие-нибудь свидетельства? Как бы то ни было, отсюда явствует, что Бергсон хотел креститься и даже выбрал для этого священнослужителя. Слова “известного доминиканца” подтверждают самое существенное: желание креститься и религиозные убеждения великого философа» («The Commonweal», 29 aug. 1941).Анри Бергсон умер в Париже 4 января 1941 г.].
Мы указали, какие оговорки забота о строгости доктрины обязывает сделать в отношении предлагаемой Бергсоном общей интерпретации мистической жизни. В сущности, отмеченные недостатки его интерпретации показывают, прежде всего, что в этой сфере философия сама по себе недостаточна; поскольку, заботясь о чисто философском методе, она полагает, что не должна непосредственно затрагивать тайну благодати и тайну креста или, иными словами, считает себя не вправе объединяться с теологией в трактовке вопросов, связанных с мистицизмом, – постольку она не способна постичь в их подлинных истоках явления мистической жизни, даже если относится к ним с искренним почитанием. Но какой чистый философ изучал их более добросовестно, с более смиренной и благородной любовью, чем Анри Бергсон?
Пора наконец сказать, сколь признательны мы ему за великолепные страницы, посвященные мистикам и обнаруживающие удивительно чуткое и щедрое внимание к реальностям, присутствие и воздействие которых он сам ощутил. Здесь он разбивает убогие схемы феноменалистической психологии; и, зная антимистические предубеждения, упомянутые мной в начале главы, понимаешь, как решительно защищает он мистиков, когда утверждает о крепком интеллектуальном здоровье этих душ, достигших жизни, в определенном смысле сверхчеловеческой. Обратимся к самим текстам; я приведу несколько страниц из «Двух источников».
«…Мы можем заключить, что ни в Греции, ни в Древней Индии не было полного мистицизма, либо потому что порыв там был недостаточен, либо потому что ему препятствовали материальные обстоятельства или слишком узкая интеллектуальность. Его появление в определенный момент позволяет нам ретроспективно присутствовать при его подготовке, подобно тому как внезапно возникший вулкан проясняет длинный ряд землетрясений в прошлом.
Полный мистицизм на самом деле – это мистицизм великих христианских мистиков…
Когда мы берем таким образом в ее конечной точке внутреннюю эволюцию великих мистиков, мы задаемся вопросом, как могли уподоблять их больным. Разумеется, мы живем в состоянии неустойчивого равновесия, и среднее здоровье духа, как, впрочем, и тела, – вещь трудноопределимая. Существует, однако, исключительное, прочно утвердившееся интеллектуальное здоровье, которое узнается без труда. Оно проявляется во вкусе к деятельности, в способности к адаптации и реадаптации, в твердости характера в сочетании с гибкостью, в пророческом умении отличать возможное от невозможного, в духе простоты, побеждающем всякого рода сложности, наконец, в превосходном здравом смысле. Разве не эти самые черты мы находим у мистиков, о которых идет речь? И не могут ли они быть полезными для самого определения крепкого интеллектуального здоровья?
Подобное различие Бергсон устанавливает и в отношении религии. С одной стороны, существует религия статическая, типичным примером которой служат первобытные верования. Такая религия отвечает нуждам в некотором смысле биологическим, связанным с сохранением и историческим эволюционированием социальных объединений на нашей планете; в силу этих нужд должна развиваться мифотворческая функция как защитная реакция природы против разлагающей силы интеллекта – в частности, против представления интеллекта о неизбежности смерти и против представления о ввергающей в отчаяние полосе непредвиденного между задуманным делом и желаемым результатом.
Тут для Бергсона открывается возможность привлечь современные труды по этнологии и социологии, посвященные первобытному мышлению, магии, тотемизму и мифологии. Этим трудам он отводит строго определенное место, подвергая критике их чрезмерные притязания.
С другой стороны, существует динамическая религия, которая есть, прежде всего, призвание к мистической жизни. В главе о динамической религии Бергсон исследует греческий и восточный мистицизм, мистицизм пророков Израиля, христианский мистицизм; подводя итог этому исследованию, он считает себя вправе сказать, что один лишь христианский мистицизм действительно достиг цели.
Опыт мистиков и приводит Бергсона к существованию Бога. Философское умозрение относительно жизненного порыва и первичного средоточия творческой силы, откуда он исходит, могло навести на мысль о существовании Бога, теперь же оно утверждается безусловным образом. Как именно? Через свидетельство тех, кто обладает опытом восприятия божественного. Надо верить мистикам в отношении Бога, так же как физикам – в отношении материи: и те и другие компетентны, знают то, о чем говорят.
В заключительной главе, которая называется «Механика и мистика», Бергсон, как бы торопясь принести свое свидетельство, делится мыслями относительно многих вопросов культурного, социального и нравственного порядка, волнующих сегодня человечество. У этой главы нет тесной связи с предыдущими. Но забота автора о том, чтобы донести до нас, на закате своей жизни, предостережения свободной и бескорыстной мудрости, тем более знаменательна и вызывает у нас тем большую признательность.
Не обсуждая здесь эту главу, я лишь отмечу следующее. Опровергая весьма распространенное и весьма поверхностное мнение, Бергсон утверждает, что механика и мистика не только не противоположны по своей природе, но и нуждаются одна в другой, одна другую дополняют. «Что мистицизм требует аскетизма, не вызывает сомнений. И тот и другой всегда будут уделом немногих. Но столь же несомненно и то, что истинный, полный, деятельный мистицизм стремится к распространению, движимый любовью, составляющей его сущность. Однако как же мог бы он распространиться, пусть даже смягченный и ослабленный, каким он неизбежно и будет, среди людей, поглощенных страхом голода? Человек возвысится над землей лишь тогда, когда мощное оснащение обеспечит ему точку опоры. Он должен оказать давление на материю, если хочет оттолкнуться от нее. Иными словами, мистика нуждается в механике. На это не обращали должного внимания, потому что механика, из-за ошибочного перевода стрелки, пошла по пути, ведущему к чрезмерному благосостоянию и роскоши для части общества, а не к освобождению всех». С другой стороны, «в этом непомерно возросшем теле душа остается такой же, как была: она уже слишком мала, чтобы его наполнить, слишком слаба, чтобы им управлять. Так образовалась пустота между телом и душой. Отсюда – грозные социальные, политические, межнациональные проблемы, в которых обнаруживает себя эта пустота и которые заставляют нас сегодня прилагать столько беспорядочных и тщетных усилий, чтобы ее заполнить: тут нужны новые запасы потенциальной энергии, теперь уже моральной. Выше мы говорили, что мистика нуждается в механике. Но это еще не все. Добавим, что увеличившееся тело ждет духовного дополнения и что механика требует мистики. У механики, быть может, более мистические истоки, чем принято считать; она найдет правильный путь и принесет пользу, соответственную ее возможностям, только если человечество, которое она еще больше пригнула к земле, сможет с ее помощью выпрямиться и устремить взор в небеса»[33 - Les Deux Sources de la Morale et de la Religion. Paris, Alcan, 1932, p. 334–335.].
Две различные точки зрения
Чтобы попытаться вынести суждение о последнем этапе развития бергсоновской мысли, каким он представлен в «Двух источниках», можно стать на две совершенно различные точки зрения, рассматривать вещи в двух различных аспектах: в аспекте концептуализации и построения доктрины, или в плане философии как системы; и в аспекте определяющих интенций и интуиций, или в плане философии как духа. Вначале мы станем на первую точку зрения. И здесь мы не сможем закрыть глаза на то, что идеи Бергсона о морали и религии, несмотря на высветившиеся в них великие истины, требуют некоторых существенных оговорок.
Повинен в этом метафизический аппарат бергсоновской философии. Не раз уже справедливо отмечали – в частности, и по поводу «Двух источников», – что метафизика Бергсона отягощена «онтологической недостаточностью» и радикальным эмпиризмом. Ясность и возвышенность мысли, скрупулезное внимание к совокупному свидетельству опыта, плодотворная утонченность и глубина, которыми мы восхищаемся у Бергсона, не восполняют этих несовершенств доктрины. Притом же я должен ограничиться воззрениями, изложенными в «Двух источниках». Я знаю, что Бергсон не выразил здесь многих мыслей, которые он рассматривал тогда как «частные мнения» (он хотел, чтобы его приверженцы «читали между строк»); знаю, что его неустанная исследовательская работа не прекратилась после «Двух источников» и продолжалась, в частности, в области религии. Но в данном философском обсуждении мне дозволено учитывать лишь те положения доктрины, которые Бергсон сформулировал в своих книгах.
Если рассматривать саму систему интерпретации, предложенную в «Двух источниках», то относительно предпринятой Бергсоном попытки открытия и интеграции духовного в его наиболее возвышенных формах возникает вопрос: не является ли эта попытка – коль скоро она связана с системой идей, изложенной в «Творческой эволюции», – опытом сведения духовного к биологическому? Я подразумеваю биологическое, которое стало настолько трансцендентным, что его мыслят как источник созидания миров, но которое тем не менее остается биологическим, поскольку это слово относится к ступеням жизни, характеризуемым прежде всего через органическое и психическое, ступеням, где жизнь проявляет себя через одушевление материи и где имманентная активность, следовательно, по необходимости связана с условиями деятельности, направленной вовне, и с условиями продуктивности. Правда, за пределами мира благодати и сверхприродной жизни духовность в человеке никогда не превосходит биологическое в полной мере.
Попытаемся теперь подробнее рассмотреть, во-первых, Бергсонову концепцию морали, во-вторых, его концепцию религии и, в-третьих, его концепцию мистической жизни.
Бергсоновская теория морали
Справедливо замечено, что в области моральной философии есть две возможные позиции. Одну можно назвать идеалистической: это позиция чисто рефлективная; тут не различаются умозрительная сфера и сфера практическая; моральная жизнь оказывается родной стихией и, так сказать, самой витальностью всякого мышления; в качестве объективного начала не признается никакое другое мышление, помимо человеческого, именуемого в этом случае Мышлением. Другую мы назвали бы космической: она обращена к бытию; в основе ее – тот факт, что человек находится в мире, окружающем его со всех сторон; моральная жизнь человека рассматривается как частное проявление жизни универсума[34 - См. указанную выше статью Этьена Борна. – Некоторые формулировки Этьена Борна в этой замечательной статье столь несомненно верны, что я не нашел ничего лучшего, как просто воспроизвести их здесь.].
Позиция этики св. Фомы Аквинского – это позиция космическая; позиция бергсоновской этики – также космическая. И невозможно преувеличить значимость того обновления, каким современная философская мысль обязана Бергсону. Бергсон признал зависимость моральной философии от метафизики и философии природы и связал с философией универсума судьбу философии человеческого действования. Он снимает с нас, таким образом, последние чары кантианства и восстанавливает великую философскую традицию человечества.
Мораль космического типа не может обойтись без определенной системы мироздания, универсум свободы предполагает уже существующий до него универсум природы и претворяет в действительность одно из его устремлений; я должен знать, где я пребываю и кто я, прежде чем знать – и затем чтобы знать, – что мне надлежит делать. Все это совершенно верно, и во всем этом Бергсон и св. Фома – единомышленники. Но мы сразу видим, что проблема переносится теперь в другую плоскость: возникает вопрос об оценке самой предложенной нам метафизики и системы мироздания. Представляет ли собой мир творческую эволюцию? Или он есть иерархия возрастающих степеней совершенства? Способен ли человеческий интеллект постичь бытие и обладает ли он, соответственно, способностью регулировать жизнь и деятельность, так что разум служит, по выражению Фомы Аквинского, непосредственным правилом человеческих поступков? Или же то, что удерживает человека в соприкосновении с реальностью, с динамическим порывом, составляющим тайну действительности, есть своего рода инстинкт и как бы голос самой жизни в глубинах нашей души, пробуждаемый, прежде всего, эмоцией? Ясно, что в первом и во втором случае система этики будет строиться по-разному. Мы признательны Бергсону за то, что он возвел свою теорию морали на фундаменте метафизики, но должны констатировать, что эта метафизика – метафизика жизненного порыва, а метафизика жизненного порыва отворачивается от некоторых принципиально важных истин.
Этика Бергсона продолжает и завершает основную тему его метафизики: жизнь есть в существе своем творческий динамизм, который развивается, поднимая мертвую тяжесть, преодолевая препятствие, без конца создаваемое падением материи – ее неизменным состоянием. Таким образом, начиная с нашего первого морального опыта мы чувствуем свою двоякую зависимость: зависимость по отношению к навязываемой обществом дисциплине, которая давит на нас, но кажется нам внутренней, потому что она превратилась в привычку; зависимость по отношению к всеобщему порыву жизни, устремляющему нас вперед, когда мы следуем призыву героя. Мы не самостоятельны: давление и стремление – вот естественные силы, действующие в нас, но исходящие не от нас самих. Социальное давление сопряжено с обязанностью, которой Бергсон, похоже, придает лишь, так сказать, физический смысл; освобождающее стремление нераздельно с эмоцией, которая подобна естественной или сверхъестественной благодати, мыслимой как всепобеждающее влечение, как неодолимое тяготение.
Во всем этом, и в частности в возврате к мысли о некой внутренней послушности как существенном элементе моральной жизни, заключены ценные истины. Но где же сама мораль, скажем мы, где же ее собственное дело? Мораль испарилась. Сведенная к своей главной задаче, особенно если рассматривать лишь ее базисные естественные структуры, мораль есть нечто очень скромное, сугубо человеческое, в ней нет ни блеска, ни славы; это грубовато-суровая, терпеливая, осторожная, рассудительная труженица. С ее помощью жалкое разумное животное должно разобраться в путях, ведущих к счастью, правильно пользуясь тем слабым светочем, который возвышает человека над всем телесным миром и благодаря которому он в состоянии осуществлять свободный выбор, сам избирать свое блаженство и говорить «да» или «нет» разным вожатым и продавцам красочных открыток, вызывающимся привести его к счастью. Человек должен исправлять самого себя посредством разума и свободы, но для чего? Чтобы прийти к выводу, что разумно повиноваться закону, установленному неизвестно кем. Какая тоска! Неблагодарный труд – самосовершенствоваться, когда ты представляешь собой нечто столь малоинтересное, как человек, неблагодарный труд – пользоваться своей свободой, особенно если тем самым в конечном счете только исполняешь чужую волю. Все это человеческая работа, напряжение разума и противодействие подавляемой свободы. Что же удивительного в том, что это как-то улетучивается в иррационалистической философии, которая признает интеллект пригодным лишь к созданию орудий, которая полагает, что мотивы действия являются лишь по принятии решения, и рассматривает свободу воли не иначе, как высочайшую вершину жизненной спонтанности? В Бергсоновой теории морали нас больше всего вводит в заблуждение именно то, что мораль в самом строгом смысле слова из нее устранена. Человек здесь мыслится то на уровне инфрарационального общественного, то на уровне супрарационального мистического.
Бергсон, по сути, разрывается между двумя противоположностями, и только когда он отдаст себе в этом отчет, он, возможно, задумается о тяжком, но самостоятельном труде, осуществляемом моралью. Бергсон не оставляет нам никакой возможности следовать своим человеческим путем – между поработительными притязаниями общества и призывом героя, между страхом, заставляющим подражать другим, и ревностным служением Богу. Подобие манихейского раскола – это расплата за всецело эмпиристскую концепцию, согласно которой действовать означает непременно уступать силе, либо принуждающей, либо влекущей: один только разум, начало нравственного универсума, отличного и от общественного повиновения, и от мистического порыва, может познать, исходя из собственных законов этого универсума, порядок, подчиняющий социальное мистическому и в то же самое время примиряющий их. Но установить такую субординацию и достичь такого примирения – значит выйти за пределы бергсонизма.
Если бы мы ставили задачей рассмотреть вопрос более глубоко, надо было бы напомнить здесь, что центральное значение в этике имеет понятие цели: поскольку человеческое бытие подчинено определенной цели – и по природе вещей, и по своей онтологической структуре, – этика и человеческая воля зависимы от Другого и должны принимать его, участвуя в великой вселенской игре бытия. Но цель эта познается разумом, а воля свободно устремляется к ней и свободно избирает средства к ее достижению; таким образом, мир морали есть мир свободы, возвышающийся над природным миром. Мораль космического типа – да, но при условии, что в сердце космоса пребывают разум и свобода. Однако понятие цели, от которого все это зависит, отсутствует в Бергсоновой теории морали, равно как и в его метафизике; этот недостаток – неизбежное следствие бергсоновского иррационализма.
Можно сказать, что стиль этики в философии бытия, или у св. Фомы, – это рациональный космический стиль; у Бергсона же это иррациональный космический стиль. Для Бергсона все исходит из творческого порыва, беспрестанно движущего всеобщую жизнь; и нравственное благородство, божественная свобода подвижника нравственной жизни, есть лишь кульминация всеобщего жизненного порыва, к которой восходят ступень за ступенью, невзирая на неудачи и поражения. В конечном итоге не существует частного порядка, составляющего порядок собственно морали. Для св. Фомы порядок моральной жизни, т. е. практического разума, направляющего действия человеческого существа к его подлинной цели, составляет частный порядок внутри всеобщего метафизического порядка и основывается на этом порядке. Бог, зиждитель и начало всеобщего порядка и всеобщей жизни, в качестве такового не имеющий ничего противоположного себе и ниоткуда не встречающий сопротивления, есть также начало бытия, зиждитель и начало морального, частного, порядка и моральной, частной, жизни – сферы, где человек может воспротивиться божественной воле; и если разум – правило человеческих поступков, то лишь постольку, поскольку он сопричастен вечному закону, который есть сама творческая мудрость.
Итак, у Бергсона мы находим этику творческого порыва, или творческой эволюции, сохраняющую от морали, смею сказать, все, кроме самой морали; философия же бытия включает этику творческой мудрости, подтверждающую специфичность морали и вместе с тем, с одной стороны, признающую ее биологические корни и ее социальную обусловленность и поэтому привлекающую общественные дисциплины в меру их согласия с разумом, а с другой стороны, оставляющую мораль открытой для трансцендентных призывов, для более глубоких очищений и более возвышенных императивов мистической жизни.
Бергсоновская теория религии
Относительно бергсоновской теории религии следует сделать аналогичные замечания. Бергсон прекрасно определил истинную цену, т. е. отвел весьма скромное место, амбициозным умозрениям социологической школы, касающимся первобытного менталитета. Он показал, в частности, что мышление первобытного человека подчиняется тем же законам, что и наше мышление, но вследствие совершенно иных условий существования приводит к совсем другим результатам. Не могу удержатся от того, чтобы не привести здесь две страницы, являющие замечательный пример добродушия, с каким при случае посмеиваются умудренные метафизики.
«Рассмотрим, к примеру, одну из самых любопытных глав книги г-на Леви-Брюля, ту, где рассказывается о первом впечатлении, произведенном на аборигенов нашим огнестрельным оружием, нашей письменностью и книгами – словом, тем, что мы им несем. Это впечатление поначалу приводит нас в замешательство. У нас действительно возникает соблазн приписать его особому мышлению, отличному от нашего. Однако по мере того как мы будем устранять из нашего ума знание, приобретенное нами постепенно и почти неосознанно, “первобытное” объяснение станет казаться нам все более естественным. Вот люди, перед которыми путешественник раскрывает книгу; им толкуют, что эта книга сообщает какие-то сведения. Отсюда они заключают, что книга говорит и что, приблизив ее к уху, они услышат звук. Но ожидать иного от человека, чуждого нашей цивилизации, значит требовать от него интеллекта гораздо большего, чем у любого из нас, большего даже, чем у самых умных людей, большего, чем у гения: это значит желать, чтобы он заново изобрел письменность. Ведь если бы он представлял себе возможность отобразить речь на листе бумаги, то он овладел бы принципом алфавитного или, шире, фонетического письма; он сразу же оказался бы в той точке развития, которая в цивилизованном обществе была достигнута долгими усилиями многих выдающихся людей. Поэтому не будем говорить здесь об умах, отличных от нашего. Скажем просто, что эти люди не знают того, что усвоили мы.
Далее, бывает, что невежество сопровождается, как мы уже отмечали, отвращением к умственному усилию. Такие случаи г-н Леви-Брюль отнес к рубрике “Неблагодарность больных”. Аборигены, которых лечили европейские врачи, не испытывают к ним никакой благодарности; наоборот, они ждут от врача вознаграждения, как будто это они оказали ему услугу. Но, не имея никакого представления о нашей медицине, не зная, что такое наука в сочетании с искусством, видя к тому же, что врачу далеко не всегда удается вылечить больного, понимая, наконец, что он тратит свое время и труд, – как же им не вообразить себе, что у врача есть какой-то неведомый им корыстный интерес делать то, что он делает? И разве не естественно, что они, не желая трудиться, чтобы преодолеть свое невежество, принимают интерпретацию, которая первой приходит им в голову и из которой они вдобавок могут извлечь выгоду? Обращая этот вопрос к автору “Первобытного мышления”, я приведу здесь очень давнее воспоминание, едва ли, однако, более давнее, чем наша старая дружба. В детстве у меня были плохие зубы. Время от времени приходилось водить меня к дантисту, который тотчас же расправлялся с виновным зубом, безжалостно вырывая его. Между нами говоря, мне было не особенно больно: эти зубы выпали бы сами собой; но, не успев еще сесть в кресло, я уже издавал ужасающие крики – из принципа. Родители в конце концов нашли средство заставить меня молчать. Врач со звоном бросал в стакан, служивший для полоскания рта после операции (асептика в те далекие годы была неизвестна), монетку в пятьдесят сантимов, покупательная способность которой равнялась тогда десяти леденцам. Мне было лет шесть или семь, и я был не глупее других. Я, конечно, мог догадаться, что родители сговорились с дантистом, чтобы купить мое молчание, и что заговор был устроен ради моего же блага. Но для этого требовалось легкое усилие мысли, я же предпочитал не делать такого усилия, вероятно, из лени, а может быть, и не желая менять свое отношение к человеку, на которого я – уместно сказать – имел зуб. Я просто позволял себе не задумываться, и представление о дантисте само собой отчетливо рисовалось в моем уме. Этот человек, ясное дело, испытывал величайшее удовольствие, вырывая зубы; он даже не скупился выложить за это пятьдесят сантимов»[35 - Les Deux Sources, p. 158–160.].
Таким образом, «первобытное мышление» можно обнаружить и у людей цивилизованных. Поведение целых народов в наши дни позволяет проиллюстрировать это утверждение примерами уже не столь невинными, как история с зубами юного Бергсона.
Но вернемся к теории религии. По нашему мнению, Бергсонову теорию статической религии, несмотря на множество глубоких замечаний, губит его нежелание видеть в этой религии – существующей со всеми ее непоследовательностями и противоречиями, которые Бергсон подвергает очень тонкому анализу, в пространстве мысли, отовсюду омываемом и затопляемом водами воображения[36 - См. наш этюд «Знак и символ» («Signe et Symbole») в «Quatre Essais sur l’Esprit dans sa condition charnelle».], – подспудную естественную работу метафизического разума, естественный поиск и естественное чувство абсолютного. Религия, называемая у него статической, религия в своих примитивных, крайне социализованных формах, с неотъемлемой от нее мифотворческой функцией, представляется ему защитной реакцией против опасностей, создаваемых интеллектом. У подобных соблазнительных теорий есть тот же минус, что и у высказываний гения. Возьмите какое-нибудь гениальное изречение, – у вас будет шанс высказать не менее глубокую истину, говоря прямо противоположное. Например: Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. Человек – это мыслящий тростник. Гений есть долготерпение. Ну а если я скажу: На солнце и на смерть можно смотреть в упор? Если я скажу: Человек не мыслящий тростник? Гений есть долгое нетерпение? Я думаю, все это будет столь же верно. Бергсон считает, что интеллект разрушает надежды и вселяет страх и что мифотворческая функция, отражая в себе могучие биологические инстинкты, необходима, чтобы дать человеку мужество жить. Но ведь можно и, наоборот, счесть, что зрелище жизни вызывает гнетущие чувства («Ты преумножил народ, – рек псалмопевец, – но не преумножил радости») и что интеллект, с его изначальными и непреложными метафизическими истинами, дает нам мужество жить, а мифотворческая функция есть своеобразное преломление ободряющих практических внушений интеллекта в мире воображения. И, возможно, обе эти точки зрения истинны.
Как бы то ни было, все тот же, в каком-то смысле манихейский, подход – раскол и противопоставление – заставляет Бергсона разделять статическую религию, религию в ее низших формах, социализованных и материализированных, и религию динамическую, открытую для всеобщности ума. При этом и там и здесь утрачивается то, что могло бы составить их единство, а именно скрытая или явная онтологическая ценность определенных восприятий и определенных верований.
Ведь динамическая религия также лишается своего объективного познавательного содержания, своих собственно интеллектуальных данных, супрарациональную ценность которых невозможно утверждать, не утверждая одновременно скрывающихся в них рациональных ценностей.
Бергсоновская теория мистической жизни
Перейдем теперь к тому, что говорит нам Бергсон в «Двух источниках морали и религии» о мистиках. Здесь тоже, если рассматривать вещи не столько с точки зрения духа, влечению которого он следовал, сколько с точки зрения предлагаемой им доктринальной концептуализации, мы принуждены сделать некоторые оговорки.
Когда мистики говорят, что они воссоединились с Первоначалом как с жизнью своей жизни, они вовсе не думают, будто им открылся некий жизненный порыв, или безымянное творческое усилие; им уже ведомо имя того, кому они приверженны: они уже знают – чрез веру, общую у них со всеми, кто восприял слово откровения, – кто этот Бог и что предначертал он людям.
Вопрос о том, представляет ли Первоначало, с которым воссоединяются мистики, трансцендентную причину всего сущего[37 - Les Deux Sources, p. 256, 269, 281. Слабые места, которые можно отметить на этих страницах, связаны с метафизическими положениями Бергсона – на них он неоднократно ссылается, считая их обоснованными в других своих работах.], Бергсон считает второстепенным. Мистики же не обходят этот вопрос и отвечают на него утвердительно.
Они удостоверяют (и оттого книга Бергсона, я бы сказал, оставляет нас по крайней мере в недоумении), что их воля, их любовь устремлены не к радости творческого порыва, совершенно свободного от всякой цели, а, наоборот, к некой бесконечной цели и что чудесное волнение их души обладает смыслом и существованием лишь потому, что направляет их к этой цели, влечет туда, где они обретут жизнь нетленную.
Они удостоверяют (и таким образом ставят и решают вопрос о значении догмата – вопрос, которого Бергсон не поднимал, желая оставаться только философом, но на который, я думаю, вряд ли можно дать правильный ответ, если согласиться с его критикой понятия и понятийных формулировок) – мистики удостоверяют, что их опыт переживания божественного имеет своим непосредственным и доступным источником живую веру и что, хотя опыт этот неясен и обретается через любовь, в нем, однако, состоит высшее познание, ибо разум в этом не-знании насыщается от своего более благородного предмета.
Наконец, если обратиться к проблеме действия и созерцания, мистики удостоверяют, что, хотя созерцание преизобилует действием, все же неверно писать – тут я критикую более выражение, нежели мысль, но скоро я к этому вернусь – или, по меньшей мере, двусмысленно писать, что последний этап созерцания – погрузиться в действие[38 - Les Deux Sources, p. 236.] и уступить неотразимому натиску, подвигающему душу на самые великие дела[39 - Ibid., p. 248.].
В сущности говоря, система Бергсона недооценивает прежде всего истинную значимость наследия метафизического знания в строгом смысле слова и истинную значимость выводов разума в области метафизики. В «Двух источниках» Бергсон продолжает весьма несправедливо порицать это наследие; данное им изложение идей Платона и Аристотеля искажено номиналистскими и иррационалистическими предубеждениями его собственной метафизики. Неудивительно, что, видимо, те же самые предубеждения заслоняют от автора «Двух источников» первостепенную важность, как и подлинную область, истины, сообщаемой человеку через положения вероучения. Разве не читаем мы, что в своей книге Бергсон занимает позицию, «из которой явствует божественность всех людей», так что «несущественно, зовется ли Христос человеком или нет»?[40 - Ibid., p. 256.] Кажется, Бергсон не сознает, что, поскольку источник преображения человека в Бога – не в творении человеческой природы, а в новом творении, совершаемом благодатью, вопрос о том, является ли Христос, оставаясь человеком, личным Богом, возникает в первую очередь. Философская доктрина, игнорирующая доступность онтологических ценностей для разума; почти полный отказ от собственно рациональных и интеллектуальных доказательств в области метафизики; забвение того существенного факта, что мистический опыт предполагает познаваемую естественным и сверхъестественным путем реальность своего объекта и что он превращается в ничто, если он не есть приятие бытийствующей Истины, – все это, очевидно, и склоняет бергсоновскую теологию к своеобразному эволюционизму пелагианского типа, оставляющему без внимания или сглаживающему различие природы и благодати.
На это, конечно, можно возразить, что Бергсон никоим образом не впадает в пелагианскую теологию, поскольку он вообще не разрабатывает теологии. Совершенно верно. Но тогда встает вопрос, оправдан ли такой метод – философствовать о религии, не разрабатывая вовсе никакой теологии.
Бергсонизм с точки зрения философии как духа: определяющие интуиции
Мы рассмотрели некоторые важные положения «Двух источников» с точки зрения концептуализации и построения доктрины, или в аспекте философии как системы; при этом нам пришлось сделать немало критических замечаний. Но все предстает в ином свете, если рассматривать учение Бергсона с точки зрения философии как духа, или с точки зрения определяющих интенций и интуиций. Здесь мы можем восхищаться с чистой душою.
Нет ничего более волнующего, а в каком-то смысле и более убедительно свидетельствующего о трансцендентной природе духа, нежели мысль, вопреки своему философскому аппарату неустанно и смело следующая ясным духовным путем и благодаря внутреннему свету отыскивающая двери, на пороге которых останавливается всякая философия (войти в эти двери философу предстояло несколькими годами позже)[41 - Г-жа Бергсон опубликовала фрагмент завещания своего мужа, датированного 8 февраля 1937 г. Вот этот фрагмент: «Мои размышления постепенно привели меня к католичеству, в котором я вижу полное завершение иудаизма. Я принял бы его, если бы не видел, как на протяжении нескольких лет поднимается страшная волна антисемитизма, которая вот-вот обрушится на мир. Я хотел оставаться среди тех, кого завтра будут преследовать. Но я надеюсь, что католический священник согласится, с позволения кардинала – архиепископа Парижского, прочесть молитву на моих похоронах. В случае, если такое разрешение не будет получено, надо обратиться к раввину, не скрывая от него и вообще от кого бы то ни было моей моральной приверженности к католичеству, так что в первую очередь я изъявляю желание, чтобы меня отпевал католический священник». Воля Бергсона была исполнена: католический священник молился над его телом.До того как строки, опубликованные г-жой Бергсон, стали известны в Америке, Раиса Маритен сообщила одному из нью-йоркских журналов следующую информацию: «Вот новые сведения для архивов “Commonweal”, относительно христианства Бергсона. Мне написали из Швейцарии, что после публикации французского текста моей статьи в журнале “Nova et Vetera” газета “Figaro” опубликовала отклик “Бергсон и католичество”, где приводится свидетельство «одного известного доминиканца, состоявшего в дружеских отношениях с Бергсоном”. Согласно этому свидетельству, Бергсон не принял, но решился принять крещение: «Бергсон изъявил желание креститься и выбрал для этого священника. Но он заявил, что хочет подождать, – из щепетильности, принимая во внимание происходящие события. Мне известно это от самого упомянутого священника, который в соответствии с волей покойного был призван его родными для отпевания тела, хотя похороны не были христианскими”. Является ли эта версия окончательной, или ее дополнят еще какие-нибудь свидетельства? Как бы то ни было, отсюда явствует, что Бергсон хотел креститься и даже выбрал для этого священнослужителя. Слова “известного доминиканца” подтверждают самое существенное: желание креститься и религиозные убеждения великого философа» («The Commonweal», 29 aug. 1941).Анри Бергсон умер в Париже 4 января 1941 г.].
Мы указали, какие оговорки забота о строгости доктрины обязывает сделать в отношении предлагаемой Бергсоном общей интерпретации мистической жизни. В сущности, отмеченные недостатки его интерпретации показывают, прежде всего, что в этой сфере философия сама по себе недостаточна; поскольку, заботясь о чисто философском методе, она полагает, что не должна непосредственно затрагивать тайну благодати и тайну креста или, иными словами, считает себя не вправе объединяться с теологией в трактовке вопросов, связанных с мистицизмом, – постольку она не способна постичь в их подлинных истоках явления мистической жизни, даже если относится к ним с искренним почитанием. Но какой чистый философ изучал их более добросовестно, с более смиренной и благородной любовью, чем Анри Бергсон?
Пора наконец сказать, сколь признательны мы ему за великолепные страницы, посвященные мистикам и обнаруживающие удивительно чуткое и щедрое внимание к реальностям, присутствие и воздействие которых он сам ощутил. Здесь он разбивает убогие схемы феноменалистической психологии; и, зная антимистические предубеждения, упомянутые мной в начале главы, понимаешь, как решительно защищает он мистиков, когда утверждает о крепком интеллектуальном здоровье этих душ, достигших жизни, в определенном смысле сверхчеловеческой. Обратимся к самим текстам; я приведу несколько страниц из «Двух источников».
«…Мы можем заключить, что ни в Греции, ни в Древней Индии не было полного мистицизма, либо потому что порыв там был недостаточен, либо потому что ему препятствовали материальные обстоятельства или слишком узкая интеллектуальность. Его появление в определенный момент позволяет нам ретроспективно присутствовать при его подготовке, подобно тому как внезапно возникший вулкан проясняет длинный ряд землетрясений в прошлом.
Полный мистицизм на самом деле – это мистицизм великих христианских мистиков…
Когда мы берем таким образом в ее конечной точке внутреннюю эволюцию великих мистиков, мы задаемся вопросом, как могли уподоблять их больным. Разумеется, мы живем в состоянии неустойчивого равновесия, и среднее здоровье духа, как, впрочем, и тела, – вещь трудноопределимая. Существует, однако, исключительное, прочно утвердившееся интеллектуальное здоровье, которое узнается без труда. Оно проявляется во вкусе к деятельности, в способности к адаптации и реадаптации, в твердости характера в сочетании с гибкостью, в пророческом умении отличать возможное от невозможного, в духе простоты, побеждающем всякого рода сложности, наконец, в превосходном здравом смысле. Разве не эти самые черты мы находим у мистиков, о которых идет речь? И не могут ли они быть полезными для самого определения крепкого интеллектуального здоровья?