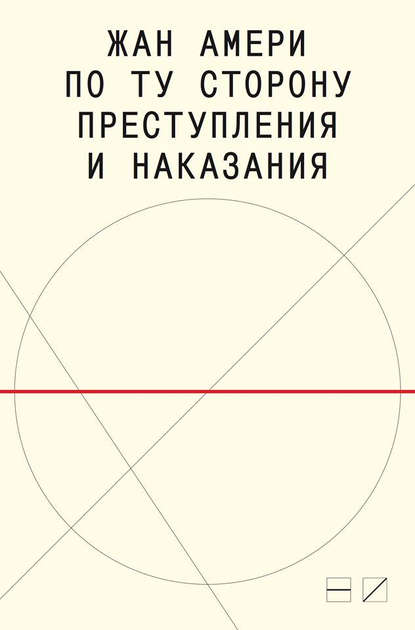По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По ту сторону преступления и наказания. Попытки одоленного одолеть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По ту сторону преступления и наказания. Попытки одоленного одолеть
Жан Амери
«По ту сторону преступления и наказания» – книга, написанная австрийским философом и писателем, бывшим узником Освенцима, Бухенвальда и Берген-Бельзена Жаном Амери в середине 1960-х годов, десятилетии, когда дискуссия о цене Второй мировой войны, вине немцев и моральных последствиях концлагерей оказалась в центре европейской интеллектуальной жизни. Абстрактному морализаторству современников Амери противопоставил свой личный, радикальный опыт, обобщенный в цикле эссе о существовании интеллектуала в концлагере, физических пытках, праве на месть, невозможности прощения и крушении национальной самоидентификации, вызванном преследованием евреев в годы нацизма.
Жан Амери
По ту сторону преступления и наказания: Попытки одоленного одолеть
Jean Amery
Jenseits von Schuld und S?hne
Bew?ltigungsversuche eines ?berw?ltigten
Klett-Cotta © 1977 J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
Перевод с немецкого Игорь Эбаноидзе, Нина Федорова (статья В.Г. Зебальда)
Предисловие к изданию 1977 года
Между временем написания этой книги и сегодняшним днем пролегло более тридцати лет, и хорошими эти годы не назовешь. Достаточно познакомиться с докладами «Эмнисти Интернешнл», чтобы понять: по части ужасов этот отрезок времени может поспорить с худшими эпохами истории, столь же реальной, сколь и противоречащей разуму. Порой кажется, будто Гитлер добился посмертного триумфа. Вторжения, агрессии, пытки, разрушение самой сущности человека. Достаточно упомянуть хотя бы Чехословакию 1968 года, Чили, насильственную эвакуацию Пномпеня, советские психушки, эскадроны смерти в Бразилии и Аргентине, саморазоблачение режимов третьего мира, именующих себя «социалистическими», Эфиопию, Уганду. К чему тут еще и моя попытка поразмышлять о conditio inhumana[1 - Нечеловеческое состояние (лат.).] жертв Третьего рейха? Ведь все это давным-давно известно? Или, быть может, мой текст следует по меньшей мере переработать?
Однако, перечитывая написанное тогда, я обнаруживаю, что переработка неизбежно станет трюком, журналистской данью актуальности, так что я не намерен брать назад ничего из высказанного и добавить могу совсем немного. Нет сомнения: все изведанные нами кошмары не отменяют факта, не постигнутого мною поныне, а пожалуй, и принципиально непостижимого, несмотря на усердные историко-психолого-социолого-политические исследования, которые уже есть и еще появятся, – факта, что в 1933–1945 годах в немецком народе, достигшем высокого уровня образованности, индустриального развития, беспримерного культурного богатства, – в «народе поэтов и мыслителей»! – произошло то, о чем я говорю в своих заметках.
Все попытки объяснения, по большей части сводящие происшедшее к одной-единственной причине, провалились самым смехотворным образом. Чистейшая бессмыслица— утверждать, будто истоки того, что обозначают символическими кодами «Освенцим» и «Треблинка», заложены в истории немецкого духа еще начиная с Лютера и тянутся дальше к Клейсту, а затем к «консервативной революции» и, наконец, к Хайдеггеру, то бишь говорить о «немецком национальном характере». Еще менее приемлемо для прояснения происшедшего говорить о «фашизме» как самой крайней форме «позднего капитализма». Версальский договор, экономический кризис и нужда, которая гнала народ в объятия нацизма, – детский лепет. После кризиса 1929 года безработных хватало и в других странах, в том числе и в США, где, однако, объявился не Гитлер, а Франклин Делано Рузвельт; Франции тоже пришлось заключить «позорный мир» после поражения под Седаном, там, правда, были идеологи-шовинисты вроде Шарля Морраса, но в историческом авангарде оказались те, кто на процессе Дрейфуса сумел защитить республику от мощного напора милитаристов. Ни Квислинг, ни Муссерт, ни Дегрель, ни сэр Освальд Мосли не получили власти из рук своего народа, поголовно согласного, даже ликующего народа начиная с ректора почтенного университета и кончая каким-нибудь голодранцем в городских трущобах. Ведь немецкий народ действительно ликовал, когда настал «день Потсдама», невзирая на результаты прошедших выборов. Я при этом присутствовал. И пусть молодые умники-политологи не рассказывают мне свои превратные истории, в глазах любого очевидца тех событий они выглядят в высшей степени нелепо.
Историография всегда замечает лишь отдельные аспекты и за деревьями не видит леса, немецкого леса Третьего рейха. Но тем самым и история как понятие утрачивает всякий смысл – в связи с этим мне вспоминается лишь фраза из книги Клода Леви-Строса «Неприрученная мысль», он говорит, что в конце концов вся история разлагается на цепочки физических процессов и у слова «история» нет подлинного объекта.
Итак, поскольку, с одной стороны, нет никаких сочинений, действительно разъясняющих происшедшую в Германии вспышку радикального зла, а с другой стороны, это зло на деле (и несмотря на события в Чили, события в Бразилии, несмотря на зверства насильственной эвакуации Пномпеня, несмотря на убийство, возможно, миллиона индонезийских «коммунистов» после падения правительства Сукарно, несмотря на преступления Сталина и злодеяния греческих «черных полковников») в своей совокупной внутренней логике и треклятой рациональности является единичным и необратимым, мы по-прежнему упираемся в мрачную загадку. Известно: случилось это не в развивающейся стране, не в качестве прямого продолжения тиранического режима, как в Советском Союзе, не в кровавых битвах опасающейся за свое существование революции, как во Франции времен Робеспьера. Это случилось в Германии. Родилось словно из неживого, заложенного во чрево, которое в итоге произвело на свет противоестественность. И все попытки экономического объяснения, все до отчаяния одномерные ссылки на то, что немецкий промышленный капитал, опасаясь за свои привилегии, финансировал Гитлера, ничего не говорят очевидцу событий, говорят столь же мало, сколь и изощренные абстрактные размышления о диалектике Просвещения.
Поэтому я не пытался выстраивать объяснения ни тогда, тринадцать лет назад, ни сегодня – я способен только свидетельствовать. Кстати, сейчас, как и тогда, Третий рейх меня не интересует. Что меня занимает и о чем я вправе говорить – это жертвы рейха. Я не стремлюсь поставить им памятник, потому что быть только жертвой – еще не честь. Я лишь хотел описать морально-психическое состояние, а оно неизменно. Потому-то и не стал трогать текст, впервые опубликованный в 1966 году. Всего лишь одна деталь – для меня огромная – добавлена к главе «О вынужденности и невозможности быть евреем», таково веление времени.
Когда я писал книгу, когда завершал ее, антисемитизма в Германии не было, вернее, если он где и был, то не смел показаться на глаза. Происшедшее с евреями замалчивали, а не то и ударялись в навязчивый филосемитизм, мучительный для достойных жертв, а для менее достойных, чье существование не следует скрывать, – удобная возможность получить с больной немецкой совести приличные дивиденды. Однако ситуация изменилась. Старо-новый антисемитизм нагло поднимает свою отвратительную голову и не вызывает возмущения – заметим кстати, что это касается не только Германии, но и большинства европейских стран за исключением совсем немногих, таких как отважные Нидерланды, заслуживающие особого упоминания за свое образцовое поведение. Жертвы уходят в мир иной, и ладно, они стали лишними, и уже давно. Дохнут и палачи – к счастью, согласно закону биологического отмирания. Но в обоих лагерях постоянно подрастают новые поколения, несущие на себе отпечаток происхождения и окружения, и между этими лагерями вновь разверзается старая непреодолимая пропасть. Когда-нибудь время перекроет ее, наверняка. Только ни в коем случае не гнилое примиренчество, бездумное и лживое в своей сути, уже сейчас подгоняющее наступление той самой поры. Напротив, поскольку это пропасть моральная, пусть она пока остается разверстой, и в этом тоже смысл повторной публикации моей книги.
Для меня важно, чтобы молодежь Германии – восприимчивая, душевно щедрая и проникнутая утопизмом, то есть левая, – не очутилась вдруг в лагере тех, кто является врагом и для нее, и для меня. Эти молодые люди слишком легко рассуждают о «фашизме». И не замечают, что налагают на действительность ФРГ всего лишь сетку плохо продуманных идеологий и что эта нуждающаяся в срочном улучшении действительность хотя и содержит в себе достаточно возмутительных несправедливостей – как, например, закон, обычно именуемый «указом о радикалах», – все же не становится от этого фашистской.
ФРГ как свободное государство находится под серьезной угрозой, подобно любой демократии во все времена, таковы ее риски, и опасности, и привилегии. Никто не знает о необходимости быть бдительным лучше тех, кто в свое время оказался свидетелем краха немецкой свободы. Однако летописцы нашей эпохи столь же хорошо знают, что бдительность не должна превращаться в параноидальное состояние, в конечном счете выгодное лишь тем, кто мечтает задушить демократические свободы своими жирными руками – руками палачей. Если же молодые левые демократы Германии заходят так далеко, что не только считают собственное государство наполовину фашистским, но и огульно именуют все, как они говорят, «формальные» демократии (а среди них в первую очередь подвергающееся страшной угрозе карликовое государство Израиль!) фашистскими, империалистическими, колониалистскими и действуют соответствующим образом, то для каждого из переживших нацистские ужасы наступает момент, когда он обязан вмешаться – каким бы ни был эффект его вмешательства. Будучи жертвой нацизма как по политическим причинам, так и по причине еврейского происхождения, я не могу молчать, когда под флагом антисионизма снова выползает старый убогий антисемитизм. Невозможность быть евреем превращается в вынужденность быть евреем – причем евреем, страстно протестующим. Так пусть эта книга, совершенно неестественным образом одновременно неактуальная и чрезвычайно актуальная, будет не только свидетельством того, чем был подлинный фашизм и, в частности, нацизм, но одновременно и призывом к немецкой молодежи: одумайтесь! Антисемитизм обладает глубоко укорененной в коллективной психологии инфраструктурой, вероятно восходящей (если проанализировать ее до конца) к загнанным в подсознание религиозным чувствам и обидам. Он может ожить в любой момент – я испытал глубокий ужас, хотя, в сущности, не удивился, когда узнал, что на митинге в защиту палестинцев, проходившем в одном из крупных городов Германии, не только проклинали «сионизм» (что бы ни понималось под этим политическим понятием) как всемирную чуму, но возбужденные молодые антифашисты лихо скандировали: «Смерть еврейскому народу!»
Нам это привычно. Нам уже довелось видеть, как слово становилось плотью, а потом ставшее плотью слово обращалось в горы трупов. Снова затевают игру с огнем, который для великого множества людей уже обернулся «могилой в воздушном пространстве». Я объявляю пожарную тревогу. Когда в 1966 году вышло первое издание этой книги и среди моих противников были только мои естественные враги – нацисты, старые и новые, иррационалисты и фашисты, реакционное отродье, в 1939 году ввергнувшее мир в убийственную катастрофу, мне в голову не приходило, что дело дойдет до такого. Необходимость выступать сегодня против моих естественных друзей, молодых людей левых убеждений, – вовсе не избитая «диалектика». Перед нами очередной скверный фарс мировой истории, заставляющий сначала сомневаться в смысле истории вообще, а в итоге приводящий в отчаяние. Старые дураки из лагеря неистребимых реакционеров делают из Шпеера этакого автора немецких бестселлеров, юные фантазеры не замечают ничего из просветительского наследия былых эпох – от французских энциклопедистов, английских экономистов-теоретиков до немецких левых интеллектуалов межвоенной поры.
Просвещение. Вот оно, ключевое слово. Предлагаемые размышления уже более десяти лет служили и служат, как я надеюсь, делу просвещения, которое можно назвать и буржуазным, и социалистическим. Правда, методологически понятие просвещения не следует понимать в данном случае слишком узко, поскольку в моем понимании оно охватывает не только логическую дедукцию и эмпирическую верификацию, но еще и волю и способность к феноменологической спекуляции, к эмпатии, к продвижению до самых границ рациональности. Лишь исполнив закон просвещения и одновременно выйдя за его пределы, мы духовно попадем в пространство, где «la raison», сиречь «разум», не порождает пошлого резонерства. Здесь причина того, почему я и прежде, и теперь неизменно отталкиваюсь от конкретного события, однако никогда не теряюсь в нем, а использую его как повод для размышлений, уходящих (минуя излишнее умничанье и резонерство) в мыслительные области, окутанные неопределенным сумраком, и этот сумрак останется, сколько бы я ни стремился внести в него свет, без которого он не обретет истинной пространственности. Однако – и на этом я тоже настаиваю – просвещение не есть прояснение. Ни когда писал эту книжицу, ни сейчас ясности у меня нет. Прояснение означало бы завершение, окончательное установление фактов, которые можно отправить в исторические архивы. Но моя книга предназначена как раз для того, чтобы этому воспрепятствовать. Ничто не нашло разрешения, ни один конфликт не улажен, ни одна зарубка в памяти не стала просто воспоминанием. Случившегося не воротишь. А вот с тем, что это случилось, просто так примириться нельзя. Я протестую, я восстаю – против своего прошлого, против истории, против современности, которая замораживает непостижное в виде истории и, стало быть, самым возмутительным образом его фальсифицирует. Ничто не зарубцевалось, и то, что в 1964 году, казалось, уже зажило, вновь раскрывается гнойной раной. Эмоции? Пусть так. А кто сказал, что просвещение должно быть лишенным эмоций? Я-то полагаю, что как раз наоборот.
Просвещение справится со своей задачей, только если примется за дело со страстью.
Брюссель, зима 1976 года
Предисловие
Когда в 1964 году во Франкфурте-на-Майне начался Большой процесс по делам Освенцима, я, нарушив двадцатилетнее молчание, написал первое эссе о пережитом в Третьем рейхе. Поначалу я и не помышлял о продолжении, стремился лишь разобраться с отдельной проблемой – положением интеллектуала в концентрационном лагере. Но когда это эссе было завершено, я почувствовал, что ограничиться этим никак нельзя. Освенцим. Как же я туда попал? Что было до того, что случилось потом, что я могу сказать сейчас?
Не могу утверждать, что в годы молчания я забыл или «вытеснил в подсознание» двенадцать лет немецкой и моей собственной судьбы. Два десятилетия я провел в поисках не подлежащего утрате времени, только вот говорить об этом мне было трудно. Теперь же, когда эссе об Освенциме как бы сломало печать молчания, меня словно прорвало: хотелось сказать все, так и появилась эта книга. Попутно я обнаружил, что немало осмыслил, но формулировал слишком неясно. Лишь в ходе работы над текстом выявилось то, что смутно, полуосознанно виделось мне на пороге словесного выражения, на грани меж мыслью и образом.
Вскоре исподволь сложился и метод. Если при написании первых строк эссе об Освенциме я еще полагал, что сохраню осторожную дистанцию и сдержанную объективность, то уже через некоторое время стало ясно, что это просто невозможно. Как раз там, где следовало решительно избегать «я», оно оказывалось единственно пригодной точкой отсчета. Я планировал неторопливое, рассудительное эссе, а возникла исповедь, насыщенная субъективными размышлениями. К тому же я очень быстро понял, сколь бессмысленно было бы просто добавить еще одну работу к множеству уже имеющихся и отчасти превосходных документальных трудов на эти темы. Исповедуясь и размышляя, я пришел к исследованию или, если угодно, к описанию сути существования в роли жертвы.
Медленно и трудно я продвигался сквозь толщу до тошноты знакомого, но вместе с тем оставшегося чуждым. Потому-то главы-эссе в этой книге и расположены не согласно хронологии событий, а согласно последовательности их написания. Читателю, коль скоро он вообще присоединится ко мне, придется шаг за шагом, примеряясь к моему темпу, идти из тьмы к свету. При этом он столкнется с противоречиями, из которых я и сам не нашел выхода. В главе о пытке, например, мне было еще отнюдь не ясно, какое значение должно придать понятию достоинства, и я словно отбросил его, но позднее, в главе о вынужденности и невозможности быть евреем, пришел к убеждению, что достоинство есть предоставляемое обществом право на жизнь. Точно так же, пока писал об Освенциме и пытке, я еще не видел с достаточной отчетливостью, что моя ситуация не исчерпывается понятием «жертва нацизма», – и, лишь добравшись до конца своих размышлений, до вынужденности и невозможности быть евреем, я обрел себя в образе жертвы-еврея.
На этих страницах, быть может и неполных, однако, смею утверждать, искренних, очень много сказано о вине и каре, о преступлении и наказании, ведь я не собирался щадить ни свои нервы, ни нервы других. Тем не менее я полагаю, что в конечном итоге данное сочинение находится по ту сторону преступления и наказания. Здесь описано, как обстоит с попранным, порабощенным человеком, вот и все.
Эта книга адресована не моим товарищам по несчастью. Они и так все знают. Каждый из них по-своему несет груз пережитого. А вот немцам, которые в преобладающем большинстве считают себя не имеющими отношения (или уже не имеющими отношения) к самым мрачным и в то же время чрезвычайно значимым преступлениям Третьего рейха, я расскажу кое-что, о чем им, возможно, прежде не было известно. Наконец, порой я надеюсь, что у этой книги доброе предназначение и в таком случае она может быть адресована каждому, кто желает жить в мире с другими людьми.
Брюссель, 1966
На рубежах духа
Будьте осторожны, посоветовал мне благонамеренный друг, услыхав о моем плане рассказать об интеллектуале в Освенциме. И настоятельно рекомендовал как можно меньше говорить об Освенциме и как можно больше – о духовных вопросах. Вдобавок он полагал целесообразным по возможности отказаться от упоминания слова «Освенцим» уже в названии: у публики аллергия на это географическое, историческое, политическое понятие. В конце концов и без того существует достаточно всевозможных книг и документов об Освенциме, и еще один рассказ об ужасах и зверствах не прибавит ничего нового. Я не уверен, что мой друг прав, и потому вряд ли смогу последовать его совету. У меня нет ощущения, что об Освенциме написано так же много, как, скажем, об электронной музыке или боннском бундестаге. И я по-прежнему думаю, что некоторые книги об Освенциме стоило бы ввести в качестве обязательного чтения в старших классах общеобразовательной школы, и вообще, не должны ли мы отбросить многие предрассудки, если хотим заниматься политической историей духа? Я действительно не собираюсь рассказывать здесь только об Освенциме, не собираюсь давать документальный отчет, я решил говорить о конфронтации Освенцима и духа. Но при этом не стану совсем уж игнорировать то, что называют кошмарами, – события, перед которыми, как некогда говорил Брехт, сердца сильны, но нервы слабы. Моя тема – рубежи духа, а что эти рубежи вплотную подступают как раз к территории означенных одиозных кошмаров, не моя вина.
Коль скоро речь пойдет об интеллектуале, или, как раньше говорили, о «человеке духовном», оказавшемся в Освенциме, необходимо, пожалуй, для начала дать определение моему объекту, а именно интеллектуалу. Кто такой, в моей трактовке, интеллектуал, или человек духовный? Разумеется, не любой представитель так называемых интеллигентных профессий; формальное высшее образование здесь, быть может, и необходимое, но уж никак не достаточное условие. Каждый из нас знает адвокатов, инженеров, врачей, вероятно, даже филологов – людей интеллигентных, а в своем деле, пожалуй, и выдающихся, которых, однако, едва ли можно назвать интеллектуалами. Мне бы хотелось, чтобы под интеллектуалом здесь разумели человека, который живет внутри в широчайшем смысле духовной системы соотнесенностей. Его ассоциативное пространство по существу гуманистично или гуманитарно. У него хорошо развитое эстетическое сознание. Склонности и способности побуждают его к абстрактному мышлению. По любому поводу у него возникают ассоциативные цепочки из гуманитарно-исторической сферы. Если, например, спросить, имя какой знаменитости начинается с «Лилиен-», на ум ему придет не конструктор-планерист Отто фон Лилиенталь, а поэт Детлеф фон Лилиенкрон. Скажите «общество» – и он воспримет это не в светском, а в социологическом смысле. Физический процесс, вызывающий короткое замыкание, его не интересует, зато о творце галантной сельской поэзии Найдхарте фон Ройентале он хорошо осведомлен.
И вот такого интеллектуала, сиречь человека, который знает наизусть строфы великой поэзии, которому знакомы прославленные полотна Возрождения и сюрреализма, который как рыба в воде чувствует себя в истории философии и музыки, – вот такого интеллектуала мы поместим туда, где ему придется подтвердить присутствие и действенность своего духа или признать его фикцией, мы поместим его в пограничную ситуацию, в Освенцим.
При этом я, разумеется, имею в виду себя. Будучи не только евреем, но и участником бельгийского Сопротивления, помимо Бухенвальда, Берген-Бельзена и других концентрационных лагерей, я провел год в Освенциме, точнее в одном из трех тамошних лагерей – Аушвиц-Моновице. Поэтому местоимение «я» будет встречаться здесь чаще, чем мне хотелось бы, а именно там, где мой личный опыт не может быть заменен ничьим иным.
Начнем наш разговор с описания внешней ситуации интеллектуала, которую ему, кстати, приходилось делить со всеми, в том числе и с не слишком духовными представителями так называемых интеллигентных профессий. Это скверное положение, и самым драматическим образом оно проявлялось в вопросе жизни и смерти – в вопросе работы. Мастеров и ремесленников в Аушвиц-Моновице чаще всего направляли на работу по профессии, если только они сразу не оказывались в газовой камере по причинам, которые мы здесь обсуждать не будем. Например, слесарь был человеком привилегированным, потому что мог пригодиться на фабрике «ИГ Фарбен», которую собирались строить; у него был шанс получить работу в крытом, защищенном от непогоды цехе. То же можно сказать об электрике, сантехнике, монтере, столяре или плотнике. Портной или сапожник, если повезет, мог оказаться в мастерской, выполняющей заказы для СС. У каменщика, повара, радиотехника, автомеханика был минимальный шанс получить какое-нибудь сносное рабочее место и таким образом выжить.
Иным было положение человека интеллигентной профессии. Его ожидала судьба коммерсанта, также принадлежавшего в лагере к люмпен-пролетариату, – зачисление в рабочий отряд, который копал землю, прокладывал кабель, перетаскивал мешки с цементом или железные балки. В лагере он становился чернорабочим, чье место на улице, – тем самым ему зачастую уже выносили приговор. Конечно, и здесь имелись свои различия. Так, химики во взятом нами для примера лагере работали по специальности, как мой товарищ по бараку Примо Леви из Турина, написавший впоследствии об Освенциме книгу «Человек ли это?». У врачей была возможность найти убежище в так называемом лазарете, хотя, естественно, не у всех. К примеру, венский врач д-р Виктор Франкл, ныне психолог с мировым именем, долгие годы был в Аушвиц-Моновице землекопом. В общем и целом можно сказать, что для представителей интеллигентных профессий с работой обстояло паршиво. Поэтому многие старались скрыть род своих занятий. Тот, кто обладал мало-мальскими навыками и, скажем, умел кое-как смастерить какую-никакую поделку, смело объявлял себя мастером-ремесленником, конечно же рискуя жизнью, если все-таки выяснится, что он сказал неправду. Большинство пытало счастья, занижая свой статус. Гимназический преподаватель или университетский профессор на вопрос о профессии скромно именовал себя «учителем», чтобы не вызвать лютого гнева эсэсовца или капо. Адвокат превращался в простого бухгалтера, журналист выдавал себя, скажем, за наборщика, причем мог почти не опасаться, что придется демонстрировать свои умения. Они таскали рельсы, трубы и бревна – все эти университетские преподаватели, юристы, библиотекари, искусствоведы, экономисты, математики. Зачастую они не обладали ни физической силой, ни ловкостью, и ждать, пока с работы их уведут в соседний, главный лагерь, где находились газовые камеры и крематории, обычно приходилось недолго.
На рабочем месте им было тяжело, но и внутри лагеря не легче. Лагерная жизнь требовала прежде всего физической ловкости и отваги, необходимо граничащей с жестокостью. Ни тем ни другим работники умственного труда обычно не отличались, а нравственная храбрость, которой они часто пытались восполнить отсутствие физической, не стоила ни гроша. Допустим, надо было отучить профессионального варшавского карманника воровать у нас шнурки. Тут вполне годился хук в челюсть, но никак не духовная отвага какого-нибудь политического журналиста, с опасностью для жизни опубликовавшего разоблачительную статью. Излишне говорить, что адвокат или гимназический учитель лишь в крайне редких случаях мог умело двинуть в челюсть, куда чаще доставалось ему самому, и бил и принимал удары он одинаково неловко. Не справлялся он и с лагерной дисциплиной. Представители интеллигентных профессий не проявляли особого таланта к заправке коек. Я вспоминаю своих образованных и высококультурных товарищей, которые каждое утро, обливаясь потом, сражались с соломенным тюфяком и одеялом, но так и не могли соорудить что-нибудь мало-мальски путное, так что потом на работе мучились неотступным, навязчивым страхом, что по возвращении их ждет наказание – побои или лишение пайки. Не под силу им были ни заправка коек, ни бравое «Шапки долой!», и уж совершенно не умели они при необходимости найти правильный тон в обращении к старшему по блоку или эсэсовцу – одновременно слегка подобострастный и уверенный, помогавший иной раз отвести грозящую опасность. Поэтому их презирали все: начальство из числа заключенных и товарищи в лагере, вольные и капо – на работе.
А что еще хуже, они даже друзей найти не могли. Большей частью были просто физически не в состоянии изъясняться на лагерном жаргоне, являвшемся там единственной общепринятой формой общения. В пространстве современной культурной дискуссии очень много говорят о трудности коммуникации между современниками и при этом, как правило, несут полный вздор. А вот в лагере действительно существовала проблема коммуникации между духовным человеком и большинством его товарищей, которая ежечасно и мучительно обнаруживала себя на практике. Заключенному, привыкшему выражаться несколько иным образом, приходилось делать над собой громадное усилие, чтобы сказать «Вали отсюда!» или называть других заключенных исключительно «братишка». Я очень хорошо помню то физическое отвращение, какое охватывало меня всякий раз, когда мой товарищ, во всем прочем вполне порядочный и обходительный, называл меня не иначе как «мил человек». Выражения вроде «кухонная крыса», «организовать» (в смысле незаконно присвоить какую-то вещь) причиняли интеллектуалу страдания, а такие формулы, как «отправиться на живодерню», он произносил с большим трудом.
Тут я перехожу к фундаментальным психологическим и экзистенциальным проблемам лагерной жизни и к интеллектуалу в узком смысле слова, вчерне обозначенном выше. Напрашивается вопрос, который вкратце можно сформулировать так: помогали ли заключенному в решающий момент умственное развитие и базовые интеллектуальные установки? Давали ли ему возможность выстоять? Первое, что я вспомнил, задав себе этот вопрос, были не мои собственные освенцимские будни, а прекрасная книга моего голландского друга и товарища по несчастью, писателя Нико Роста. Книга называется «Гёте в Дахау». Когда годы спустя я вновь взял ее в руки, кое-что в ней меня просто поразило. Например, там говорилось: «Сегодня утром хотел взяться за заметки о „Гиперионе“». Или: «Снова читал о Маймониде, о его влиянии на Альберта Великого, Фому Аквинского и Дунса Скота». Или: «Сегодня во время воздушного налета опять попытался думать о Гердере…» А дальше совершенно для меня неожиданное: «Еще больше читать, еще больше и интенсивнее учиться. Каждую свободную минуту! Классическая литература взамен посылок Красного Креста». Когда я прочитал эти слова и сопоставил со своими собственными лагерными воспоминаниями, мне стало ужасно стыдно, потому что я не мог предъявить ничего подобного достойной восхищения, всецело духовной позиции
Нико Роста. Нет, я совершенно точно не стал бы ничего читать о Маймониде, даже если бы мне в руки попала соответствующая книга, что в Освенциме едва ли можно себе вообразить. Во время налета я бы даже не пытался размышлять о Гердере. А предположение, что посылку с продуктами может при случае заменить классическая литература, я бы отмел не то что с иронией, но с отчаянием. Когда я читал книгу своего товарища по Дахау, мне, как я уже сказал, было очень стыдно, однако в конце концов я сумел найти себе некоторое оправдание. Пожалуй, дело было не столько в относительно привилегированном положении Нико Роста, который работал санитаром в больничном бараке, тогда как я принадлежал к безымянной массе заключенных, сколько в том решающем обстоятельстве, что голландец оказался в Дахау, а не в Освенциме. На самом деле эти два лагеря не так-то просто привести к общему знаменателю.
Дахау был одним из первых национал-социалистских концлагерей и поэтому, если хотите, имел свои традиции; Освенцим был создан лишь в 1940 году и до самого конца подвергался чуть ли не каждодневным спонтанным изменениям. В Дахау среди заключенных преобладал политический элемент, в Освенциме же подавляющее большинство узников состояло из совершенно аполитичных евреев и политически крайне неустойчивых поляков. В Дахау внутреннее управление в значительной степени находилось в руках политических заключенных, в Освенциме тон задавали немецкие уголовники-рецидивисты. В Дахау существовала лагерная библиотека, в Освенциме для обыкновенного заключенного книга была чем-то почти невообразимым. Вообще в Дахау – как и в Бухенвальде – заключенные имели возможность противопоставить эсэсовскому государству, эсэсовской структуре собственную духовную структуру, иными словами, у духа там была социальная функция, хотя в основном она выражалась в политической, религиозной, идеологической форме и лишь в редких случаях, как, например, у Нико Роста, в философской и эстетической. В Освенциме же духовный человек находился в изоляции, предоставленный исключительно самому себе. Поэтому там проблема «дух перед лицом зверств» проявлялась в радикальной и, если позволительно так сказать, более чистой форме. В Освенциме дух был сам по себе, отсутствовала всякая возможность привязать его хоть к какой-нибудь социальной структуре, пусть даже убогой, подпольной. Интеллектуал оставался наедине со своим духом, то есть с содержимым собственного сознания, и дух этот не мог распрямиться и окрепнуть в социальной реальности. Примеры тому отчасти тривиальны, а отчасти относятся к таким областям бытия, которые не поддаются словесной передаче.
Интеллектуал, по крайней мере вначале, постоянно искал возможности социальной манифестации духа. Например, в обстоятельный рассказ соседа по нарам о блюдах, которые готовит его жена, он пытался вставить словечко о том, что сам дома много читал. Но, в тридцатый раз услышав в ответ «Вот придурок!», он замолкал. Все духовное в Освенциме потихоньку приобретало двойственную новизну: с одной стороны, психологически становилось чем-то совершенно нереальным, с другой, если применять социальные понятия, превращалось в этакую непозволительную роскошь. Порой эти новые факты переживались на более глубоких уровнях, нежели те, каких можно достичь в разговорах на нарах, и тогда дух внезапно утрачивал свое главное качество – трансцендентность.
Помню, как однажды зимним вечером, когда после работы мы под угнетающие крики капо «Левой раз, два, три» нестройным шагом брели с фабрики «ИГ Фарбен» назад в лагерь, мне попался на глаза флаг, бог весть почему развевавшийся на недостроенном здании. «Стены стоят / Хладны и немы. / Стонет ветер, / И дребезжат флюгера», – по ассоциации механически пробормотал я себе под нос. Потом повторил эту строфу громче, прислушался к звучанию слов, попробовал отдаться их ритму, ожидая, что во мне возникнет связанное с этим стихотворением Гёльдерлина эмоциональное и духовное переживание. Но ничего не произошло. Стихотворение утратило трансцендентность, не выходило за пределы действительности. Имело лишь сугубо буквальный смысл: так и так, капо орет «Левой!», а суп был жидкий, а ветер полощет флаги. Возможно, ощущение Гёльдерлина пробилось бы сквозь толщу психологического гумуса, случись рядом человек с мало-мальски близким мироощущением, которому я мог бы процитировать эти строки. Самое ужасное, что такого товарища не было – ни в рабочей команде, ни вообще в лагере. Но даже если и удавалось отыскать такого человека, то в силу собственной изоляции он уже был настолько отчужден от духа, что ни на что не реагировал. По этому поводу мне вспоминается встреча с одним известным парижским философом, находившимся в лагере. Я узнал, что он здесь, и не без труда и риска разыскал его в его блоке. С жестяными мисками под мышкой мы шагали по лагерным улицам, и я тщетно пытался завязать интеллектуальную беседу. Философ из Сорбонны отвечал механически и односложно, а потом и вовсе умолк. Можно ли назвать это «отупением»? Вовсе нет. Этот человек не отупел, как и я. Просто он больше не верил в реальность духовного мира, избегал интеллектуальной словесной игры.
Особые проблемы в связи с социальной функцией духа или ее отсутствием возникали у интеллектуала-еврея с немецким культурным базисом. К чему бы он ни обратился, все принадлежало не ему, а врагу. Бетховен. Но его музыкой дирижировал в Берлине Фуртвенглер, а Фуртвенглер в Третьем рейхе был уважаемой официальной персоной. О Новалисе печатали статьи в «Фёлькишер беобахтер», порой даже неглупые. Ницше принадлежал не только Гитлеру (эту неприятность еще кое-как можно бы пережить), но и симпатизирующему нацистам поэту Эрнсту Бертраму, который в нем разбирался. От мерзебургских заклинаний до Готфрида Бенна, от Букстехуде до Рихарда Штрауса – все духовное и эстетическое достояние перешло в бесспорную и неоспоримую собственность врага. Как-то раз один товарищ на вопрос о профессии безрассудно сказал правду, что он германист, чем вызвал жуткий припадок бешенства у эсэсовца. По-моему, в те же дни далеко за океаном, в США, Томас Манн сказал: «Где я, там немецкая культура». Немецко-еврейский заключенный Освенцима не мог бы сделать такого смелого заявления, будь он даже самим Томасом Манном. Он не мог объявить немецкую культуру своей собственностью, потому что его притязания не имели никакого социального основания. В эмиграции самое ничтожное меньшинство могло конституировать себя как носителя немецкой культуры, даже если Томас Манн к нему не принадлежал. Тогда как в Освенциме находившийся в полной изоляции человек должен был отдать всю немецкую культуру, включая Дюрера и Регера, Грифиуса и Тракля, самому последнему эсэсовцу.
Но даже если удавалось сочинить наивную и сомнительную сказку о «доброй» и «злой» Германии, о жалком Тораке, отдавшемся Гитлеру, и великом Тильмане Рименшнайдере, которому навязывались в компанию, – даже тут дух в конце концов был вынужден капитулировать перед реальностью. Причин тому множество, их трудно вычленить, а затем снова привести к синтезу, как следовало бы. Я не говорю о чисто физических причинах, так как не знаю, насколько это правомерно, ведь в конечном счете каждый узник лагеря зависел от большей или меньшей выносливости своего организма. Ясно, однако, что вопрос о воздействии духа нельзя ставить там, где человек, оказавшись на грани смерти от голода и истощения, не просто становится бездуховным, но в буквальном смысле теряет человеческий облик. Так называемый «мусульманин», «доходяга», как на лагерном жаргоне называли покорившегося судьбе и оставленного товарищами заключенного, более не обладал пространством сознания, где могли бы противостоять добро и зло, благородство и подлость, духовность и бездуховность. Это был бродячий труп, пучок агонизирующих физиологических функций. Его, как это ни тягостно, придется исключить из нашего рассмотрения. Я могу исходить только из моего собственного опыта, опыта заключенного, который голодал, но не умирал от голода, которого били, но не забили до смерти, у которого были раны, но не смертельные, то есть заключенного, который объективно еще обладал субстратом, где дух в принципе мог держаться и даже выстоять. Но держался дух еле-еле, на слабых ногах, и о стойкости его говорить не приходится, такова печальная правда. Я уже описывал, как переставали срабатывать, а не то и бесследно сгорали цепочки эстетических представлений и реминисценций. В большинстве случаев они не приносили утешения, порой оборачивались болью или издевкой, но чаще всего тонули в чувстве полного безразличия.
Исключения, разумеется, бывали – в состояниях своеобразного опьянения. Помню, однажды санитар в лазарете дал мне тарелку подслащенной манной каши, которую я жадно проглотил, после чего погрузился в состояние невероятной духовной эйфории. С глубоким умилением я сначала подумал о феномене человеческой доброты. Затем мне вспомнился образ славного Иоахима Цимсена из «Волшебной горы» Томаса Манна. И вдруг мое сознание до краев наполнилось хаотической мешаниной из прочитанных книг, обрывков знакомой музыки, собственных, как мне казалось, философских мыслей. Мною завладела безумная духовная жажда, сопровождавшаяся пронзительной жалостью к себе, от которой на глаза навернулись слезы. Причем не до конца затуманенным краем сознания я полностью отдавал себе отчет в иллюзорном характере такого минутного духовного подъема. Это было настоящее опьянение, вызванное физическими причинами. Позднее, поговорив с товарищами, я сделал вывод, что был отнюдь не единственным, кому в подобных обстоятельствах удалось достичь кратковременного духовного подъема. Аналогичное опьянение нередко возникало и у моих товарищей по несчастью – во время еды или от забытого уже наслаждения сигаретой. Как и всякое опьянение, оно оставляло после себя безрадостное, мучительное ощущение пустоты и стыда. Оно было глубоко фальшивым и не могло обогатить дух. Однако эстетические представления и всё, что они с собой несут, занимают в арсенале духовного человека лишь ограниченное и отнюдь не самое важное место. Гораздо важнее аналитическое мышление: можно бы ожидать, что перед лицом кошмара оно станет одновременно опорой и маяком.
Но и здесь я прихожу и приходил к неутешительным выводам. Рационально-аналитическое мышление в лагере, а особенно в Освенциме не только не помогало, но вело прямиком к трагической диалектике саморазрушения. Что я имею в виду, легко прояснить. Во-первых, интеллектуал не умел так просто, как неинтеллектуал, принять к сведению невообразимое. Наработанный навык ставить под вопрос явления повседневной жизни не позволял ему просто согласиться с лагерной реальностью, потому что она слишком резко противоречила всему, что он до сих пор считал возможным и приемлемым. На свободе он всегда имел дело лишь с людьми, восприимчивыми к гуманистически-разумной аргументации, и никак не мог постичь весьма несложную истину: по отношению к нему, заключенному, СС применяли логику уничтожения, такую же последовательную, какой за пределами лагеря была логика сохранения жизни. Надлежало всегда быть чисто выбритым, однако иметь бритвенные принадлежности строжайше запрещалось, а к брадобрею ходили раз в две недели. Под угрозой наказания надлежало иметь на полосатой робе все пуговицы, но если потеряешь одну на работе, а это неизбежно случалось, то заменить ее было практически невозможно. Надлежало быть сильным, но из заключенного систематически высасывались все силы. На входе в лагерь у него отбирали всё, а затем уголовники издевались над ним, потому что у него ничего не было. Духовно не очень развитой узник обычно принимал эти обстоятельства к сведению с известным хладнокровием, тем же, с каким раньше выслушивал утверждения вроде «На свете должны быть бедные и богатые» или «Войны будут всегда». Он принимал их, приспосабливался, а бывало, и торжествовал над ними победу. Интеллектуал же бунтовал, разум отказывался ему служить. Поначалу он убеждал себя наивной бунтарской мудростью: «Не может быть того, чего быть никак не должно». Но только поначалу.
Неприятие эсэсовской логики, внутренний бунт, бормотание заклинаний типа «Но это же невозможно», длилось недолго. Через некоторое время неизбежно возникала не просто покорность, но и, можно сказать, приятие эсэсовской логики, более того – эсэсовской системы ценностей. И снова заключенному-интеллектуалу было труднее, чем неинтеллектуалу. У последнего никогда не существовало универсальной гуманистической логики, у него была лишь последовательная система самосохранения. Да, на свободе он говорил: «На свете должны быть бедные и богатые», но при этом вел борьбу бедняка против богача и вовсе не усматривал здесь противоречия. Для него лагерная логика была лишь неким обострением логики экономической, и он встречал это обострение со здоровой смесью смирения и готовности к отпору. А вот интеллектуал после слома первого внутреннего сопротивления наконец осознавал, что то, чего быть не должно, очень даже может быть, эсэсовская логика становилась для него ежечасной реальностью, и тогда в своих размышлениях он продвигался на несколько роковых шагов дальше. Уж не правы ли те, кто старается его уничтожить, – правы по причине неоспоримого факта, что они сильнее? Таким образом, принципиальная духовная толерантность и методическое сомнение интеллектуала становились факторами саморазрушения. Да, эсэсовцы могли делать все, что хотели: естественного права не существует, а нравственные категории возникают и исчезают, как мода. Перед нами была Германия, уничтожающая евреев и политических противников, потому что считала, будто может осуществиться только таким способом. И что же? Греческая цивилизация была построена на рабстве, а армия афинян творила на Мелосе то же самое, что СС на Украине. Свет истории высвечивает повсюду в глубинах времен несчетные человеческие жертвы, ну а вечный человеческий прогресс и без того был не более чем наивной идеей XIX столетия. «Левой два, три, четыре» – такой же ритуал, как любой другой. Против зверств особых аргументов не было. Аппиева дорога была окаймлена крестами с распятыми рабами, а над Биркенау плыл смрадный дым от сожженных человеческих тел. Здесь мы были не Крассами, а Спартаками, вот и все. «Рейн их трупами наполним – / Пусть плотиною лежат, / Чтоб вскипали с пеной волны» – так воспевал Рейн Клейст, и, как знать, не осуществил ли бы он свои кровавые фантазии, попади в его руки власть. Где-то на русском фронте генерал фон Клейст командовал солдатами и, возможно, сооружал плотины из трупов евреев и комиссаров. Такова была история, и такова она есть. Ты попал под ее колесо и срывал шапку при приближении палача. После того как замирало первое сопротивление, интеллектуал со всеми своими знаниями и аналитическим мышлением оказывался вооружен против убийц куда слабее, чем неинтеллектуал: тот, конечно, выказывал перед ними молодцеватую выправку и потому больше им нравился, но в то же время он гораздо более органично и действенно, чем его задумчивый товарищ, боролся с ними, увиливая от работы и промышляя воровством.
Жан Амери
«По ту сторону преступления и наказания» – книга, написанная австрийским философом и писателем, бывшим узником Освенцима, Бухенвальда и Берген-Бельзена Жаном Амери в середине 1960-х годов, десятилетии, когда дискуссия о цене Второй мировой войны, вине немцев и моральных последствиях концлагерей оказалась в центре европейской интеллектуальной жизни. Абстрактному морализаторству современников Амери противопоставил свой личный, радикальный опыт, обобщенный в цикле эссе о существовании интеллектуала в концлагере, физических пытках, праве на месть, невозможности прощения и крушении национальной самоидентификации, вызванном преследованием евреев в годы нацизма.
Жан Амери
По ту сторону преступления и наказания: Попытки одоленного одолеть
Jean Amery
Jenseits von Schuld und S?hne
Bew?ltigungsversuche eines ?berw?ltigten
Klett-Cotta © 1977 J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
Перевод с немецкого Игорь Эбаноидзе, Нина Федорова (статья В.Г. Зебальда)
Предисловие к изданию 1977 года
Между временем написания этой книги и сегодняшним днем пролегло более тридцати лет, и хорошими эти годы не назовешь. Достаточно познакомиться с докладами «Эмнисти Интернешнл», чтобы понять: по части ужасов этот отрезок времени может поспорить с худшими эпохами истории, столь же реальной, сколь и противоречащей разуму. Порой кажется, будто Гитлер добился посмертного триумфа. Вторжения, агрессии, пытки, разрушение самой сущности человека. Достаточно упомянуть хотя бы Чехословакию 1968 года, Чили, насильственную эвакуацию Пномпеня, советские психушки, эскадроны смерти в Бразилии и Аргентине, саморазоблачение режимов третьего мира, именующих себя «социалистическими», Эфиопию, Уганду. К чему тут еще и моя попытка поразмышлять о conditio inhumana[1 - Нечеловеческое состояние (лат.).] жертв Третьего рейха? Ведь все это давным-давно известно? Или, быть может, мой текст следует по меньшей мере переработать?
Однако, перечитывая написанное тогда, я обнаруживаю, что переработка неизбежно станет трюком, журналистской данью актуальности, так что я не намерен брать назад ничего из высказанного и добавить могу совсем немного. Нет сомнения: все изведанные нами кошмары не отменяют факта, не постигнутого мною поныне, а пожалуй, и принципиально непостижимого, несмотря на усердные историко-психолого-социолого-политические исследования, которые уже есть и еще появятся, – факта, что в 1933–1945 годах в немецком народе, достигшем высокого уровня образованности, индустриального развития, беспримерного культурного богатства, – в «народе поэтов и мыслителей»! – произошло то, о чем я говорю в своих заметках.
Все попытки объяснения, по большей части сводящие происшедшее к одной-единственной причине, провалились самым смехотворным образом. Чистейшая бессмыслица— утверждать, будто истоки того, что обозначают символическими кодами «Освенцим» и «Треблинка», заложены в истории немецкого духа еще начиная с Лютера и тянутся дальше к Клейсту, а затем к «консервативной революции» и, наконец, к Хайдеггеру, то бишь говорить о «немецком национальном характере». Еще менее приемлемо для прояснения происшедшего говорить о «фашизме» как самой крайней форме «позднего капитализма». Версальский договор, экономический кризис и нужда, которая гнала народ в объятия нацизма, – детский лепет. После кризиса 1929 года безработных хватало и в других странах, в том числе и в США, где, однако, объявился не Гитлер, а Франклин Делано Рузвельт; Франции тоже пришлось заключить «позорный мир» после поражения под Седаном, там, правда, были идеологи-шовинисты вроде Шарля Морраса, но в историческом авангарде оказались те, кто на процессе Дрейфуса сумел защитить республику от мощного напора милитаристов. Ни Квислинг, ни Муссерт, ни Дегрель, ни сэр Освальд Мосли не получили власти из рук своего народа, поголовно согласного, даже ликующего народа начиная с ректора почтенного университета и кончая каким-нибудь голодранцем в городских трущобах. Ведь немецкий народ действительно ликовал, когда настал «день Потсдама», невзирая на результаты прошедших выборов. Я при этом присутствовал. И пусть молодые умники-политологи не рассказывают мне свои превратные истории, в глазах любого очевидца тех событий они выглядят в высшей степени нелепо.
Историография всегда замечает лишь отдельные аспекты и за деревьями не видит леса, немецкого леса Третьего рейха. Но тем самым и история как понятие утрачивает всякий смысл – в связи с этим мне вспоминается лишь фраза из книги Клода Леви-Строса «Неприрученная мысль», он говорит, что в конце концов вся история разлагается на цепочки физических процессов и у слова «история» нет подлинного объекта.
Итак, поскольку, с одной стороны, нет никаких сочинений, действительно разъясняющих происшедшую в Германии вспышку радикального зла, а с другой стороны, это зло на деле (и несмотря на события в Чили, события в Бразилии, несмотря на зверства насильственной эвакуации Пномпеня, несмотря на убийство, возможно, миллиона индонезийских «коммунистов» после падения правительства Сукарно, несмотря на преступления Сталина и злодеяния греческих «черных полковников») в своей совокупной внутренней логике и треклятой рациональности является единичным и необратимым, мы по-прежнему упираемся в мрачную загадку. Известно: случилось это не в развивающейся стране, не в качестве прямого продолжения тиранического режима, как в Советском Союзе, не в кровавых битвах опасающейся за свое существование революции, как во Франции времен Робеспьера. Это случилось в Германии. Родилось словно из неживого, заложенного во чрево, которое в итоге произвело на свет противоестественность. И все попытки экономического объяснения, все до отчаяния одномерные ссылки на то, что немецкий промышленный капитал, опасаясь за свои привилегии, финансировал Гитлера, ничего не говорят очевидцу событий, говорят столь же мало, сколь и изощренные абстрактные размышления о диалектике Просвещения.
Поэтому я не пытался выстраивать объяснения ни тогда, тринадцать лет назад, ни сегодня – я способен только свидетельствовать. Кстати, сейчас, как и тогда, Третий рейх меня не интересует. Что меня занимает и о чем я вправе говорить – это жертвы рейха. Я не стремлюсь поставить им памятник, потому что быть только жертвой – еще не честь. Я лишь хотел описать морально-психическое состояние, а оно неизменно. Потому-то и не стал трогать текст, впервые опубликованный в 1966 году. Всего лишь одна деталь – для меня огромная – добавлена к главе «О вынужденности и невозможности быть евреем», таково веление времени.
Когда я писал книгу, когда завершал ее, антисемитизма в Германии не было, вернее, если он где и был, то не смел показаться на глаза. Происшедшее с евреями замалчивали, а не то и ударялись в навязчивый филосемитизм, мучительный для достойных жертв, а для менее достойных, чье существование не следует скрывать, – удобная возможность получить с больной немецкой совести приличные дивиденды. Однако ситуация изменилась. Старо-новый антисемитизм нагло поднимает свою отвратительную голову и не вызывает возмущения – заметим кстати, что это касается не только Германии, но и большинства европейских стран за исключением совсем немногих, таких как отважные Нидерланды, заслуживающие особого упоминания за свое образцовое поведение. Жертвы уходят в мир иной, и ладно, они стали лишними, и уже давно. Дохнут и палачи – к счастью, согласно закону биологического отмирания. Но в обоих лагерях постоянно подрастают новые поколения, несущие на себе отпечаток происхождения и окружения, и между этими лагерями вновь разверзается старая непреодолимая пропасть. Когда-нибудь время перекроет ее, наверняка. Только ни в коем случае не гнилое примиренчество, бездумное и лживое в своей сути, уже сейчас подгоняющее наступление той самой поры. Напротив, поскольку это пропасть моральная, пусть она пока остается разверстой, и в этом тоже смысл повторной публикации моей книги.
Для меня важно, чтобы молодежь Германии – восприимчивая, душевно щедрая и проникнутая утопизмом, то есть левая, – не очутилась вдруг в лагере тех, кто является врагом и для нее, и для меня. Эти молодые люди слишком легко рассуждают о «фашизме». И не замечают, что налагают на действительность ФРГ всего лишь сетку плохо продуманных идеологий и что эта нуждающаяся в срочном улучшении действительность хотя и содержит в себе достаточно возмутительных несправедливостей – как, например, закон, обычно именуемый «указом о радикалах», – все же не становится от этого фашистской.
ФРГ как свободное государство находится под серьезной угрозой, подобно любой демократии во все времена, таковы ее риски, и опасности, и привилегии. Никто не знает о необходимости быть бдительным лучше тех, кто в свое время оказался свидетелем краха немецкой свободы. Однако летописцы нашей эпохи столь же хорошо знают, что бдительность не должна превращаться в параноидальное состояние, в конечном счете выгодное лишь тем, кто мечтает задушить демократические свободы своими жирными руками – руками палачей. Если же молодые левые демократы Германии заходят так далеко, что не только считают собственное государство наполовину фашистским, но и огульно именуют все, как они говорят, «формальные» демократии (а среди них в первую очередь подвергающееся страшной угрозе карликовое государство Израиль!) фашистскими, империалистическими, колониалистскими и действуют соответствующим образом, то для каждого из переживших нацистские ужасы наступает момент, когда он обязан вмешаться – каким бы ни был эффект его вмешательства. Будучи жертвой нацизма как по политическим причинам, так и по причине еврейского происхождения, я не могу молчать, когда под флагом антисионизма снова выползает старый убогий антисемитизм. Невозможность быть евреем превращается в вынужденность быть евреем – причем евреем, страстно протестующим. Так пусть эта книга, совершенно неестественным образом одновременно неактуальная и чрезвычайно актуальная, будет не только свидетельством того, чем был подлинный фашизм и, в частности, нацизм, но одновременно и призывом к немецкой молодежи: одумайтесь! Антисемитизм обладает глубоко укорененной в коллективной психологии инфраструктурой, вероятно восходящей (если проанализировать ее до конца) к загнанным в подсознание религиозным чувствам и обидам. Он может ожить в любой момент – я испытал глубокий ужас, хотя, в сущности, не удивился, когда узнал, что на митинге в защиту палестинцев, проходившем в одном из крупных городов Германии, не только проклинали «сионизм» (что бы ни понималось под этим политическим понятием) как всемирную чуму, но возбужденные молодые антифашисты лихо скандировали: «Смерть еврейскому народу!»
Нам это привычно. Нам уже довелось видеть, как слово становилось плотью, а потом ставшее плотью слово обращалось в горы трупов. Снова затевают игру с огнем, который для великого множества людей уже обернулся «могилой в воздушном пространстве». Я объявляю пожарную тревогу. Когда в 1966 году вышло первое издание этой книги и среди моих противников были только мои естественные враги – нацисты, старые и новые, иррационалисты и фашисты, реакционное отродье, в 1939 году ввергнувшее мир в убийственную катастрофу, мне в голову не приходило, что дело дойдет до такого. Необходимость выступать сегодня против моих естественных друзей, молодых людей левых убеждений, – вовсе не избитая «диалектика». Перед нами очередной скверный фарс мировой истории, заставляющий сначала сомневаться в смысле истории вообще, а в итоге приводящий в отчаяние. Старые дураки из лагеря неистребимых реакционеров делают из Шпеера этакого автора немецких бестселлеров, юные фантазеры не замечают ничего из просветительского наследия былых эпох – от французских энциклопедистов, английских экономистов-теоретиков до немецких левых интеллектуалов межвоенной поры.
Просвещение. Вот оно, ключевое слово. Предлагаемые размышления уже более десяти лет служили и служат, как я надеюсь, делу просвещения, которое можно назвать и буржуазным, и социалистическим. Правда, методологически понятие просвещения не следует понимать в данном случае слишком узко, поскольку в моем понимании оно охватывает не только логическую дедукцию и эмпирическую верификацию, но еще и волю и способность к феноменологической спекуляции, к эмпатии, к продвижению до самых границ рациональности. Лишь исполнив закон просвещения и одновременно выйдя за его пределы, мы духовно попадем в пространство, где «la raison», сиречь «разум», не порождает пошлого резонерства. Здесь причина того, почему я и прежде, и теперь неизменно отталкиваюсь от конкретного события, однако никогда не теряюсь в нем, а использую его как повод для размышлений, уходящих (минуя излишнее умничанье и резонерство) в мыслительные области, окутанные неопределенным сумраком, и этот сумрак останется, сколько бы я ни стремился внести в него свет, без которого он не обретет истинной пространственности. Однако – и на этом я тоже настаиваю – просвещение не есть прояснение. Ни когда писал эту книжицу, ни сейчас ясности у меня нет. Прояснение означало бы завершение, окончательное установление фактов, которые можно отправить в исторические архивы. Но моя книга предназначена как раз для того, чтобы этому воспрепятствовать. Ничто не нашло разрешения, ни один конфликт не улажен, ни одна зарубка в памяти не стала просто воспоминанием. Случившегося не воротишь. А вот с тем, что это случилось, просто так примириться нельзя. Я протестую, я восстаю – против своего прошлого, против истории, против современности, которая замораживает непостижное в виде истории и, стало быть, самым возмутительным образом его фальсифицирует. Ничто не зарубцевалось, и то, что в 1964 году, казалось, уже зажило, вновь раскрывается гнойной раной. Эмоции? Пусть так. А кто сказал, что просвещение должно быть лишенным эмоций? Я-то полагаю, что как раз наоборот.
Просвещение справится со своей задачей, только если примется за дело со страстью.
Брюссель, зима 1976 года
Предисловие
Когда в 1964 году во Франкфурте-на-Майне начался Большой процесс по делам Освенцима, я, нарушив двадцатилетнее молчание, написал первое эссе о пережитом в Третьем рейхе. Поначалу я и не помышлял о продолжении, стремился лишь разобраться с отдельной проблемой – положением интеллектуала в концентрационном лагере. Но когда это эссе было завершено, я почувствовал, что ограничиться этим никак нельзя. Освенцим. Как же я туда попал? Что было до того, что случилось потом, что я могу сказать сейчас?
Не могу утверждать, что в годы молчания я забыл или «вытеснил в подсознание» двенадцать лет немецкой и моей собственной судьбы. Два десятилетия я провел в поисках не подлежащего утрате времени, только вот говорить об этом мне было трудно. Теперь же, когда эссе об Освенциме как бы сломало печать молчания, меня словно прорвало: хотелось сказать все, так и появилась эта книга. Попутно я обнаружил, что немало осмыслил, но формулировал слишком неясно. Лишь в ходе работы над текстом выявилось то, что смутно, полуосознанно виделось мне на пороге словесного выражения, на грани меж мыслью и образом.
Вскоре исподволь сложился и метод. Если при написании первых строк эссе об Освенциме я еще полагал, что сохраню осторожную дистанцию и сдержанную объективность, то уже через некоторое время стало ясно, что это просто невозможно. Как раз там, где следовало решительно избегать «я», оно оказывалось единственно пригодной точкой отсчета. Я планировал неторопливое, рассудительное эссе, а возникла исповедь, насыщенная субъективными размышлениями. К тому же я очень быстро понял, сколь бессмысленно было бы просто добавить еще одну работу к множеству уже имеющихся и отчасти превосходных документальных трудов на эти темы. Исповедуясь и размышляя, я пришел к исследованию или, если угодно, к описанию сути существования в роли жертвы.
Медленно и трудно я продвигался сквозь толщу до тошноты знакомого, но вместе с тем оставшегося чуждым. Потому-то главы-эссе в этой книге и расположены не согласно хронологии событий, а согласно последовательности их написания. Читателю, коль скоро он вообще присоединится ко мне, придется шаг за шагом, примеряясь к моему темпу, идти из тьмы к свету. При этом он столкнется с противоречиями, из которых я и сам не нашел выхода. В главе о пытке, например, мне было еще отнюдь не ясно, какое значение должно придать понятию достоинства, и я словно отбросил его, но позднее, в главе о вынужденности и невозможности быть евреем, пришел к убеждению, что достоинство есть предоставляемое обществом право на жизнь. Точно так же, пока писал об Освенциме и пытке, я еще не видел с достаточной отчетливостью, что моя ситуация не исчерпывается понятием «жертва нацизма», – и, лишь добравшись до конца своих размышлений, до вынужденности и невозможности быть евреем, я обрел себя в образе жертвы-еврея.
На этих страницах, быть может и неполных, однако, смею утверждать, искренних, очень много сказано о вине и каре, о преступлении и наказании, ведь я не собирался щадить ни свои нервы, ни нервы других. Тем не менее я полагаю, что в конечном итоге данное сочинение находится по ту сторону преступления и наказания. Здесь описано, как обстоит с попранным, порабощенным человеком, вот и все.
Эта книга адресована не моим товарищам по несчастью. Они и так все знают. Каждый из них по-своему несет груз пережитого. А вот немцам, которые в преобладающем большинстве считают себя не имеющими отношения (или уже не имеющими отношения) к самым мрачным и в то же время чрезвычайно значимым преступлениям Третьего рейха, я расскажу кое-что, о чем им, возможно, прежде не было известно. Наконец, порой я надеюсь, что у этой книги доброе предназначение и в таком случае она может быть адресована каждому, кто желает жить в мире с другими людьми.
Брюссель, 1966
На рубежах духа
Будьте осторожны, посоветовал мне благонамеренный друг, услыхав о моем плане рассказать об интеллектуале в Освенциме. И настоятельно рекомендовал как можно меньше говорить об Освенциме и как можно больше – о духовных вопросах. Вдобавок он полагал целесообразным по возможности отказаться от упоминания слова «Освенцим» уже в названии: у публики аллергия на это географическое, историческое, политическое понятие. В конце концов и без того существует достаточно всевозможных книг и документов об Освенциме, и еще один рассказ об ужасах и зверствах не прибавит ничего нового. Я не уверен, что мой друг прав, и потому вряд ли смогу последовать его совету. У меня нет ощущения, что об Освенциме написано так же много, как, скажем, об электронной музыке или боннском бундестаге. И я по-прежнему думаю, что некоторые книги об Освенциме стоило бы ввести в качестве обязательного чтения в старших классах общеобразовательной школы, и вообще, не должны ли мы отбросить многие предрассудки, если хотим заниматься политической историей духа? Я действительно не собираюсь рассказывать здесь только об Освенциме, не собираюсь давать документальный отчет, я решил говорить о конфронтации Освенцима и духа. Но при этом не стану совсем уж игнорировать то, что называют кошмарами, – события, перед которыми, как некогда говорил Брехт, сердца сильны, но нервы слабы. Моя тема – рубежи духа, а что эти рубежи вплотную подступают как раз к территории означенных одиозных кошмаров, не моя вина.
Коль скоро речь пойдет об интеллектуале, или, как раньше говорили, о «человеке духовном», оказавшемся в Освенциме, необходимо, пожалуй, для начала дать определение моему объекту, а именно интеллектуалу. Кто такой, в моей трактовке, интеллектуал, или человек духовный? Разумеется, не любой представитель так называемых интеллигентных профессий; формальное высшее образование здесь, быть может, и необходимое, но уж никак не достаточное условие. Каждый из нас знает адвокатов, инженеров, врачей, вероятно, даже филологов – людей интеллигентных, а в своем деле, пожалуй, и выдающихся, которых, однако, едва ли можно назвать интеллектуалами. Мне бы хотелось, чтобы под интеллектуалом здесь разумели человека, который живет внутри в широчайшем смысле духовной системы соотнесенностей. Его ассоциативное пространство по существу гуманистично или гуманитарно. У него хорошо развитое эстетическое сознание. Склонности и способности побуждают его к абстрактному мышлению. По любому поводу у него возникают ассоциативные цепочки из гуманитарно-исторической сферы. Если, например, спросить, имя какой знаменитости начинается с «Лилиен-», на ум ему придет не конструктор-планерист Отто фон Лилиенталь, а поэт Детлеф фон Лилиенкрон. Скажите «общество» – и он воспримет это не в светском, а в социологическом смысле. Физический процесс, вызывающий короткое замыкание, его не интересует, зато о творце галантной сельской поэзии Найдхарте фон Ройентале он хорошо осведомлен.
И вот такого интеллектуала, сиречь человека, который знает наизусть строфы великой поэзии, которому знакомы прославленные полотна Возрождения и сюрреализма, который как рыба в воде чувствует себя в истории философии и музыки, – вот такого интеллектуала мы поместим туда, где ему придется подтвердить присутствие и действенность своего духа или признать его фикцией, мы поместим его в пограничную ситуацию, в Освенцим.
При этом я, разумеется, имею в виду себя. Будучи не только евреем, но и участником бельгийского Сопротивления, помимо Бухенвальда, Берген-Бельзена и других концентрационных лагерей, я провел год в Освенциме, точнее в одном из трех тамошних лагерей – Аушвиц-Моновице. Поэтому местоимение «я» будет встречаться здесь чаще, чем мне хотелось бы, а именно там, где мой личный опыт не может быть заменен ничьим иным.
Начнем наш разговор с описания внешней ситуации интеллектуала, которую ему, кстати, приходилось делить со всеми, в том числе и с не слишком духовными представителями так называемых интеллигентных профессий. Это скверное положение, и самым драматическим образом оно проявлялось в вопросе жизни и смерти – в вопросе работы. Мастеров и ремесленников в Аушвиц-Моновице чаще всего направляли на работу по профессии, если только они сразу не оказывались в газовой камере по причинам, которые мы здесь обсуждать не будем. Например, слесарь был человеком привилегированным, потому что мог пригодиться на фабрике «ИГ Фарбен», которую собирались строить; у него был шанс получить работу в крытом, защищенном от непогоды цехе. То же можно сказать об электрике, сантехнике, монтере, столяре или плотнике. Портной или сапожник, если повезет, мог оказаться в мастерской, выполняющей заказы для СС. У каменщика, повара, радиотехника, автомеханика был минимальный шанс получить какое-нибудь сносное рабочее место и таким образом выжить.
Иным было положение человека интеллигентной профессии. Его ожидала судьба коммерсанта, также принадлежавшего в лагере к люмпен-пролетариату, – зачисление в рабочий отряд, который копал землю, прокладывал кабель, перетаскивал мешки с цементом или железные балки. В лагере он становился чернорабочим, чье место на улице, – тем самым ему зачастую уже выносили приговор. Конечно, и здесь имелись свои различия. Так, химики во взятом нами для примера лагере работали по специальности, как мой товарищ по бараку Примо Леви из Турина, написавший впоследствии об Освенциме книгу «Человек ли это?». У врачей была возможность найти убежище в так называемом лазарете, хотя, естественно, не у всех. К примеру, венский врач д-р Виктор Франкл, ныне психолог с мировым именем, долгие годы был в Аушвиц-Моновице землекопом. В общем и целом можно сказать, что для представителей интеллигентных профессий с работой обстояло паршиво. Поэтому многие старались скрыть род своих занятий. Тот, кто обладал мало-мальскими навыками и, скажем, умел кое-как смастерить какую-никакую поделку, смело объявлял себя мастером-ремесленником, конечно же рискуя жизнью, если все-таки выяснится, что он сказал неправду. Большинство пытало счастья, занижая свой статус. Гимназический преподаватель или университетский профессор на вопрос о профессии скромно именовал себя «учителем», чтобы не вызвать лютого гнева эсэсовца или капо. Адвокат превращался в простого бухгалтера, журналист выдавал себя, скажем, за наборщика, причем мог почти не опасаться, что придется демонстрировать свои умения. Они таскали рельсы, трубы и бревна – все эти университетские преподаватели, юристы, библиотекари, искусствоведы, экономисты, математики. Зачастую они не обладали ни физической силой, ни ловкостью, и ждать, пока с работы их уведут в соседний, главный лагерь, где находились газовые камеры и крематории, обычно приходилось недолго.
На рабочем месте им было тяжело, но и внутри лагеря не легче. Лагерная жизнь требовала прежде всего физической ловкости и отваги, необходимо граничащей с жестокостью. Ни тем ни другим работники умственного труда обычно не отличались, а нравственная храбрость, которой они часто пытались восполнить отсутствие физической, не стоила ни гроша. Допустим, надо было отучить профессионального варшавского карманника воровать у нас шнурки. Тут вполне годился хук в челюсть, но никак не духовная отвага какого-нибудь политического журналиста, с опасностью для жизни опубликовавшего разоблачительную статью. Излишне говорить, что адвокат или гимназический учитель лишь в крайне редких случаях мог умело двинуть в челюсть, куда чаще доставалось ему самому, и бил и принимал удары он одинаково неловко. Не справлялся он и с лагерной дисциплиной. Представители интеллигентных профессий не проявляли особого таланта к заправке коек. Я вспоминаю своих образованных и высококультурных товарищей, которые каждое утро, обливаясь потом, сражались с соломенным тюфяком и одеялом, но так и не могли соорудить что-нибудь мало-мальски путное, так что потом на работе мучились неотступным, навязчивым страхом, что по возвращении их ждет наказание – побои или лишение пайки. Не под силу им были ни заправка коек, ни бравое «Шапки долой!», и уж совершенно не умели они при необходимости найти правильный тон в обращении к старшему по блоку или эсэсовцу – одновременно слегка подобострастный и уверенный, помогавший иной раз отвести грозящую опасность. Поэтому их презирали все: начальство из числа заключенных и товарищи в лагере, вольные и капо – на работе.
А что еще хуже, они даже друзей найти не могли. Большей частью были просто физически не в состоянии изъясняться на лагерном жаргоне, являвшемся там единственной общепринятой формой общения. В пространстве современной культурной дискуссии очень много говорят о трудности коммуникации между современниками и при этом, как правило, несут полный вздор. А вот в лагере действительно существовала проблема коммуникации между духовным человеком и большинством его товарищей, которая ежечасно и мучительно обнаруживала себя на практике. Заключенному, привыкшему выражаться несколько иным образом, приходилось делать над собой громадное усилие, чтобы сказать «Вали отсюда!» или называть других заключенных исключительно «братишка». Я очень хорошо помню то физическое отвращение, какое охватывало меня всякий раз, когда мой товарищ, во всем прочем вполне порядочный и обходительный, называл меня не иначе как «мил человек». Выражения вроде «кухонная крыса», «организовать» (в смысле незаконно присвоить какую-то вещь) причиняли интеллектуалу страдания, а такие формулы, как «отправиться на живодерню», он произносил с большим трудом.
Тут я перехожу к фундаментальным психологическим и экзистенциальным проблемам лагерной жизни и к интеллектуалу в узком смысле слова, вчерне обозначенном выше. Напрашивается вопрос, который вкратце можно сформулировать так: помогали ли заключенному в решающий момент умственное развитие и базовые интеллектуальные установки? Давали ли ему возможность выстоять? Первое, что я вспомнил, задав себе этот вопрос, были не мои собственные освенцимские будни, а прекрасная книга моего голландского друга и товарища по несчастью, писателя Нико Роста. Книга называется «Гёте в Дахау». Когда годы спустя я вновь взял ее в руки, кое-что в ней меня просто поразило. Например, там говорилось: «Сегодня утром хотел взяться за заметки о „Гиперионе“». Или: «Снова читал о Маймониде, о его влиянии на Альберта Великого, Фому Аквинского и Дунса Скота». Или: «Сегодня во время воздушного налета опять попытался думать о Гердере…» А дальше совершенно для меня неожиданное: «Еще больше читать, еще больше и интенсивнее учиться. Каждую свободную минуту! Классическая литература взамен посылок Красного Креста». Когда я прочитал эти слова и сопоставил со своими собственными лагерными воспоминаниями, мне стало ужасно стыдно, потому что я не мог предъявить ничего подобного достойной восхищения, всецело духовной позиции
Нико Роста. Нет, я совершенно точно не стал бы ничего читать о Маймониде, даже если бы мне в руки попала соответствующая книга, что в Освенциме едва ли можно себе вообразить. Во время налета я бы даже не пытался размышлять о Гердере. А предположение, что посылку с продуктами может при случае заменить классическая литература, я бы отмел не то что с иронией, но с отчаянием. Когда я читал книгу своего товарища по Дахау, мне, как я уже сказал, было очень стыдно, однако в конце концов я сумел найти себе некоторое оправдание. Пожалуй, дело было не столько в относительно привилегированном положении Нико Роста, который работал санитаром в больничном бараке, тогда как я принадлежал к безымянной массе заключенных, сколько в том решающем обстоятельстве, что голландец оказался в Дахау, а не в Освенциме. На самом деле эти два лагеря не так-то просто привести к общему знаменателю.
Дахау был одним из первых национал-социалистских концлагерей и поэтому, если хотите, имел свои традиции; Освенцим был создан лишь в 1940 году и до самого конца подвергался чуть ли не каждодневным спонтанным изменениям. В Дахау среди заключенных преобладал политический элемент, в Освенциме же подавляющее большинство узников состояло из совершенно аполитичных евреев и политически крайне неустойчивых поляков. В Дахау внутреннее управление в значительной степени находилось в руках политических заключенных, в Освенциме тон задавали немецкие уголовники-рецидивисты. В Дахау существовала лагерная библиотека, в Освенциме для обыкновенного заключенного книга была чем-то почти невообразимым. Вообще в Дахау – как и в Бухенвальде – заключенные имели возможность противопоставить эсэсовскому государству, эсэсовской структуре собственную духовную структуру, иными словами, у духа там была социальная функция, хотя в основном она выражалась в политической, религиозной, идеологической форме и лишь в редких случаях, как, например, у Нико Роста, в философской и эстетической. В Освенциме же духовный человек находился в изоляции, предоставленный исключительно самому себе. Поэтому там проблема «дух перед лицом зверств» проявлялась в радикальной и, если позволительно так сказать, более чистой форме. В Освенциме дух был сам по себе, отсутствовала всякая возможность привязать его хоть к какой-нибудь социальной структуре, пусть даже убогой, подпольной. Интеллектуал оставался наедине со своим духом, то есть с содержимым собственного сознания, и дух этот не мог распрямиться и окрепнуть в социальной реальности. Примеры тому отчасти тривиальны, а отчасти относятся к таким областям бытия, которые не поддаются словесной передаче.
Интеллектуал, по крайней мере вначале, постоянно искал возможности социальной манифестации духа. Например, в обстоятельный рассказ соседа по нарам о блюдах, которые готовит его жена, он пытался вставить словечко о том, что сам дома много читал. Но, в тридцатый раз услышав в ответ «Вот придурок!», он замолкал. Все духовное в Освенциме потихоньку приобретало двойственную новизну: с одной стороны, психологически становилось чем-то совершенно нереальным, с другой, если применять социальные понятия, превращалось в этакую непозволительную роскошь. Порой эти новые факты переживались на более глубоких уровнях, нежели те, каких можно достичь в разговорах на нарах, и тогда дух внезапно утрачивал свое главное качество – трансцендентность.
Помню, как однажды зимним вечером, когда после работы мы под угнетающие крики капо «Левой раз, два, три» нестройным шагом брели с фабрики «ИГ Фарбен» назад в лагерь, мне попался на глаза флаг, бог весть почему развевавшийся на недостроенном здании. «Стены стоят / Хладны и немы. / Стонет ветер, / И дребезжат флюгера», – по ассоциации механически пробормотал я себе под нос. Потом повторил эту строфу громче, прислушался к звучанию слов, попробовал отдаться их ритму, ожидая, что во мне возникнет связанное с этим стихотворением Гёльдерлина эмоциональное и духовное переживание. Но ничего не произошло. Стихотворение утратило трансцендентность, не выходило за пределы действительности. Имело лишь сугубо буквальный смысл: так и так, капо орет «Левой!», а суп был жидкий, а ветер полощет флаги. Возможно, ощущение Гёльдерлина пробилось бы сквозь толщу психологического гумуса, случись рядом человек с мало-мальски близким мироощущением, которому я мог бы процитировать эти строки. Самое ужасное, что такого товарища не было – ни в рабочей команде, ни вообще в лагере. Но даже если и удавалось отыскать такого человека, то в силу собственной изоляции он уже был настолько отчужден от духа, что ни на что не реагировал. По этому поводу мне вспоминается встреча с одним известным парижским философом, находившимся в лагере. Я узнал, что он здесь, и не без труда и риска разыскал его в его блоке. С жестяными мисками под мышкой мы шагали по лагерным улицам, и я тщетно пытался завязать интеллектуальную беседу. Философ из Сорбонны отвечал механически и односложно, а потом и вовсе умолк. Можно ли назвать это «отупением»? Вовсе нет. Этот человек не отупел, как и я. Просто он больше не верил в реальность духовного мира, избегал интеллектуальной словесной игры.
Особые проблемы в связи с социальной функцией духа или ее отсутствием возникали у интеллектуала-еврея с немецким культурным базисом. К чему бы он ни обратился, все принадлежало не ему, а врагу. Бетховен. Но его музыкой дирижировал в Берлине Фуртвенглер, а Фуртвенглер в Третьем рейхе был уважаемой официальной персоной. О Новалисе печатали статьи в «Фёлькишер беобахтер», порой даже неглупые. Ницше принадлежал не только Гитлеру (эту неприятность еще кое-как можно бы пережить), но и симпатизирующему нацистам поэту Эрнсту Бертраму, который в нем разбирался. От мерзебургских заклинаний до Готфрида Бенна, от Букстехуде до Рихарда Штрауса – все духовное и эстетическое достояние перешло в бесспорную и неоспоримую собственность врага. Как-то раз один товарищ на вопрос о профессии безрассудно сказал правду, что он германист, чем вызвал жуткий припадок бешенства у эсэсовца. По-моему, в те же дни далеко за океаном, в США, Томас Манн сказал: «Где я, там немецкая культура». Немецко-еврейский заключенный Освенцима не мог бы сделать такого смелого заявления, будь он даже самим Томасом Манном. Он не мог объявить немецкую культуру своей собственностью, потому что его притязания не имели никакого социального основания. В эмиграции самое ничтожное меньшинство могло конституировать себя как носителя немецкой культуры, даже если Томас Манн к нему не принадлежал. Тогда как в Освенциме находившийся в полной изоляции человек должен был отдать всю немецкую культуру, включая Дюрера и Регера, Грифиуса и Тракля, самому последнему эсэсовцу.
Но даже если удавалось сочинить наивную и сомнительную сказку о «доброй» и «злой» Германии, о жалком Тораке, отдавшемся Гитлеру, и великом Тильмане Рименшнайдере, которому навязывались в компанию, – даже тут дух в конце концов был вынужден капитулировать перед реальностью. Причин тому множество, их трудно вычленить, а затем снова привести к синтезу, как следовало бы. Я не говорю о чисто физических причинах, так как не знаю, насколько это правомерно, ведь в конечном счете каждый узник лагеря зависел от большей или меньшей выносливости своего организма. Ясно, однако, что вопрос о воздействии духа нельзя ставить там, где человек, оказавшись на грани смерти от голода и истощения, не просто становится бездуховным, но в буквальном смысле теряет человеческий облик. Так называемый «мусульманин», «доходяга», как на лагерном жаргоне называли покорившегося судьбе и оставленного товарищами заключенного, более не обладал пространством сознания, где могли бы противостоять добро и зло, благородство и подлость, духовность и бездуховность. Это был бродячий труп, пучок агонизирующих физиологических функций. Его, как это ни тягостно, придется исключить из нашего рассмотрения. Я могу исходить только из моего собственного опыта, опыта заключенного, который голодал, но не умирал от голода, которого били, но не забили до смерти, у которого были раны, но не смертельные, то есть заключенного, который объективно еще обладал субстратом, где дух в принципе мог держаться и даже выстоять. Но держался дух еле-еле, на слабых ногах, и о стойкости его говорить не приходится, такова печальная правда. Я уже описывал, как переставали срабатывать, а не то и бесследно сгорали цепочки эстетических представлений и реминисценций. В большинстве случаев они не приносили утешения, порой оборачивались болью или издевкой, но чаще всего тонули в чувстве полного безразличия.
Исключения, разумеется, бывали – в состояниях своеобразного опьянения. Помню, однажды санитар в лазарете дал мне тарелку подслащенной манной каши, которую я жадно проглотил, после чего погрузился в состояние невероятной духовной эйфории. С глубоким умилением я сначала подумал о феномене человеческой доброты. Затем мне вспомнился образ славного Иоахима Цимсена из «Волшебной горы» Томаса Манна. И вдруг мое сознание до краев наполнилось хаотической мешаниной из прочитанных книг, обрывков знакомой музыки, собственных, как мне казалось, философских мыслей. Мною завладела безумная духовная жажда, сопровождавшаяся пронзительной жалостью к себе, от которой на глаза навернулись слезы. Причем не до конца затуманенным краем сознания я полностью отдавал себе отчет в иллюзорном характере такого минутного духовного подъема. Это было настоящее опьянение, вызванное физическими причинами. Позднее, поговорив с товарищами, я сделал вывод, что был отнюдь не единственным, кому в подобных обстоятельствах удалось достичь кратковременного духовного подъема. Аналогичное опьянение нередко возникало и у моих товарищей по несчастью – во время еды или от забытого уже наслаждения сигаретой. Как и всякое опьянение, оно оставляло после себя безрадостное, мучительное ощущение пустоты и стыда. Оно было глубоко фальшивым и не могло обогатить дух. Однако эстетические представления и всё, что они с собой несут, занимают в арсенале духовного человека лишь ограниченное и отнюдь не самое важное место. Гораздо важнее аналитическое мышление: можно бы ожидать, что перед лицом кошмара оно станет одновременно опорой и маяком.
Но и здесь я прихожу и приходил к неутешительным выводам. Рационально-аналитическое мышление в лагере, а особенно в Освенциме не только не помогало, но вело прямиком к трагической диалектике саморазрушения. Что я имею в виду, легко прояснить. Во-первых, интеллектуал не умел так просто, как неинтеллектуал, принять к сведению невообразимое. Наработанный навык ставить под вопрос явления повседневной жизни не позволял ему просто согласиться с лагерной реальностью, потому что она слишком резко противоречила всему, что он до сих пор считал возможным и приемлемым. На свободе он всегда имел дело лишь с людьми, восприимчивыми к гуманистически-разумной аргументации, и никак не мог постичь весьма несложную истину: по отношению к нему, заключенному, СС применяли логику уничтожения, такую же последовательную, какой за пределами лагеря была логика сохранения жизни. Надлежало всегда быть чисто выбритым, однако иметь бритвенные принадлежности строжайше запрещалось, а к брадобрею ходили раз в две недели. Под угрозой наказания надлежало иметь на полосатой робе все пуговицы, но если потеряешь одну на работе, а это неизбежно случалось, то заменить ее было практически невозможно. Надлежало быть сильным, но из заключенного систематически высасывались все силы. На входе в лагерь у него отбирали всё, а затем уголовники издевались над ним, потому что у него ничего не было. Духовно не очень развитой узник обычно принимал эти обстоятельства к сведению с известным хладнокровием, тем же, с каким раньше выслушивал утверждения вроде «На свете должны быть бедные и богатые» или «Войны будут всегда». Он принимал их, приспосабливался, а бывало, и торжествовал над ними победу. Интеллектуал же бунтовал, разум отказывался ему служить. Поначалу он убеждал себя наивной бунтарской мудростью: «Не может быть того, чего быть никак не должно». Но только поначалу.
Неприятие эсэсовской логики, внутренний бунт, бормотание заклинаний типа «Но это же невозможно», длилось недолго. Через некоторое время неизбежно возникала не просто покорность, но и, можно сказать, приятие эсэсовской логики, более того – эсэсовской системы ценностей. И снова заключенному-интеллектуалу было труднее, чем неинтеллектуалу. У последнего никогда не существовало универсальной гуманистической логики, у него была лишь последовательная система самосохранения. Да, на свободе он говорил: «На свете должны быть бедные и богатые», но при этом вел борьбу бедняка против богача и вовсе не усматривал здесь противоречия. Для него лагерная логика была лишь неким обострением логики экономической, и он встречал это обострение со здоровой смесью смирения и готовности к отпору. А вот интеллектуал после слома первого внутреннего сопротивления наконец осознавал, что то, чего быть не должно, очень даже может быть, эсэсовская логика становилась для него ежечасной реальностью, и тогда в своих размышлениях он продвигался на несколько роковых шагов дальше. Уж не правы ли те, кто старается его уничтожить, – правы по причине неоспоримого факта, что они сильнее? Таким образом, принципиальная духовная толерантность и методическое сомнение интеллектуала становились факторами саморазрушения. Да, эсэсовцы могли делать все, что хотели: естественного права не существует, а нравственные категории возникают и исчезают, как мода. Перед нами была Германия, уничтожающая евреев и политических противников, потому что считала, будто может осуществиться только таким способом. И что же? Греческая цивилизация была построена на рабстве, а армия афинян творила на Мелосе то же самое, что СС на Украине. Свет истории высвечивает повсюду в глубинах времен несчетные человеческие жертвы, ну а вечный человеческий прогресс и без того был не более чем наивной идеей XIX столетия. «Левой два, три, четыре» – такой же ритуал, как любой другой. Против зверств особых аргументов не было. Аппиева дорога была окаймлена крестами с распятыми рабами, а над Биркенау плыл смрадный дым от сожженных человеческих тел. Здесь мы были не Крассами, а Спартаками, вот и все. «Рейн их трупами наполним – / Пусть плотиною лежат, / Чтоб вскипали с пеной волны» – так воспевал Рейн Клейст, и, как знать, не осуществил ли бы он свои кровавые фантазии, попади в его руки власть. Где-то на русском фронте генерал фон Клейст командовал солдатами и, возможно, сооружал плотины из трупов евреев и комиссаров. Такова была история, и такова она есть. Ты попал под ее колесо и срывал шапку при приближении палача. После того как замирало первое сопротивление, интеллектуал со всеми своими знаниями и аналитическим мышлением оказывался вооружен против убийц куда слабее, чем неинтеллектуал: тот, конечно, выказывал перед ними молодцеватую выправку и потому больше им нравился, но в то же время он гораздо более органично и действенно, чем его задумчивый товарищ, боролся с ними, увиливая от работы и промышляя воровством.