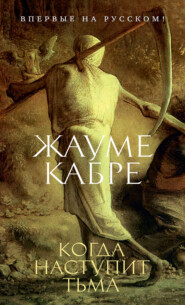По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ваша честь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А дон Рафель подумал: «Какой же ты болван, Черта. Ты ее недостоин». Все помыслы его чести, хоть он и слышал, о чем говорят окружающие, были о белоснежных зубах и влажных, улыбчивых губах доньи Гайетаны, чьим очарованием дон Рафель проникался с каждым днем все больше. В минуты искренности перед самим собой судья злился, что эта женщина с такой легкостью заставляет других мужчин улыбаться ей на глазах у косоглазого тупицы-мужа. «Гайетана, любовь моя, ради тебя я готов на безумства».
– Не сомневаюсь, – служитель правосудия украдкой обернулся, прикрывая нос кружевным платочком, – что дедуля Досриус хочет раздразнить нас, прежде чем бросить нам… лакомый кусочек.
– Ну уж нас-то ему раздразнить не удастся, – заявил барон.
Все они отошли к стене, поближе к окнам, выходившим на улицу Ампле. Там, под портретом второго в роду маркиза Досриуса, изображенного под ручку с пышной и, по всей видимости, необъятной сеньорой, единолично символизирующей всю бурбонскую монархию, кавалеры оставили дам, которые устроились на стульях и стали беседовать о платьях и прическах, и вернулись в центр гостиной, куда их привлекло замечание доктора Далмасеса, самого образованного и неблагонадежного человека во всей компании: никаким дворянским титулом он похвастаться не мог, но постоянно вращался в аристократических кругах, ходили слухи, что он симпатизирует французским революционерам или каким-то там энциклопедистам, а «кстати, говорят, что он еще и, эт-самое, масон, уж я-то точно знаю». Итак, доктор Далмасес, размышляя вслух, заявил, что нет инструмента прекраснее человеческого голоса.
– Данного нам Богом, – уточнил дон Рафель.
– Без всякого сомнения, дон Рафель, – согласился доктор Далмасес, который не особенно верил в Бога, но диспут затевать не хотел. – Вы были на концерте в День Всех Святых?[10 - День Всех Святых – один из десяти главных праздников, имеющий ранг великого торжества. В этот день церковь вспоминает всех святых, прославивших Бога, – не только тех, чьи имена числятся в церковном календаре, но и тех, кто известен одному Богу. Отмечается 1 ноября.]
А вот и нет, оказалось, что никто на этот концерт не ходил, потому что в театр слушать музыку ходит лишь тот, кто ею живет и дышит; а у маркиза де Досриуса, или маркиза де Картельи, или даже в самом дворце музыка звучала для тех, кого занимало совсем другое. Доктор Далмасес понял, что ему придется рассказывать о концерте, состоявшемся в День Всех Святых, донельзя равнодушной публике:
– Две пьесы месье Керубини и струнный квартет, понимаете, а потом пьеса некоего ван Бетховена, который, видимо, учился у Гайдна[11 - Людвиг ван Бетховен (1770–1827) действительно некоторое время брал уроки у Франца Йозефа Гайдна (1732–1809) – австрийского композитора, представителя Венской классической школы, одного из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Встреча музыкантов состоялась в Вене в 1792 году.], потому что очень мне его напомнил. Кстати, вам знакомо это имя?
– Чье? – рассеянно спросил упустивший нить разговора дон Рафель.
– Этого голландца, ван Бетховена?
– Нет. Первый раз слышу.
Хирург доктор Малья, проводив супругу на отведенное ей место, присоединился к ним с любезной улыбкой. Улыбка эта стала еще шире, когда он поклонился всеми ненавидимому председателю Аудиенсии. Поскольку, без сомнения, во всем этом кружке никто другой не внушал бо?льшую зависть, ненависть и страх: дон Рафель был неимоверно влиятелен, несговорчив и продажен, а на этих трех качествах обычно и строилось резюме власть имущих в те благословенные годы. Продолжая улыбаться, доктор Малья беззвучно поприветствовал остальных, после чего ему пришлось признать, что он, честно говоря, слыхом не слыхивал ни о каком ван Бетховене. Не слыхал о нем никто, и доктор Далмасес, который гораздо лучше их всех разбирался в музыке, объяснил в заключение, что этот голландец во многом хорош, но в нем чувствуется подражание гениям, вроде Керубини или Сальери[12 - Бетховен высоко ценил творчество Керубини, а Антонио Сальери (1750–1825) – одного из самых известных и признанных композиторов своего времени, автора более чем 40 опер, многочисленных инструментальных и вокально-инструментальных сочинений, на протяжении 36 лет занимавшего в Вене пост придворного капельмейстера, – выбрал себе после Гайдна в учителя. У Сальери Бетховен обучался в период с 1792 по 1795 год. Своему наставнику посвятил три скрипичные сонаты и op. 12, опубликованные в Вене в 1799 году.], и все были полностью согласны: «Куда ему, этому Фанбехоффену, или как там его зовут».
На самом деле к доктору никто особенно не прислушивался. В этот момент в гостиную вошел генерал-капитан, губернатор провинции, и взгляды всех присутствующих, включая дона Рафеля, будто дикие осы, устремились на него, с завистью и страхом. Вечер начинался взаправду. Гости заполнили зал, и четверо или пятеро слуг расставляли стулья и диваны таким образом, чтобы на них могли удобно устроиться все тридцать с небольшим приглашенных. Подъехав к фортепьяно цвета зеленого яблока, в обществе разодетого в пух и прах губернатора, маркиз де Досриус постучал тростью об пол, чтобы все замолчали. В глубине зала подпирали стенку несколько беспокойных, наряженных в странные костюмы юнцов, не удосужившихся даже для приличия надеть парики, – ужасное зрелище. Юноша с тревожным взглядом и светлыми кудрями, к примеру, выглядел в своей одежде крайне незавидно, почти как мастеровой. Но очевидно, попасть сюда он мог только благодаря своему спутнику, низенькому, в элегантном костюме, черноволосому и горбоносому молодому человеку, со свертком в руке. Кудряш подтолкнул приятеля локтем:
– А ты почему не играешь сегодня, Нандо?[13 - Нандо – уменьшительно-ласкательный вариант испанского имени Фернандо, соответствующего каталонскому имени Ферран. Так Андреу обращается к своему другу, каталонскому композитору и классическому гитаристу-виртуозу Феррану Сортсу (в испанском варианте произношения – Фернандо Сору; 1778–1839), виднейшему представителю романтизма в каталонской классической музыке и автору оперы «Телемах на острове Калипсо».] Давай я объявлю, что ты сыграешь?
– Даже не вздумай.
В дверном проеме с другой стороны зала появилась крупная, неохватная, грандиозная женщина, что подтверждалось не столько ее конкретными размерами, сколько величественным видом и осанкой. Мари дель Об де Флор, Орлеанский соловей, сделала глубокий реверанс маркизу aussi grincheux[14 - Довольно ворчливому (фр.).], потом еще один, строго отмеренный, – губернатору и слегка поклонилась всей прочей публике. Чтобы всем было ясно, кто тут платит. В этот момент многие заметили, что за спиной необъятной сеньоры нарисовался словно из ниоткуда незаметный человечек, невзрачный, одетый во все серое, с окладистой бородой, неуверенной походкой и печальным взглядом, которого, хотя об этом никто и не знал, звали месье Видаль. Он тихонько примостился перед фортепьяно с очевидным намерением ожидать приказаний. Гости маркиза понемногу перестали хлопать, и певица, пробурчав пианисту нечто угрожающее, улыбнувшись публике и деликатно прокашлявшись, набрала воздуха и закрыла глаза, чтобы вобрать в себя первые такты вступительной мелодии.
Большую гостиную дворца маркиза де Досриуса наполнила музыка. Ее волшебство заворожило гостей. Казалось, они застыли на полотне Тремульеса[15 - Имеется в виду один из братьев Тремульес-и-Роч, Мануэль (1715–1791) или Франсеск (1722–1773). Оба они были известными каталонскими художниками.] или Байеу[16 - Франсиско Байеу-и-Субиас (1734–1795) – испанский художник, придворный живописец Карла III, профессор, а позднее директор Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо; писал в неоклассическом стиле, в основном на религиозные и исторические сюжеты.]: стоящие мужчины, те, кто постарше, в париках, а кто помоложе, с непокрытой головой, сидящие женщины; все взгляды устремлены в одну точку. Перси девушек полны томленьем, глаза чуть увлажнены. Маркиз, слегка приподнявшись в инвалидном кресле, оперся на трость с серебряным наконечником. Генерал-капитан, в зачатке подавив зевоту, погрузился в расчет окружности бюста певицы. В глубине зала, неподалеку от юношей, подпиравших стену, преображенный неподвижностью и барочной ливреей лакей казался высеченным из камня. На подзеркальнике, возле двери, своей очереди ждали блюда с закусками и напитками. А возле большого окна Мари дель Об де Флор, небрежно облокотившись одной рукой на фортепьяно и прижав другую к груди, как будто с тем, чтобы не дать сердцу вырваться в гостиную в погоне за любовью, выводила великолепное «Je parlerai de mon tourment»[17 - «Я мук своих не утаю» (фр.).] таким голосом, какого многие годы не слыхали в Барселоне. Маэстро Видаль касался клавиш ласково и страстно. В его глазах стояли слезы, кто знает, по причинам ли строго профессионального характера, или же оттого, что знойный и чувственный голос волновал его так же, как и кудрявого юношу по имени Андреу. Андреу всегда казалось, что за волшебством чудесного голоса скрывается любовный пыл. Околдованный звуками арии, он был уже влюблен в де Флор. Андреу сжал руку друга, а тот улыбнулся: он знал своего приятеля как облупленного и уже догадался, что с ним творится.
По окончании последней арии концерта Мари дель Об де Флор наступило удивленное, неудовлетворенное молчание. Гости ждали, когда маркиз де Досриус начнет хлопать, но тот, во власти отзвуков волшебного голоса, словно застыл на месте, с горящим взглядом опершись на свою трость. Музыка была единственной силой, способной околдовать обычно бесцеремонного аристократа. Сидевший подле него губернатор, который начал клевать носом еще между четвертой и пятой арией, делал над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не взять инициативу на себя; хоть он и был среди присутствовавших самым значительным лицом, сколько бы маркизов, графов и баронов в нем ни собралось, поскольку генерал-капитан, так сказать, – всегда Важная Персона, Персона с Большой Буквы, все же, согласно этикету, первым аплодировать полагалось амфитриону, и губернатор следовал протоколу, словно указу. Де Флор, не особенно привыкшая к тому, чтобы вокруг нее царило молчание, в некотором недоумении вздохнула, чтобы дать понять, что концерт окончен. Вздох певицы вывел маркиза из оцепенения. Он ударил тростью об пол, и все с облегчением начали хлопать. Ох, нелегко же им дались злосчастные три-четыре секунды.
– Что скажешь, Нандо?
– Еще хочу.
– Так предложи подыграть ей на гитаре.
– Что ты, маэстро Видаль может обидеться. Да и фортепьяно тут гораздо уместнее.
Де Флор снова склонилась в реверансе, послала тридцать воздушных поцелуев, набрала воздуха и на невероятной смеси французского, итальянского, перенятого у месье Видаля каталанского и недоученного испанского языков объявила, что ей хотелось бы исполнить какой-нибудь шансон[18 - Песню (фр.).] под аккомпанемент даровитого композиторе локале[19 - Местного композитора (ит.).] Фердинанда Сортса, присутствующего сегодня в зале. Люди беспокойно переглянулись, поскольку никто из них понятия не имел, кто такой этот «даровитый композиторе локале» Фердинанд Сортс. Генерал-капитан переспросил, о чем там толкует мадам: «Я не особо силен во французском». На что маркиз де Досриус пожал плечами и нетерпеливо постучал тростью об пол.
Не успело общее недоумение смениться ропотом, как Андреу подпрыгнул и вскричал: «Он здесь, он здесь! – и подтолкнул друга локтем. – Нандо, о тебе же речь ведут!» Сортс еще и глазом не моргнул, как Андреу уже схватил его под руку и потащил прямо к певице. Публика заахала: «Ах да, младшенький из семейства Сортс, ну-ну. „Даровитый композиторе“? Да он же сопляк еще, ах, ты смотри. Он же вроде уезжать куда-то собирался, этот паренек?» Де Флор увидела, что к ней направляются два юноши, и диве тут же приглянулся кудрявый блондинчик, сущая конфетка. Однако месье Фердинандом Сортсом оказался его приятель, чернявый и худощавый страшила с бакенбардами. Да и имя у него было какое-то другое, а вовсе не Сортс. Орлеанский соловей скрыла разочарование за любезным реверансом. Позволив растроганному Феррану Сортсу облобызать ее ручку, дива прислушалась к мужественному, звонкому, чарующему голосу мальчика-конфетки, пытавшегося разъяснить, что композитора зовут Ферран Сортс. Де Флор беззастенчиво оглядела Андреу с ног до головы и сделала вид, что он ей неинтересен. Многие из присутствовавших недовольно поморщились при виде никому не знакомого кудрявого юнца, который и одеться-то прилично не в состоянии («и не говорите: неизвестно еще, как его вообще сюда пропустили»), а расхаживает по всему залу, будто он у себя дома. Несколько рассеянных сеньор похлопали «даровитому композиторе», окончательно успокоившись: «Ах да, это же Нандо Сортс, сразу и не поймешь эту даму. Так бы и сказала». А де Флор спросила пианиста:
– Вы не возражаете, месье Видаль?
– Вовсе нет, – давясь желчью, ответил музыкант, вставая со стула.
– Для меня большая честь… – пробормотал Сортс, крайне взволнованный. И передал сверток Андреу. – Не потеряй, я его должен кое-кому передать.
Андреу сжал его локоть:
– Давай, Нандо, покажи им, – и, к вящему неудовольствию де Флор, отошел к стене в глубине зала, со свертком, хранить который поручил ему друг.
Сортс сел за фортепьяно, и Мари дель Об де Флор объявила: «D'abord, l'amour»[20 - «Сперва любовь» (фр.).], ничуть не сомневаясь, что любой, кто берется ей аккомпанировать, должен знать весь ее репертуар назубок. Маэстро Видаль, которому, хотя виду он и не подал, такой оборот, без сомнения, показался весьма забавным, указал ему на ноты, лежащие на пианино. И чтобы оказать ему еще более ценную помощь, подмигнул и заговорщицки прошеп-тал:
– Adagio, molto lento[21 - Спокойно, очень медленно (ит.).].
Делая вид, что присаживается поудобнее, Ферран Сортс успел пробежать глазами первую страницу арии и подумал, что совет пианиста – полный абсурд. «Индюк напыщенный», – пробормотал он и бодро и уверенно заиграл vivace[22 - Очень живо (ит.).]. К пятому такту он успел удостовериться, что был прав. Все прошло как по маслу. Возможно, даже лучше, чем с маэстро Видалем. По окончании арии Сортс встал, и де Флор расцеловала оторопевшего юношу в обе щеки: на самом-то деле поцелуи предназначались его другу. Пока гремели аплодисменты, Сортс отошел в уголок. Рядом с ним стоял месье Видаль, и молодой человек воспользовался случаем, чтобы послать музыканта ко всем чертям.
– Пардон? Что вы сказали?
– Катитесь вы куда подальше.
Не успел пианист отреагировать, как де Флор уже снова позвала к себе юного «композиторе локале», чтобы публика отблагодарила его бурной овацией.
– Вы славный музыкант, mon cher[23 - Дорогой мой (фр.).], – сказала она.
Слуги меняли уже далеко не первую из двухсот свечей в двадцати пяти канделябрах зала. Мари дель Об де Флор смеялась, а за ней, как привязанные, ходили Сортс-младший и Андреу, не сводивший с певицы благоговейного взгляда. Все трое, в обществе молчаливого пианиста, доктора Далмасеса и еще пары гостей, пробовали изысканные кушанья, которыми маркиз потчевал присутствующих, чтобы всем стало ясно, что он способен предложить на своем ужине не менее аппетитные закуски, чем маркиза де Поластрон. Мари дель Об де Флор один за другим клала в рот горячие крокеты и пожирала глазами взволнованного Андреу, пока приятель его тщетно разыскивал среди гостей адвоката Террадельеса, «а ведь тот ни одного концерта не пропускает». В конце концов юноша смирился с тем, что так ему и придется таскать с собой сверток весь вечер.
Генерал-капитан, глубоко заинтересованный декольте певицы, тщательно продумал, как лавировать с бокалом от одной группы к другой, и разработал осмысленную и четкую стратегию. Однако было ясно, что де Флор его избегала и предпочитала ему общество этого ничем не примечательного, тусклого, безынтересного и лишенного энергии юнца. Поскольку закатить скандал губернатор не мог, важнейшему представителю двора Бурбонов в Каталонии пришлось смириться с диктатом салонного этикета. Ему, рафинированному любителю экзотических женщин, придется не только обойтись без парижаночки, но и с заинтересованным видом выслушивать петицию какого-то нахала, который, с бокалом в руке, все твердил: «Соблаговолите, ваше высокопревосходительство…» Делая вид, что раздумывает над ответом, генерал-капитан поклялся себе, что завтра или, в крайнем случае, послезавтра лягушатница[24 - Лягушатница – имеется в виду презрительное прозвище, данное французам из-за их приверженности к поеданию лягушек.] будет лежать у его ног. Нет, лучше у него в постели. Раз уж решил, так и будет, «ишь распустились».
В то же время его честь дон Рафель Массо испытывал иное затруднение. Необходимость помочиться возникла у него еще в середине концерта, а удовлетворить ее все не удавалось. Следуя путаным указаниям слуги, он забрел в темный коридор, в конце которого почуял спасительную вонь. Смрад доносился из плохо освещенной комнаты с дюжиной горшков, стоявших там и сям на полу. Трясущимися руками служитель Фемиды разобрался со сложной системой подштанников, и наконец ему удалось утолить насущную потребность. Успокоившись, он некоторое время позевал с членом в руках, как будто царивший в комнате резкий запах наводил его на размышления. В последнее время, так часто, что это уже вредило здоровью, дон Рафель задавался вопросом, счастлив ли он на самом деле. И всегда приходил к скорее печальным выводам. Когда жизнь по прошествии скопления удач и поражений приносит человеку мир и спокойствие, можно заключить, что ты счастлив; но если настороженность, тревога в сердце, беспокойство о том, как бы разоблачить врага, который, вне сомнения, поджидает тебя, таясь за углом, становятся обычным делом и руководят тобой каждую минуту, это знак того, что счастье растаяло, как дым, и его не вернуть, оно утрачено навсегда. Почтенный судья отряхнул член и положил конец раздумьям с несколько унылым вздохом. Пока он застегивался, в комнату вбежал барон де Черта, мочевой пузырь которого, по всей видимости, готов был лопнуть.
– Похоже, от этих песен все чуть не уписались, – провозгласил он, увидев дона Рафеля.
Тот лаконично заметил: «И не говорите», но отвертеться от беседы не удалось.
– Такое впечатление, что нас отсюда не выпустят, пока губернатору не удастся вдоволь поволочиться за лягушатницей.
Дон Рафель не сказал в ответ того, что ему хотелось сказать, а именно: «Ничтожество ты, хоть и дворянин, а дворянином и я когда-нибудь стану». А когда де Черта деликатно отвернулся, чтобы помочиться, на дона Рафеля накатило еще большее к нему презрение, до чего же недостоин сей мерзавец своей жены; некоторые вещи в этом мире совершенно неправильно устроены, «ах, Гайетана моя!». Прелюбодейные мысли председателя Аудиенсии провинции Барселона и полные ужаса глаза Эльвиры, на мгновение представшие перед ним, отвлекли его, и он даже не расслышал, какой уверенной, веселой, а главное, бездумной струей мочился барон де Черта.
– Вы ничего не знаете о жизни, – заявила Мари дель Об де Флор, задирая юбки, расстегивая подвязки и так беззастенчиво стягивая белый чулок, что Андреу усмотрел в этом нечто непристойное.
– А вы?
Она только рассмеялась ему в ответ. Потом застыла в той же позе, с голой ногой, упираясь носками в табурет, и шаловливо погрозила пальцем Андреу.
– Как вы думаете, сколько мне лет? Ну-ка, скажите.
Андреу почесал кудрявую шевелюру, откуда мне знать, мадам… я вовсе не умею угадывать, и озадаченно улыбнулся, думая про себя: «Осторожно, Андреу, не оплошай». Но де Флор не заботило затруднение юноши. Она поймала его в сети, он ей нравился и уже очутился в ее гостиничном номере. Почему бы не потребовать у него ответа.
– Давайте-ка без уверток! Сколько, по-вашему, мне лет? Смелее. И не тревожьтесь. – Она спустила ногу с табурета и закрыла глаза, двигаясь по направлению к юноше. – Мне не в диковинку горькие разочарования. – Она взяла его за руки. – Сколько?
– Да откуда же мне знать, солнце мое!..
Другие электронные книги автора Жауме Кабре
Тень евнуха




 4.67
4.67
Тень евнуха




 4.5
4.5