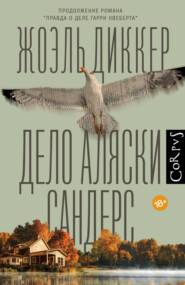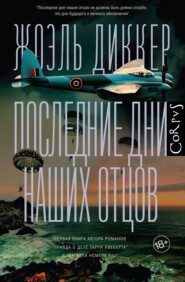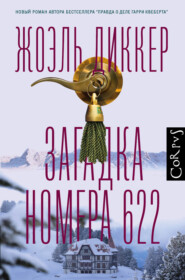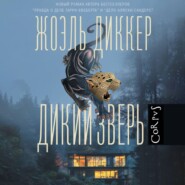По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исчезновение Стефани Мейлер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оба поднялись по склону к заграждениям, за которыми нетерпеливо топтались журналисты со всей округи. Здесь были все каналы местного телевидения, фотографы, корреспонденты газет и журналов. Брауна и Гулливера немедленно окружил целый лес протянутых микрофонов и объективов. Первым, перекрывая голоса коллег, прозвучал вопрос Майкла Берда:
– Стефани Мейлер действительно убита?
Повисла леденящая тишина.
– Нужно дождаться результатов расследования, – ответил Браун. – Большая просьба не спешить с выводами. Со временем вам будет представлено официальное коммюнике.
– Но чье тело обнаружено в озере, Стефани Мейлер? – снова спросил Майкл.
– Больше я ничего вам сказать не могу.
– Мы все видели, что прибыли ее родители, господин мэр, – настаивал Майкл.
– Да, скорее всего, это Стефани Мейлер, – неохотно признал прижатый к стенке Браун. – Родители ее пока официально не опознали.
Все сразу загалдели, журналисты наперебой задавали свои вопросы. Из общего шума снова вырвался голос Майкла:
– Значит, Стефани убита, – заключил он. – И не надо говорить, что пожар в ее квартире – простое совпадение. Что происходит в Орфеа? Что вы скрываете от населения, господин мэр?
Браун не терял присутствия духа.
– Я понимаю вашу заинтересованность, – спокойно ответил он, – но сейчас главное – не мешать работать следствию. На данном этапе я воздержусь от комментариев, чтобы не затруднять работу полиции.
Майкл, явно взволнованный, не отступал.
– Господин мэр, – крикнул он, – собираетесь ли вы проводить празднества по случаю Четвертого июля, когда весь город в трауре?
Вопрос застал Брауна врасплох, но на ответ ему понадобилась лишь доля секунды:
– Пока я принимаю решение отменить фейерверк Четвертого июля.
По толпе журналистов и зевак прокатился ропот.
Со своей стороны, мы с Анной и Дереком осматривали берега озера, пытаясь понять, как Стефани могла сюда попасть. Дерек считал, что убийство не было преднамеренным:
– По-моему, любой мало-мальски расчетливый убийца привязал бы к телу Стефани груз, чтобы быть уверенным, что оно со временем не всплывет. Тот, кто это сделал, не собирался убивать ее здесь и таким образом.
Берега Оленьего озера были по большей части недоступны для пешеходов: их покрывали плотные, словно стена, заросли гигантского тростника. Именно это и превращало их в орнитологический рай – здесь, в девственном лесу, гнездились и обитали в полном покое десятки видов птиц. В других местах к озеру подступал густой сосновый бор, тянувшийся вдоль 17-го шоссе до самого океана.
Сперва нам показалось, что подойти к озеру можно только на том берегу, куда мы приехали. Но, внимательно изучив местность, мы заметили, что высокая трава со стороны леса недавно примята. Добрались мы туда с огромным трудом: почва была зыбкая и болотистая. Перед нами лежал плоский безлесный участок берега, грязь на нем была взрыта. Похоже на следы ног, но точно сказать невозможно.
– Тут что-то произошло, – уверенно проговорил Дерек. – И я не думаю, что Стефани шла тем же путем, что и мы. Склон чересчур крутой. По-моему, попасть на этот берег можно только одним способом…
– Через лес? – подсказала Анна.
– Точно.
Мы с группой полицейских из Орфеа стали прочесывать прилегающий лес и обнаружили сломанные ветки. Здесь кто-то прошел. На кусте висел клочок ткани.
– Возможно, лоскут майки, в которой Стефани была в понедельник, – сказал я Анне с Дереком, натягивая латексную перчатку и беря лоскут.
Судя по тому, что я видел в озере, на Стефани была только одна туфля. На правой ноге. Левую туфлю мы нашли в лесу, она зацепилась за корень.
– Значит, по лесу она бежала, – заключил Дерек, – спасалась от кого-то. Иначе бы остановилась и надела туфлю.
– И преследователь нагнал ее у озера и утопил, – добавила Анна.
– Да, Анна, наверняка ты права, – кивнул Дерек. – Но ведь не от пляжа же она сюда прибежала?
Отсюда до пляжа было больше пяти миль.
Двигаясь по лесу по ее следу, мы вышли на дорогу. Примерно в двухстах метрах от полицейских заграждений.
– Видимо, она вошла здесь, – сказал Дерек.
Поблизости мы заметили на обочине следы покрышек. Значит, преследователь был на машине.
* * *
В это время в Нью-Йорке
Мита Островски сидел в своем кабинете в редакции “Нью-Йорк литерари ревью” и наблюдал в окно за белкой, скакавшей по газону в сквере. Он давал телефонное интервью – на почти идеальном французском – какому-то мутному парижскому журналу интеллектуальной направленности, их интересовало его мнение касательно восприятия европейской литературы в Соединенных Штатах.
– Ну конечно! – жизнерадостно воскликнул Островски. – Если я на сегодняшний день один из самых влиятельных критиков в мире, то лишь потому, что в последние тридцать лет не ведаю снисхождения. Незыблемая дисциплина ума – вот мой секрет. Главное, не любить. Любовь – это слабость!
– Но некоторые злые языки утверждают, что все критики – несостоявшиеся писатели, – заметила заокеанская журналистка.
– Вздор, моя дорогая, – усмехнулся Островски. – Я никогда, подчеркиваю, никогда не встречал критика, который бы мечтал писать сам. Критики выше этого. Литература – искусство вторичное. Что такое писать? Писать – это составлять слова так, чтобы получались фразы. Этому можно на учить даже мартышку!
– Какова же тогда роль критики?
– Устанавливать истину. Давать возможность массам отделять хорошее от ничтожного. Видите ли, только крохотная часть населения способна разобраться сама, что в самом деле хорошо, а что нет. А поскольку сейчас, к несчастью, все непременно желают судить обо всем на свете и, бывает, возносят до небес полное ничтожество, мы, критики, призваны навести какой-никакой порядок в этом балагане. Мы – полиция интеллектуальной истины. Вот и все.
Завершив интервью, Островски посидел в задумчивости. Как красиво он говорил! Как нетривиально! Какая блестящая аналогия: мартышка – писатель! В нескольких словах он описал закат человечества. Какое счастье, что мысль его столь быстра, а мозг работает на все сто!
В дверь его неприбранного кабинета без стука вошла усталая секретарша.
– Черт возьми, стучать надо, когда входите! – заорал Островски. – Вы что, не понимаете, чей это кабинет?
Он ненавидел эту женщину, она казалась ему унылой.
– Сегодняшняя почта, – сказала она, не удостоив его замечание ответом. И положила на стопку книг, ожидающих прочтения, одно-единственное письмо.
– И это все? – разочарованно спросил Островски.
– Все, – ответила секретарша, выходя и закрывая за собой дверь.
Как мало теперь приходит писем, просто беда! Работая в “Нью-Йорк таймс”, он получал их целыми мешками. Восторженные читатели не пропускали ни одной его критической статьи, ни одной заметки. Но так было прежде, в незапамятные времена, в те золотые деньки, когда он был всемогущ. Сегодня ему больше не писали, его перестали узнавать на улице, зрители в театре больше не перешептывались, когда он проходил мимо, писатели не поджидали его у дома, чтобы вручить свою книгу, и не набрасывались на воскресное литературное приложение в надежде прочесть на нее рецензию. Сколько успешных карьер зиждилось на его статьях, сколько имен он уничтожил убийственными фразами! Он возносил на небеса, он повергал в прах. Но то было раньше. Теперь его уже почти никто не боялся. За его статьями следили только читатели “Нью-Йорк литерари ревью” – весьма почтенного, конечно, но с несравнимо меньшей аудиторией.