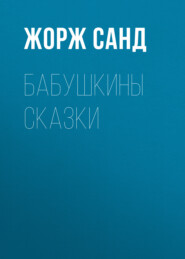По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Консуэло (LXI-CV)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поэтому, – продолжала Корилла, – я совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите другой.
– Да что вы, сударыня! – воскликнул Гольцбауэр, словно громом пораженный. – Можно ли накануне спектакля, время которого назначено самим двором, приводить какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в коем случае не могу принять их.
– А все-таки вам придется согласиться, – возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким тоном. – Я приглашена на вторые роли, и ничто в моем контракте не обязывает меня исполнять первые. Я только из любезности согласилась заменить синьору Тези, чтобы не прерывать развлечений двора. Теперь я заболела и не могу сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.
– Ну, милая моя, тебе просто прикажут петь, – заявил Кафариэлло, – и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Ко всем бедам, которые ты сама навлекала на свою голову, прибавится еще одна небольшая неприятность. Но раскаиваться теперь поздно. Надо было думать обо всем раньше. Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься, но нам-то какое до этого дело! Я спою так, что все забудут о самом существовании Береники. Порпорина тоже в своей маленькой роли Исмены вознаградит публику, и будут довольны все, кроме тебя. Это послужит тебе уроком, а сумеешь ли ты использовать его в другой раз, этого уж я не знаю.
– Вы очень ошибаетесь, я отказываюсь совсем по другой причине, – уверенным тоном ответила Корилла. – Не будь я больна, я, вероятно, спела бы свою партию не хуже любой примадонны. Но так как я не в состоянии петь, то споет ее другая, и споет так хорошо, как никто еще не пел ее в Вене, и притом не позже, чем завтра. Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова исполню партию Исмены: она меня не утомляет.
– Вы, стало быть, рассчитываете, – сказал удивленный Гольцбауэр, – что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню, что будет в состоянии петь свою партию?
– Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не сможет петь, – проговорила Корилла так громко, что с трона, где она восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на диване в десяти шагах от нее. – Взгляните, как она изменилась: на нее просто страшно смотреть! Но я сказала, что у нас есть великолепная Береника, несравненная, превосходящая всех нас. Вот она! – прибавила, поднимаясь, Корилла и, взяв за руку Консуэло, вывела ее и поставила посреди встревоженной и взволнованной группы актеров.
– Я? – воскликнула Консуэло, которой казалось, что она видит сон.
– Ты! – закричала Корилла, судорожным движением толкая ее к трону. – Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте! И это я возвожу тебя на него. Таков был мой долг по отношению к тебе. Помни это!
В полном отчаянии, боясь, что если он не исполнит своей обязанности, то может лишиться директорского поста, Гольцбауэр не мог отвергнуть эту неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль Исмены, что она будет на высоте и в партии Береники. Несмотря на всю свою неприязнь к Консуэло и к Порпоре, теперь он мог бояться лишь одного: что она не согласится.
И она в самом деле стала решительно отказываться. Дружески пожимая руку Кориллы, она шепотом умоляла ее не приносить этой жертвы, столь ненужной для самолюбия Консуэло, тогда как для ее соперницы это было самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к какому она могла себя принудить. Но Корилла оставалась непреклонной в своем решении.
Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным соперничеством, очень хотела попробовать голос и снова взяться за свою роль, хотя бы с риском для жизни, ибо она была больна не на шутку, но не решилась на это: тогда на императорской сцене не дозволялись капризы, с которыми столь терпеливо мирится снисходительный и добродушный владыка нашего времени – публика. Двор ожидал увидеть новую исполнительницу роли Береники: это было обещано, этого ожидала императрица.
– Ну, соглашайся! – сказал Кафариэлло Порпорине. – Вот первый умный поступок Кориллы за всю ее жизнь; воспользуемся же им!
– Но я не знаю роли, я не проходила ее, – говорила Консуэло, – я не смогу выучить ее к завтрашнему дню.
– Ты слышала ее, следовательно, знаешь и завтра споешь, – заявил наконец громовым голосом Порпора. – Хватит ломаться, кончайте споры! Больше часа мы потеряли на болтовню. Господин дирижер, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш на сцену! Не нужно нот, долой ноты! Кто участвовал в трех репетициях, должен знать все роли на память. Говорю тебе – роль ты знаешь.
No, tutto, о Berenice, –
запела Корилла, снова став Исменой, –
Tu non apri il tuo cor…
«А теперь, – подумала женщина, судившая о тщеславии Консуэло по своему собственному, – она забудет все, что знает о моих делишках».
Консуэло, чья изумительная память и необычайная легкость усвоения были прекрасно известны Порпоре, в самом деле спела всю партию – и музыку и слова – без единой запинки. Госпожа Тези была так поражена ее игрой и пением, что почувствовала себя совсем плохо и после первого же действия приказала отвезти себя домой. На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам приготовить себе костюм, отработать музыкальные пассажи и еще раз внимательно повторить всю партию. Успех ее был столь бесспорен, что императрица, выходя из театра, сказала:
– Что за чудесная девушка! Надо непременно выдать ее замуж – я позабочусь об этом.
Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию»[70 - «Зенобия». – Сюжет оперы основывается на рассказе Тацита. Дочь армянского царя Митридата Зенобия любит парфянского принца Тиридата, но по настоянию отца становится женой Радамиста, сына царя Иберии. Убийство Митридата вынуждает Радамиста и Зенобию бежать. Настигнутый врагами, Радамист закалывает жену и бросает ее в волны Аракса. Пастухи спасают Зенобию и приводят к Тиридату, но она остается верна Радамисту.] – слова Метастазио, музыка Предиери. Корилла опять настояла на том, чтобы уступить Консуэло главную роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя госпожа Гольцбауэр, и так как она была музыкальнее Кориллы, то оперу разучили намного лучше, чем первую. Метастазио был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время войны[71 - …его лира, заброшенная и забытая во время войны… – Имеется в виду война за австрийское наследство.], снова входит в милость при дворе и имеет шумный успех в Вене. Он почти перестал думать о своих болезнях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим долгом писателя творить все новые и новые либретто для опер, готовился, изучая греческие трагедии и латинских классиков, к созданию одного из трех шедевров, которые итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно ставили выше трагедий Корнеля, Расина, Шекспира, Кальдерона, словом, говоря откровенно и без ложного стыда, – превыше всего.
Но в нашем повествовании, и без того уже достаточно долгом и перегруженном подробностями, мы не станем злоупотреблять, быть может, давно истощившимся терпением читателя и делиться с ним своими мыслями относительно гениальности Метастазио. Читателю это малоинтересно. Мы только сообщим ему то, что Консуэло потихоньку говорила по этому поводу Иосифу:
– Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до чего мне трудно играть эти роли, а они еще считаются такими возвышенными, такими трогательными! Правда, рифмы подобраны хорошо, петь их легко, но зато персонажи… Где уж тут взять вдохновение! Едва сохраняешь серьезность, изображая их. Какая нелепая условность – попытка передать античный мир средствами нашего времени! Все эти интриги, страсти, нравоучения, пожалуй, были бы уместны в мемуарах маркграфини Байрейтской, барона фон Тренка или принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста, Береники или Арсинои они сущая бессмыслица. Когда я поправлялась после болезни в замке Исполинов, граф Альберт часто читал мне вслух, чтобы усыпить меня, но я не спала и слушала, затаив дыхание. Читал он греческие трагедии Софокла, Эсхила и Еврипида, читал их по-испански, медленно, но ясно, не задумываясь, несмотря на то, что перед глазами у него был греческий текст. Он так хорошо знает древние и новые языки, что казалось, будто он читает превосходный перевод. По его словам, он стремился сделать его как можно более точным, чтобы в его тщательной передаче я могла постичь гениальные произведения греков во всей их простоте. Боже! Какое величие! Какие образы! Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие характеры, цельные и могучие! Какие трагические положения! Какие глубокие, истинные горести! Душераздирающие и страшные картины проходили перед моими глазами! И я, еще слабая, возбужденная страшными переживаниями, вызвавшими мою болезнь, была так взволнована его чтением, что воображала себя то Антигоной[72 - Антигона – героиня трагедий Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона».], то Клитемнестрой[73 - Клитемнестра – героиня трагедии Эсхила «Агамемнон» (1-й части трилогии «Орестея»), а также трагедий «Электра» Софокла и «Электра» Еврипида.], то Медеей[74 - Медея – героиня одноименной трагедии Еврипида.], то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые, мстительные драмы не на сцене, при свете рамповых ламп, а среди страшных пустынь, у входа в зияющие пещеры или под колоннадами античных храмов, где при слабом свете жертвенников люди оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я слышала жалобные хоры троянок[75 - …жалобные хоры троянок… – Имеется в виду трагедия Еврипида «Троянки», в которой изображены страдания женщин Трои, плененных победителями-греками.] и дарданских[76 - Дардания – город в Трое, названный по имени родоначальника троянцев Дардана.] пленниц. Эвмениды[77 - Эвмениды – богини мщения, преследующие и карающие преступников. Изображены в трагедиях Эсхила («Эвмениды» – 3-я часть трилогии «Орестея»), Софокла («Эдип в Колоне») и Еврипида («Орест»).] плясали вокруг меня… но в каком диком ритме, под какие адские мелодии! Воспоминание о них еще и теперь вызывает у меня дрожь наслаждения и ужаса. Никогда на сцене, воплощая свои мечты, я не испытаю тех волнений, не почувствую в себе той силы, какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Именно тогда впервые ощутила я себя трагической актрисой, и в душе моей сложились образы, которых не подсказал мне ни один художник. Именно тогда я поняла, что такое драма, трагическое действие, поэзия театра. В то время как Альберт читал, я мысленно импровизировала напев и воображала, будто сама повторяю все то, что слышала от него. Не раз я ловила себя на том, что принимаю позы тех героинь, чьи слова произносил Альберт, что на лице моем появляется их выражение, и часто, бывало, он останавливался в испуге, думая, что видит перед собой Андромаху[78 - Андромаха – героиня одноименной трагедии Еврипида.] или Ариадну[79 - Ариадна – героиня «Послания Ариадны Тезею» из сборника Овидия «Героини» и героиня стихотворения Катулла «Свадьба Пелея и Фетиды».]. О, поверь, я большему научилась и больше постигла за месяц этого чтения, чем смогу постичь за всю жизнь, если мне придется разучивать стихи господина Метастазио. И если бы композиторы не вкладывали в свою музыку того чувства правды, которого нет в действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, заставляя великую герцогиню Зенобию беседовать с ландграфиней Аглаей[80 - Аглая – героиня оперы «Зенобия», пастушка, которая оказывается сестрой Зенобии.] и слушая, как фельдмаршал Радамист ссорится со знаменосцем пандуров Зопиром[81 - Зопир – герой оперы «Зенобия», мнимый друг Радамиста, влюбленный в Зенобию.]. О, как все это фальшиво, чудовищно фальшиво, милый мой Беппо! Фальшиво, как наши костюмы, фальшиво, как белокурый парик Кафариэлло в роли Тиридата, фальшиво, как пеньюар в стиле Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облаченные в розовое трико икры царевича Деметрия[82 - Деметрий – герой оперы «Антигон», сын царя Антигона, любящий Беренику.], как декорации, которые мы видим сейчас вблизи и которые похожи на Азию не больше, чем аббат Метастазио – на старца Гомера.
– То, что ты говоришь, – отвечал Гайдн, – объясняет мне, почему, ощущая потребность писать оперы для театра (конечно, если когда-нибудь я буду в силах это сделать), я чувствую, однако, больше вдохновения и больше надежды на успех при мысли о создании ораторий. Там, где жалкие сценические эффекты не мешают правдивости чувств, то есть в симфонии, где все – музыка, где душа говорит с душой звуками, а не зрительными образами, там, мне кажется, композитор может дать простор своему вдохновению и увлечь воображение слушателей в истинно высокие сферы.
Беседуя так в ожидании, пока все соберутся на репетицию, Иосиф и Консуэло прогуливались вдоль большой декорации заднего плана – вечером ей предстояло изображать реку Аракс, а сейчас в полусвете театра она была всего лишь длинной полосой синего цвета, натянутой между другими полотнами, размалеванными охрой и долженствующими изображать Кавказские горы. Известно, что декорации заднего плана, приготовленные для спектакля, помещаются друг за другом таким образом, чтобы по мере надобности их можно было поднять с помощью блока. В промежутках между ними во время представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табака статисты, сидя или лежа в пыли под медленно стекающими из плохо укрепленных кенкетов каплями масла. Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются актеры, повторяя роли или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они подслушивают чужие секреты, обнаруживают сложные интриги других гуляющих, которые, не видя их, беседуют тут же, позади какого-нибудь морского залива или городской площади.
По счастью, Метастазио не стоял на другом берегу Аракса в то время, когда неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование. Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и шла она так хорошо, что оркестранты даже зааплодировали, ударяя, как обычно, смычками по скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора дирижировал ею с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была одной из коронных ролей Кафариэлло, и актер не находил ничего предосудительного в том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили ворковать, словно Селадона, и говорить, как Клитандра[83 - Клитандр – традиционное имя героя-любовника во французской литературе XVII–XVIII вв.]. Консуэло хотя и чувствовала, что слова ее роли звучат фальшиво и напыщенно в устах античной героини, но, по крайней мере, самый образ Зенобии пришелся ей чрезвычайно по сердцу. Она даже находила в нем некоторое сходство с тем душевным состоянием, какое испытала, когда очутилась между Альбертом и Андзолето. И, совершенно позабыв то, что мы называем теперь «местным колоритом»[84 - «Местный колорит» – воспроизведение национально-исторического своеобразия определенной эпохи, отображение характерных особенностей быта, нравов, всего жизненного уклада данного народа. Понятие «местный колорит» было введено в обиход писателями-романтиками, выступавшими против изображения человека вне времени и пространства в произведениях представителей классицизма.], и живя лишь человеческими чувствами, она поняла, что достигла наивысшего подъема в арии, столь близкой ее собственному сердцу:
Voi leggete in ogni core;
Voi sapete, о giusti Dei,
Se son puri i cvoti miei,
Se innocente е la pieta.[25 - Вам открыты тайны сердца,И вы знаете, о боги,Как чисты мои желаньяИ безвинно состраданье (ит.).]
В этот миг ее охватил настоящий душевный трепет, и она осознала, что триумф ею заслужен. Ей не надо было, чтобы Кафариэлло, не стесненный на сей раз присутствием Тези и чистосердечно восхищавшийся, подтвердил взглядом то, что она сама чувствовала, – веру в неотразимую власть, какую эта блестящая ария будет иметь над любой публикой и при любых обстоятельствах. В этот миг Консуэло полностью примирилась со своей ролью, с этой оперой, со своими партнерами, с самой собой, одним словом – с театром. И как ни проклинала она свое положение всего час тому назад, теперь она испытывала такое глубокое, такое внезапное и могучее внутреннее содрогание, какое может ощутить только истинный художник – в какой бы области он ни работал. Только он способен понять, сколько лет труда, разочарований и мук может оно искупить в одно мгновение.
XCV
В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпоры, Гайдн, всегда жадно стремившийся слушать музыку и изучать строение опер вплоть до их постановки на сцене, получил позволение бывать за кулисами всякий раз, когда пела Консуэло. Но вот уже два дня он замечал, что Порпора, сначала неохотно допускавший его в недра театра, теперь разрешал ему это с добродушным видом еще прежде, чем юноша осмеливался попросить у него позволения. Дело в том, что в голове профессора возникла новая идея.
Мария-Терезия, разговаривая о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэло. Ее величество сказала, что ей было бы очень приятно, если бы талантливая певица обосновалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпоры. Сведения о Гайдне она получила от того же посланника, и так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него выдающиеся музыкальные способности, а главное – что он усердный католик, ее величество поручила своему собеседнику устроить этот брак, обещая устроить судьбу юной пары. Мысль эта улыбалась Корнеру: он нежно любил Иосифа, назначил ему ежемесячное пособие в семьдесят два франка, чтобы тот мог спокойно продолжать занятия, и горячо ратовал за него перед Порпорой. Боясь, как бы Консуэло не настояла на своем и не оставила бы сцену, выйдя замуж за знатного вельможу, Порпора, после долгих колебаний и упорного сопротивления, наконец дал себя уговорить, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы его ученица жила, не зная ни замужества, ни любви. Для вящей убедительности посланник решил показать Порпоре произведения Гайдна и открыл ему, что серенада для трио, очень понравившаяся маэстро, сочинена Беппо. Порпора признал, что в ней есть зародыш большого таланта, что он сам мог бы обеспечить юноше хорошее руководство и помочь ему своими советами в сочинительстве пьес для голоса и что судьба певицы, вышедшей замуж за композитора, может сложиться весьма удачно: чрезвычайная молодость этой пары и скудные средства вынудят обоих работать, не питая никаких тщеславных надежд, и, таким образом, Консуэло будет прикована к театру. Словом, маэстро сдался. Он, как и Консуэло, не получал ответа из замка Исполинов. Он опасался, как бы это молчание не помешало его планам, и страшился какой-либо выходки со стороны молодого графа. «Если бы мне удалось даже не выдать ее замуж, а хотя бы обручить с другим, – думал он, – тогда бы мне нечего было бояться».
Труднее всего было получить согласие самой Консуэло. Начать убеждать ее – значило внушить ей мысль о сопротивлении. Неаполитанская хитрость подсказала маэстро, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей молодой девушки. Она питала дружбу к Беппо, а Беппо, хотя и победил любовь в своем сердце, проявлял по отношению к Консуэло столько внимания, восхищения и преданности, что Порпора вполне мог предположить с его стороны страстную влюбленность. Маэстро решил не вмешиваться в отношения Иосифа и Консуэло, а предоставить юноше возможность добиться взаимности и, сообщив ему в удачный момент планы императрицы и свое собственное согласие, придать смелости его красноречию и жара его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил юным друзьям полную свободу проявлять свою братскую привязанность, льстя себя надеждой, что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он вмешался открыто.
Почти не сомневаясь в успехе своей затеи, Порпора сделал, однако, большую ошибку: он подверг репутацию Консуэло злословию. Стоило только два раза кряду увидеть за кулисами подле нее Иосифа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее нежных отношениях с молодым человеком; бедная Консуэло, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, не предвидела опасности и не подумала оберегать себя. И вот со дня репетиции «Зенобии» взгляды стали бдительными и все языки развязались. За каждой кулисой, за каждой декорацией актеры, хористы и другие служащие театра обменивались злобными или игривыми, порицающими или благожелательными замечаниями о неприличии зарождающейся связи или о наивности счастливой помолвки.
Консуэло вся ушла в свою роль, в свои артистические переживания и ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Иосиф, всецело поглощенный оперой, репетировавшейся на сцене, и той, которую он вынашивал в душе, иногда, правда, слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, настолько он был далек от каких бы то ни было надежд. Когда до него мимоходом долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался, ища, к кому они относятся, и, не найдя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы.
В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия-буфф, и в тот день репетировали «Импресарио с Канарских островов»[85 - «Импресарио с Канарских островов» – интермедия в двух частях, переложенная на музыку Леонардо Лео. Впервые была поставлена в Венеции в 1741 г.] – сценки Метастазио, очень веселые и забавные. Корилла, исполняя в них роль примадонны, требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна, и успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделке, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала большой ролью Зенобии. Пока репетировали последнюю часть интермедии, Консуэло, в ожидании третьего акта, несколько утомленная волнениями своей роли, зашла в глубь сцены и очутилась между двух декораций – «страшной долиной, изрезанной горами и пропастями», из первого акта и прекрасной рекой Араксом, окаймленной «радующими взор холмами», которая должна была появиться в третьем акте, чтобы дать отдых глазам «чувствительного» зрителя. Консуэло быстро прохаживалась взад и вперед, когда к ней подошел Иосиф и подал оставленный ею на суфлерской будке веер, которым она тут же с наслаждением стала обмахиваться. Влечение сердца, равно как и намеренное поощрение Порпоры, невольно побуждали Иосифа разыскивать свою подругу; Консуэло же, привыкшая относиться к нему с доверием и изливать ему свою душу, неизменно с радостью встречала его. И вот эту взаимную симпатию, которой не постыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник и причину невероятных несчастий… Мы знаем, что читательницы романов спешат скорее узнать самое волнующее и требуют от нас только драк и ссор, – умоляем их немного потерпеть.
– Ну, друг мой, – сказал Иосиф, улыбаясь и подавая руку Консуэло, – мне кажется, ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, вырвался наконец на волю!
– Ты, значит, находишь, что я хорошо спела молитву?
– Разве ты не видишь, как у меня покраснели глаза?
– Ах да! Ты плакал! Ну что ж! Прекрасно! Очень рада, что заставила тебя плакать.
– Точно это впервые! Но, милая Консуэло, ты становишься именно такой актрисой, какой Порпора хочет тебя видеть. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда, бывало, ты пела, шагая по тропинкам Богемского леса, ты видела мои слезы и плакала сама, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело: ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызванные тобой слезы. Итак, вперед, Консуэло! Ты теперь prima donna[26 - Примадонна (ит.).] в полном смысле этого слова!
– Не говори мне этого, друг мой, я никогда не буду такой, как она… – И Консуэло указала жестом на Кориллу, певшую на сцене по ту сторону декорации.
– Не пойми меня дурно, – возразил Иосиф, – я хочу сказать, что тобой овладел бог вдохновения. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминание о замке Исполинов боролись с пифийским духом. Он проник в тебя и бьет через край. Признайся, ты задыхаешься от счастья. Твоя рука дрожит в моей, твое лицо возбуждено, и я никогда еще не видал у тебя такого взгляда, как в эту минуту. Нет! Когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии, ты не была так взволнована, преисполнена такого вдохновения, как сейчас!
– Боже, какую ты причинил мне боль! – воскликнула Консуэло, внезапно бледнея и вырывая у Иосифа свою руку. – Зачем ты произносишь здесь его имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Это грозное имя ужасно, как удар грома. Оно уносит в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов!
– Если так, Консуэло, сказать тебе правду? – снова заговорил Иосиф после минутного молчания. – Никогда ты не решишься выйти замуж за этого человека.
– Замолчи! Замолчи! Я обещала ему!..
– Если же ты сдержишь обещание, то никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр? Отказаться от артистической карьеры? Теперь уже поздно! Ты только что вкусила такую радость, что воспоминание о ней способно отравить всю твою жизнь.
– Ты меня пугаешь, Беппо. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи?