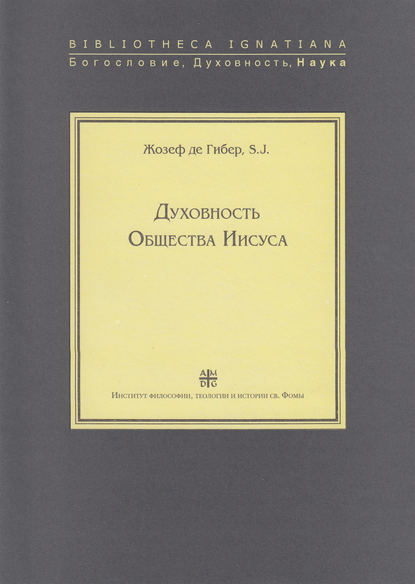По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духовность Общества Иисуса
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Духовную жизнь этого святого можно четко подразделить на несколько этапов: обращение в 1521 г.; Монтсеррат, Манреса и Иерусалим с марта 1522 г. по февраль 1524; студенческие годы вплоть до отъезда из Парижа в 1535 г.; годы евангельской и апостольской жизни в Верхней Италии и Риме вплоть до учреждения Общества как монашеского ордена с одобрения Павла III; и наконец, с 1540 г. до смерти в 1556 г., жизнь в качестве генерала Общества, вершина его духовного восхождения.
Обращение
Св. Игнатий пережил обращение, причем в 1521 г., когда он перешел от мирской к жизни к жизни всецело христианской, к жизни в благочестии и святости, он был уже зрелым человеком примерно тридцати лет, почти как св. Августин во время своего обращения. Но если оба этих обращенных схожи друг с другом многими чертами характера: подвижным и пылким темпераментом, удивительной силой размышления и самонаблюдения, – то начисто непохожи друг на друга отправной точкой своего восхождения к святости. Августин – теоретик, утонченный мыслитель, страстно увлеченный высокими вопросами философии и религии, давно привычный к самонаблюдению и напряженной внутренней жизни, окруженный друзьями и товарищами, которые будут сопровождать его на пути возвращения к Богу. Игнатий – человек действия, лишенный подлинной интеллектуальной культуры, не знающий, в сущности, никаких тонкостей, кроме изысков двора и рыцарской галантности. Это необычайно храбрый и решительный офицер, убежденный и непоколебимый христианин, верный и доблестный, уже обладающий выдающимся даром инициативы и руководства, но в то же время человек гордый и чувственный, честолюбивый и вспыльчивый. Его секретарь Поланко скажет о нем: «Будучи весьма привязанным к вере, он все-таки не жил согласно своим верованиям и не избегал греха; особенно же неразборчив он был в игре, в связях с женщинами и в дуэлях»[13 - Chron., I, р. 13; Лаинес, со своей стороны, заметит (Scr. de S. Ign., I, p. 101; Forties Narr., I, p. 76), что в молодости Игнатий дал «победить себя греху плоти».]. В 1515 г. Игнатия и его брата Перо Лопеса преследовал в судебном порядке коррехидор Аспейтии за «тяжкие» правонарушения, совершенные во время карнавала, под покровом ночи и предумышленно[14 - Scr. de S. Ign., I, p. 587; на с. 565–587 можно найти фрагменты этого судебного дела; о мирской жизни Игнатия см., прежде всего, Dudon, S. Ignace… p. 27 ss. и Leturia, Elgentilhombre… p. 70 ss.].
Что до духовного влияния, которое он испытал на себе в этот период, то указывалось на возможность и даже вероятность такого влияния со стороны Марии де Гевары во время службы святого в Аревало в качестве пажа казначея Кастилии. Но ничто не свидетельствует о том, что советы этой благочестивой женщины глубоко впечатляли Игнатия, который оставался «человеком, озабоченным собственной привлекательностью, охотником угождать дамам, смелым в галантных делах и щепетильным в делах чести, не боящимся ничего, ни во что не ставящим ни свою собственную жизнь, ни чужую, готовым на любые подвиги, даже на пустую демонстрацию силы. И если мечты его и наполняет некий идеал, то это идеал рыцарских романов, чтение которых очень занимает его»[15 - Dudon, S. Ignace… p. 27.]. Тем не менее не нужно забывать, что в этих рыцарских романах, об Амадисе и других, как и у поэтов cancionero[16 - Песенников. – Прим. пер.], чьи строфы он, должно быть, часто слышал и читал, также присутствуют религиозные мысли, мысли, которые не могли не оставить следа в уме и сердце Иньиго, как не мог он позабыть и многочисленные скиты и маленькие святилища вокруг Лойолы[17 - Leturia, El gentilhombre… p. 54 ss.; cf. p. 12 ss.]. Но ничто не говорит о том, что в то время у него была настоящая духовная жизнь[18 - Рибаденейра (Ribadeneira, De actis P. N. Ign. (далее de Actis), n. 8, Scr. de S. Ign., I, p. 340) сообщает как бы со слов самого Игнатия, что в молодости его якобы посетило сильное «желание поискать пустынное место и укрыться в полном одиночестве» (desideriis eremum petendi et abdendi se in inviam solitudinem); но то было никоим образом не желание служить Богу; то было желание избежать стыда из-за мучительной болезни носовой полости, порождавшей невыносимый смрад; когда врачи оставили попытки вылечить Игнатия, он в конце концов исцелился сам.]. И только вынужденный досуг, на который обрекла его долгая болезнь после ранения в Памплоне (12 мая 1521 г.), заставил его волей-неволей углубиться в себя и таким образом погрузиться в эту внутреннюю жизнь, даром каковой он был, впрочем, очень богато наделен.
Не стоит останавливаться на внешних обстоятельствах этого поворота: на мучительной транспортировке его в Лойолу несколько дней спустя после сражения; на ухудшении его состояния после хирургических истязаний; на последнем причастии в канун дня св. Петра и на последующем нежданном выздоровлении; на новой операции, призванной выправить деформацию раненой ноги; на длительном исцелении, когда чтение и размышление привели его к обращению[19 - Об обстоятельствах его ранения и исцеления см. Dudon, S. Ignace… p. 47–56, и прежде всего Leturia, El gentilhombre… p. 110–133.]. Каковы были мотивы и значение последнего?
Двумя сочинениями, которые, за отсутствием рыцарских романов, попали в руки раненого, были, как мы знаем с его собственных слов, «Жизнь Христа и книга житий святых на народном языке»[20 - G. da Camara, n. 6, p. 40. Pontes Narr., I, p. 370. Так я обозначаю автобиографию, продиктованную самим Игнатием в 1553 г. о. Л. Гонсалвишу да Камаре и опубликованную в MHSI, Scr. de S. Ign., I, p. 31–98, и в новом издании Pontes Narr., I, p. 323–507. Что до идентификации этих двух книг, то о. А. Кодина (A. Codina, Los origenes… p. 220 ss.) убедительно показал, что первая была переводом Монтесиноса, чьи Canciones («Песни») были, несомненно, знакомы Игнатию и чье важное предисловие он, должно быть, с интересом прочел; о. Летурия (Leturia, El gentilhombre… p. 141–147), подытоживая свои статьи 1926–1928 гг. в журнале «Manresa», показывает, что жития святых были, определенно, переводом труда Якова Ворагинского, принадлежащим, почти несомненно, Рауберто Вагаду. Сопоставления предисловия Гауберто и идей Игнатия, как мне кажется, служат столь веским доводом в пользу этой точки зрения, что почти полностью исключают всякие сомнения.], то есть перевод «Жизни Христа» Лудольфа Картузианца, выполненный Амбросио Монтесиносом, и кастильский перевод «Цвета святых» (Flos Sanctorum), житий святых Якова Ворагинского, почти несомненно тот, который сопровождался предисловием и дополнениями фрая Гауберто Вагада и был издан в Сарагосе в неизвестное время и перепечатан в Толедо в 1511 г. Как кажется, главным образом именно этот, последний, труд поначалу влиял на Игнатия, что можно легко объяснить тем, что эти разнообразные рассказы, полные часто необычайных, подчас даже романтичных приключений, привлекали его, должно быть, куда больше, чем аскетические размышления Лудольфа Картузианца.
Первым шагом на этом новом пути стал для больного растущий интерес к этому чтению и подсказанные им размышления, которые стали чередоваться в нем с мирскими мечтами и доставляли удовольствие его богатому воображению. В самом деле, как сам он говорит нам, он проводил по «два, три и четыре часа», воображая себе, «что? сделал бы, служа некой сеньоре; представлял себе те средства, к которым прибегнул бы, чтобы отправиться туда, где она находилась; остроты и слова, которые он ей сказал бы, а также ратные подвиги, которые совершил бы ради служения ей»[21 - G. da Camara, п. 6. Scr. de S. Ign., I, p. 40; Pontes Narr, I, p. 370.].
На фоне этих возвышенных дел, этого мирского рыцарства и служения, «Цвет святых» (Flos Sanctorum) открывает ему подвиги, рыцарство и служение иного порядка, которые, в свете его неизменно живой веры, не могут не представляться ему еще более возвышенными и благородными и тем самым начинают давать новую пищу его размышлениям и фантазиям: теперь он думает о том, «чтобы пойти в Иерусалим босиком, питаться одними травами и совершать все прочие подвиги покаяния, которые, как он увидел, совершали святые», делать то, что делали св. Доминик, св. Франциск и тот легендарный св. Онуфрий, чье жизнеописание, как кажется, особенно его привлекало и чьим подвигам он стремился подражать ради Бога[22 - Leturia, El gentilhombre… p. 150–158; св. Франциск и св. Доминик упомянуты в автобиографии; св. Онуфрий – в неизданном тексте о. Надаля (с. 154), что подкрепляется многочисленными параллелями между легендой об этом святом у Вагада и отдельными подробностями покаянных дел самого Игнатия.].
Не что иное, как пролог Гауберто Вагада, направил размышления читателя в это русло, подчеркивая возвышенные деяния тех, кого Вагад называет «caballeros de Dios» – «рыцари Божии», – величественные подвиги святых основателей, чью религиозную и просветительскую деятельность он вспоминает на страницах своей книги, открывая тем самым взору Игнатия неожиданные перспективы славного служения. Но прежде всего, в самом центре всех этих восхитительных людей, фрай Гауберто изображал несравненного Вождя, за Чьим «знаменем, вечно победным», следуют все эти рыцари Божии, «вечного Князя Иисуса Христа», Чья «удивительная» жизнь и страсти открывали том «Цвета святых» и сопровождались пространными объяснениями и размышлениями в переводе Лудольфа, сделанном Монтесиносом.
Святой замечает также[23 - G. da Catra, п. 8. Scr. de S. Ign., I, p. 41; Pontes Narr., I, p. 372.], что его мирские размышления в то время услаждали его, пока он им предавался, но потом он чувствовал «скуку и недовольство»; когда же он, напротив, воображал себя соперничающим со святыми в служении Христу, то утешался не только тогда, когда на этих мыслях задерживался, но даже и после оставался «доволен и радостен». Поначалу, добавляет он, он не обращал внимания на эту разницу; но «однажды у него немного открылись глаза, и тогда он стал удивляться этому разнообразию и размышлять о нём». Это послужит отправной точкой для его наблюдений на предмет различения духов.
Между тем он часто и подолгу смотрел «на небо и на звёзды <…>, ибо благодаря этому чувствовал величайшее стремление служить нашему Господу»[24 - Ibid., 11. Scr. de S. Ign., I, p. 43; Pontes Narr., I, p. 376.]. Это служение тогда состояло для него в том, чтобы пойти босиком в Иерусалим и жить в непрестанном покаянии. Его посетила мысль удалиться в далекий картузианский монастырь, где бы его никто не знал, но он опасался, что это воспрепятствует его стремлению к великим делам покаяния…[25 - Ibid., 12. Scr. de S. Ign., I, p. 43; Pontes Narr, I, p. 382.]
Видение Богоматери, которое, если судить по его плодам, было «делом Божиим», оставляет новообращенного с таким отвращением к его прошлой жизни, в особенности к делам плоти, что ему кажется, будто все воспоминания о них навсегда стерлись из его души[26 - Ibid., 10. Scr. deS. Ign., I, p. 42; Pontes Narr., I, p. 374–376: «С того часа до августа пятьдесят третьего года, когда пишутся эти строки, он ни разу ни в малейшей степени не потакал делам плоти». Именно этот великий дар целомудрия склоняет верить в подлинность видения.].
Таким образом, у истоков его духовной жизни мы находим господствующую идею «возвышенного служения» Христу, Вождю «Божиих рыцарей», размышление и созерцание, которым уделяется значительное место, и самонаблюдение, бдительное внимание к тому, что происходит у него внутри, а также внешне не столь заметную, но решающую роль Марии – черты, которые во многих отношениях останутся отличительными особенностями его духовности.
Манреса
В марте 1522 г. Игнатий покидает Лойолу и отправляется в Мотсеррат и Манресу. Так начнется первый этап его внутренней жизни, который продлится вплоть до его возвращения из Иерусалима в феврале 1524 г. На всем этом этапе в нем преобладает желание вершить великие дела ради Христа и мысли, образующие в Упражнениях размышления «О Царе Небесном» и «О двух хоругвях». И теми великими делами, в которых он хочет подражать св. Франциску или св. Доминику, являются, по крайней мере поначалу, «не столько тонкость и глубина духовной жизни или сила апостольского рвения, сколько бедность, покаяние, самобичевание и посты»[27 - Leturia, El gentilhombre… p. 153; ср. G. da Camara, n. 14. Scr. de S. Ign., I, p. 45; Pontes Narr., I, p. 382: «Все его намерение заключалось лишь в том, чтобы совершить эти великие “внешние” деяния, поскольку их совершали святые во славу Божию»; и он замечает, что с тех пор его побуждали к покаянию не столько воспоминания о грехах, сколько любовь к Богу.]. Как в свое время он не соглашался никому уступать в отваге и верности в служении королю, так теперь он не намерен отставать ни от кого из святых.
И дабы торжественно приступить к своему новому служению, 25 марта в Монтсерате, с головой, еще полной воспоминаний об Амадисе и Эспландиане, он совершит свое бдение над оружием согласно рыцарским традициям. Чтобы скрыться еще дальше, он спешно покидает Монтсеррат и удаляется в Манресу Он намеревался всего лишь провести несколько дней в местном «госпитале» и «занести кое-что в свою книгу, которую он тщательно хранил и в которой черпал немалое утешение». Это была та самая книга, в которую он уже начал записывать в Лойоле наиболее замечательные слова и события жизни Христа и святых. Еще одна черта, которая была свойственна ему всю жизнь, – привычка заботливо записывать мысли и наблюдения, которые могли пригодиться ему или другим.
На самом деле Игнатию предстояло провести в Манресе почти год, с конца марта 1522 г. по февраль 1523 г. Это был период первостепенной важности для его духовной жизни, ибо именно он преобразит новообращенного воина, все еще очень грубого и неотесанного даже в своем стремлении доблестно служить Богу, в подлинно духовного человека, уже опытного учителя, способного наставлять и направлять души; тот же период откроет ему за подвигами покаяния перспективы апостольского служения. Каковы были факторы и этапы этого преображения?
В воспоминаниях, написанных им в 1547 г.[28 - Scr. de S. Ign., I, p. 102; Fontes Narr., I, p. 78.], Лаинес четко разграничивает начальный период в четыре месяца длиной со «многими устными молитвами» и делами покаяния, которые подорвали его крепкое здоровье. «Тогда он не понимал почти ничего в делах Божиих; Бог же помогал ему, поддерживая в нем стойкость и отвагу». Описание этих четырех месяцев соответствует тому, что говорит сам святой о своих первых шагах в Манресе, когда он жил подаянием, постился, умышленно пренебрегал уходом за волосами и ногтями, ходил на мессу и службы, пение которых доставляло ему немалое утешение, посвящал многие часы молитве, пребывая тем самым «почти в одном и том же состоянии духа, испытывая весьма стойкую радость, ничего не ведая о вещах «внутренних», духовных»[29 - G. da Camara, n. 19–20. Scr. de S. Ign., I, p. 48; Fontes Narr., I, p. 388–391.].
Это начало, относительно спокойное в своей строгости, сменяется периодом резкого чередования оставленности и утешения, бурей жестоких сомнений, которые доведут его до искушения совершить самоубийство, и наконец, потоком необычайных милостей, которые сделают его «другим человеком». Сам Игнатий четко различает эти три состояния, но не говорит ничего определенного об их хронологической последовательности, как и об их связи с двумя тяжелыми болезнями, которые он перенес в Манресе; несомненным представляется лишь то, что духовные испытания сменяются великими мистическими милостями[30 - Astrain, I, 43 относит бурю сомнений к августу-октябрю, а поток великих милостей к октябрю-февралю 1523 г.; Facchi Venturi, II, 32 ss. считает, что приступ сомнений начался на исходе четвертого месяца, а великое видение на Кардонере относит к августу. Действительно, при чтении текста Лаинеса (Scr. de S. Ign., I, p. 103; Fontes Narr., I, p. 80) представляется ясным, что это видение произошло сразу по истечении первых шести месяцев и положило начало потоку мистических милостей, но Лаинес сомневается (quando те puedo acordar aver entendido), и непросто примирить сравнение Игнатия, в котором говорится, что Бог наставлял его, как школьный учитель, с утверждением, что это видение посетило его в начале, – видение, когда он, по его собственным словам, обрел больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Посему я склонен видеть в этом видении на Кардонере скорее вершину, чем начало этой череды милостей.].
Сомнения и оставленность его были обычны; более любопытным представляется искушение в форме видения змеи, покрытой блестками, сверкающими, словно глаза. Как кажется, кающийся находил мало помощи, по крайней мере, помощи действенной, у исповедников, к которым ходил каждые восемь дней. В частности, если один исповедник и оказал ему услугу в связи с его сомнениями, заставив его прекратить полный пост, который он хотел продолжать вплоть до их исчезновения, то последнее было все же делом одного лишь Бога, Который пробудил его «как будто ото сна» и внушил ему твердую решимость больше не возвращаться к своему прошлому ни под каким видом[31 - G. da Camara, п. 25. Scr. de S. Ign., p. 52; Fontes Narr, I, p. 398.]. Мы знаем, что он исповедовался канонику коллегиальной церкви, несомненно, также кому-то из приютивших его доминиканцев; возможно, он также вновь виделся с домом Шаноном, который в Монтсеррате выслушал его генеральную исповедь[32 - Ibid., 22, р. 50; Fontes Narr., I, p. 392; cf. Dudon, S. Ignace… p. 81.]; но мы не найдем никакого следа духовного руководства в собственном смысле слова и хоть немного постоянного. Он сам скажет потом Рибаденейре[33 - de Actis, n. 14 (Scr. de S. Ign., I, p. 341).], что, если в два первых года своего обращения он искал бесед с людьми духовными, о которых слышал, то делал это не столько ради пользы, которую мог извлечь из этих бесед, сколько для того, чтобы увидеть, ведет ли их тот же дух, что и его самого; но потом он отказался от этого, сумев найти лишь одного или двух духовных людей, чей дух и образ жизни отвечали его собственным. Таким образом, он с самого начала отдает себе отчет в том, что путь, которым ведет его Бог, – путь особенный, на котором его будут наставлять не столько люди, сколько его собственные переживания и озарения.
В Манресе он будет переживать, главным образом, те чередования и испытания сомнениями и искушениями, о которых мы только что говорили, излишества в делах покаяния с их тягостными последствиями; ежедневные семичасовые молитвы[34 - G. da Camara, n. 23. Scr. de S. Ign., p. 51; Fontes Narr., I, p. 396: siete horas de oration de rodillas; levatandose a media noche continuamente – «продолжал по семь часов молиться на коленях, постоянно поднимаясь с постели в полночь», cf. п. 26, р. 52. – Если автор не распространяется здесь о Духовных упражнениях, то будет говорить о них обстоятельно ниже, в главе III.], участие в литургической жизни; наконец, первый опыт дел милосердия в пользу бедных и больных и даже апостольства, когда, как он нам говорит, «он был занят также помощью в делах духовных неким душам, приходившим, чтобы отыскать его»[35 - Ibid., 26, р. 52; Fontes Narr, I, p. 398.].
Но не столько переживания, сколько озарения приведут его к преображению: «В это время, – рассказывает он да Камаре, – Бог обращался с ним точно так же, как школьный учитель обращается с ребёнком, его наставляя. То ли так было из-за его неотесанности и умственной неповоротливости, то ли потому, что некому было его наставить, то ли из-за данной ему Самим Богом твердой воли служить Ему – только он и в то время, и впоследствии всегда уверенно считал, что Бог обращался с ним именно так. Более того: если бы он усомнился в этом, то подумал бы, что оскорбляет Его Божественное Величие»[36 - Подробности этих милостей приводятся в G. da Camara, п. 27–31, Scr. de S. Ign., I., p. 53–55; Fontes Narr, I, p. 400–406.]. И чтобы дать некоторое представление об этих милостях, он рассказывает об обретенных им озарениях о Троице, о сотворении мира, о евхаристии и о человечестве Христа. Однажды «ум его стал возноситься ввысь, и он словно бы узрел Святейшую Троицу в виде фигуры из трёх клавиш (enfigura de tres teclas)» (п. 28). В другой раз ему «с великой духовной радостью мысленно представилось, как Бог сотворил мир, и казалось ему, что он видит нечто белое, откуда выходило несколько лучей, и что из этого Бог творил свет. Но объяснить этого он не мог и не вполне хорошо помнил те духовные «известия», которые в те времена Бог запечатлел в его душе» (п. 29). В другой день, при вознесении освященной гостии, «он увидел внутренними очами словно бы белые лучи, ниспадавшие сверху. И, хотя спустя столько времени он не может этого толком объяснить, тем не менее то, что он видел мысленно, было, несомненно, тем, как пребывает в этом Святейшем Таинстве Господь наш Иисус Христос» (п. 29). Часто и подолгу во время молитвы «он видел внутренними очами человеческую природу Христа: фигуру, которая представлялась ему белым телом, не слишком большим и не слишком маленьким, но отдельных частей её он не различал. Это он видел в Манресе много раз: если бы сказать «двадцать» или «орок», он не осмелился бы счесть это ложью. Ещё раз он видел это, находясь в Иерусалиме, и ещё раз – в пути, возле Падуи. Богородицу Деву он тоже видел в подобном облике, не различая отдельных частей» (п. 29). Он добавляет, что эти видения так укрепляли его в вере, что он часто говорил: «Если бы не было Писания, которое наставляет нас в этих вопросах веры, то он решился бы умереть за них – уже за одно то, что увидел».
Наконец (п. 30) он рассказывает о великом озарении, обретенном на берегах Кардонера, каковое описывает следующим образом: «…у него стали открываться очи разумения. Не то чтобы ему было какое-то видение, однако он понял и узнал множество вещей – как духовных, так и относящихся к вере и к наукам, – и притом с таким великим озарением, что всё это показалось ему новым <…> ему показалось, будто он стал другим человеком, с другим разумом, нежели прежде. <…> тогда он получил столь великую ясность понимания, что ему кажется: если собрать всю помощь, полученную им от Бога на всём протяжении его жизни, за прошедшие шестьдесят два года, а также всё то, что он познал, и даже если соединить всё это вместе, то он не обрёл бы столько, сколько в тот единственный раз» (п. 30–31).
Какова в точности природа тех милостей, которые описаны в этих строках, продиктованных святым под конец своей жизни в присущем ему осторожном и неровном стиле, в котором ощущается, как вдумчиво он взвешивал каждое слово, прежде чем произнести его? Прежде всего поражают два обстоятельства: очень бедная образность его видений и важность, богатство содержания, которое Игнатий по-прежнему видит в них даже тридцать лет спустя. Это было бы необъяснимо, будь перед нами простые образные видения, пусть даже сверхъестественного происхождения: в таких видениях, в сущности, предмет видения постигается разумом лишь через посредство видимых образов и лишь постольку, поскольку эти образы способны его явить. Однако образы, описанные Игнатием, могли явить ему лишь самые простые истины о Троице и Христе. Все это было бы тем более необъяснимо, если бы мы пожелали видеть в этих образах простые зрительные галлюцинации самого скудного содержания. Посему приходится признать, что со времен Манресы, как мы вновь убедимся позже, милости, обретаемые нашим святым, были на самом деле высокими умственными озарениями, даруемыми Богом непосредственно разуму, а образы, им описанные, – всего лишь отзвуком этих озарений в душе человека, от природы наделенного богатым воображением, однако еще слишком бедным символическими образами, пригодными для такого рода постижений. Мы уже обращали внимание на то, какое место занимает в жизни Игнатия образное размышление, воссоздающее видимые сцены прошлого или рисующее воображению возможные сцены будущего; но совсем другое дело – сила воображения символического, которое, как кажется, было у него очень слабым, бесконечно более слабым, чем у многих других мистиков. Кроме того, сам святой, как кажется, призывает нас к такому пониманию, настойчиво говоря в приведенных текстах об очах разумения, о вознесении ума, о мысленном представлении…[37 - См. статью о. Габриэля св. Марии Магдалины в Etudes Carmelitaines (Octobre 1936), р. 190–200, о видениях св. Терезы, где подобным же образом толкуются образные видения, которые у этой святой следуют за видениями умственными.]
Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо оно показывает нам, что еще в Манресе Игнатий был поставлен на путь высшего излиянного созерцания. Если богословы и мистики единодушно проводят четкое различие между образными видениями и даром излиянного созерцания в собственном смысле слова, то столь же единодушно рассматривают они чисто умственные озарения, особенно о Троице, как признак высокого уровня излиянного созерцания. В случае нашего святого стезя созерцания с самого начала представляется совершенно иной, нежели та, что столь искусно описана великим учителем мистики св. Иоанном Креста, и мы увидим, что все развитие его мистической жизни пойдет совершенно особым путем; но уже в Манресе мы видим его одаренным тем опытным умственным знанием Божественного присутствия в душе, которое составляет необходимый фон излиянного созерцания.
Вторую часть этого первого этапа духовного пути составляет паломничество в Иерусалим. Плодом этого путешествия станет еще более нежная любовь святого к человеческой природе Христа и тайнам его земной жизни, а также, как кажется, возросшее стремление помогать ближнему, что он вознамерился делать на Святой Земле, не открывая этого окружающим. В то же время представляется, что в основных чертах его духовной жизни никаких заметных перемен не происходило: в ней по-прежнему господствовала мысль о молитвенной жизни и выдающихся делах покаяния в служении Христу, Вечному Царю. «Автобиография» ограничивается такого рода идеями и упоминанием нескольких видений Христа, подобных манресским, которые поддерживают паломника в самые трудные моменты путешествия[38 - G. da Сатага, п. 41, 44, 48. Scr. de S. Ign., p. 60, 62, 65; Pontes Nam, I, p. 416, 420, 426.].
Напротив, очень важны были те рассуждения, которым предавался Игнатий на обратном пути в Венецию, с того времени как вынужден был заключить: воля Божия не в том, чтобы он остался в Палестине. О деталях этих рассуждений и об этапах изменения своего идеала он умалчивает; он отмечает лишь итог: «…он всегда ходил, размышляя о том, quid agendum, и в конце концов склонился к тому, что некоторое время ему нужно поучиться, дабы он мог оказывать помощь душам, и решил идти в Барселону»[39 - Ibid., п. 50, р. 66. Fontes Narr., I, р. 430.]. Это решение заняться учебой показывает, что он не намерен больше оказывать помощь душам просто благочестивыми беседами, как он уже делал в Манресе и мечтал делать на Святой Земле; он хочет получить возможность вершить подлинное апостольское служение. Отныне первое место среди его занятий займет возвышенное апостольское служение как дело, превосходящее все подвиги покаяния, которым он сможет отличиться среди верных рыцарей Христовых.
Студенческие годы
Так открывается второй период духовной жизни Игнатия, период, который начинается вместе с уроками магистра Ардеволя в Барселоне в 1524 г. и продолжается до отъезда Игнатия из Парижа в Аспейтию в марте 1535 г.: десять лет учебы, чередующейся с апостольством, более или менее активным, в зависимости от времени и обстоятельств, но всегда относительно умеренным. В разговоре с Лаинесом, изложенном им в 1547 г.,[40 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Pontes Narr., I, p. 140.] святой четко отличает этот второй период от предшествующего и последующего: «То, что он обрел в Манресе, сказал он, и то, что во времена, когда отвлекся на учебу (en el tiempo de la distraction de su estudio), имел обыкновение превозносить (magnificar) и называть своей ранней Церковью, было очень мало в сравнении с тем, что переживал он теперь». Теперь – значит в момент разговора, то есть между 1537 и 1547 г. Таким образом, великому изобилию даров в Манресе приходит на смену период «отвлечения на учебу», который, в свою очередь, уступает место еще более великим милостям. То же разграничение этих трех периодов можно найти в «Автобиографии»[41 - G. da Camara, n. 95. Scr. de S. Ign., I, p. 94; Pontes Narr., I, p. 494.], там, где Игнатий говорит, как он был в Виченце во время своего рукоположения во священство в 1537 г.: «…его посещало много духовных видений и он много раз (почти регулярно) испытывал утешение – в противоположность тому, как было в Париже. Особенно тогда, когда он начал готовиться стать священником в Венеции, когда готовился служить первую Мессу, <а также> во всех этих путешествиях он пережил великие сверхъестественные “посещения” того рода, которые он обычно переживал, находясь в Манресе». Рибаденейра, со своей стороны[42 - Dicta el facta, п. 10, Scr. de S. Ign., I, p. 395.], сообщает, что во время учебы Игнатий всецело предавался занятиям, довольствуясь посещением мессы и короткой молитвой (con oyr missa у роса oratiоn).
Как понимать это «отвлечение» во времена учебы? Прежде всего, ясно, что, если вспомнить о его семичасовой молитве в Манресе, то «краткую молитву» в Париже можно толковать как понятие довольно растяжимое. Что до двух лет, что он провел в Барселоне, то Хуан Паскуаль, который спал тогда в той же комнате, что и святой, свидетельствует нам о его долгих ночных молитвах, прерываемых слезами, вздохами и восторгами[43 - Scr. de S. Ign., II, p. 78–79 et 90; cf. p. 632–634.]; дочь Хуана также будет говорить о его восторгах во время трапез при виде изображения Тайной вечери[44 - Ibid, p. 640.]. Мы не располагаем прямыми свидетельствами о его пребывании в Алькале и Саламанке, но детали свидетельских показаний, представленных в ходе двух судебных процессов в Алькале, в 1526 и 1527 гг., говорят о том, что Игнатий много занимался преподаванием Духовных упражнений и наставлением ближних в благочестии, вместе с ними предаваясь многочисленным делам молитвы и покаяния. Таким образом, как явно подсказывает нам сам святой в своей беседе с да Камарой, этот период его проживания в Париже мы должны рассматривать собственно как время учебы, отличное от двух других периодов.
К сожалению, у нас нет никаких точных данных о том, какова была внутренняя жизнь Игнатия в эти семь лет, с февраля 1528 г. по март 1535. Мы знаем лишь, по эпизоду его путешествия в Руан[45 - G. da Camara, n. 79, Scr. de S. Ign., I, p. 83; Pontes Narr, I, p. 470.], совершенного пешком, без еды и питья, что он не отказывался, по меньшей мере в крайних случаях, от святых безумств Манресы и что Бог вознаграждал его великими утешениями; не отказывался он – мы это знаем – и отдел милосердия и апостольства, предаваясь им в разной мере в зависимости от времени[46 - О его жизни в Париже см. Dudon, S. Ignace… с. 9, р. 179 ss.; Игнатий получил степень магистра искусств 13 марта 1533 г. (р. 192).]. Но мы не знаем, какова была тогда его молитва – та, которую он ограничивает во времени, – и какие сокровенные мысли больше всего занимали его душу и руководили его поступками.
Поскольку Игнатий был человеком очень наблюдательным и вдумчивым, уже пережитой апостольский опыт, происшествия в Алькале и странное поведение некоторых женщин, которых он наставлял в этом городе, знакомство, пусть весьма несовершенное, с испанским и французским гуманизмом, с зарождающимся протестантизмом, занятия философией и богословием не могли не оказать глубокого влияния на ход его духовной жизни, однако подробности этой внутренней перемены полностью от нас сокрыты. И только позже мы сможем попытаться распознать некоторые плоды этого влияния.
Однако можно с уверенностью сказать, что «отвлечение», о котором говорит святой, ничто не позволяет толковать как «расслабление»; напротив, все, что мы знаем о его внешней жизни в этот период, заставляет нас предполагать, что это было время великого интеллектуального обогащения, хотя и в совершенно иной форме, нежели в Манресе. Также нет никаких причин полагать, что и в молитве он временно лишился излиянных даров и вернулся к простой рассудочной или образной молитве и даже молитве весьма упрощенной; его единение с Богом, должно быть, сохранило тот пассивный характер, который Божий промысел, как кажется, обыкновенно не отнимает у душ воистину верных, однажды им его сообщив. Таким образом, Игнатий по-прежнему остается под водительством особой и великой благодати, которая сохраняет в нем нечто главное – излиянное единство, – но самые яркие и необычные проявления этого божественного действия в его душе уже не таковы, какими были в Манресе и какими снова станут в Италии и в Риме.
Косвенным, но очень точным свидетельством мыслей, привычно вдохновлявших в то время жизнь святого, служит нам письмо от 10 ноября 1532 г. к его барселонской благодетельнице Исабель Росер[47 - Epist. S. Ign., I, p. 83 ss.]. Идея служения и хвалы остается на первом плане: «служение и хвала Его Божественному Величеству» (р. 83); служение Богу; служение Богу и слава Божия, слава Божия и служение Богу (р. 84); болезнь есть благо, ибо она учит «направлять и устремлять свою жизнь к славе Божией и служению» (р. 85), служение же это мы совершаем, сражаясь с миром, воздевая знамя против века сего и снося, по примеру Христа, обиды и оскорбления… (р. 86). В письме того же, 1532, года, которое Игнатий написал своему брату Мартину[48 - Ibid., p. 80.], мы трижды находим на одной и той же странице выражение «служение и восхваление Божие», в сочетании, впрочем, с довольно туманными разъяснениями о порядке дел любви, несомненным отголоском богословских дискуссий в Париже. Таким образом, существует полная преемственность между теми мыслями, что занимали его в Манресе, и теми, которые мы позже найдем в Конституциях.
К вершине (1535–1540)
Двадцать лет его жизни по окончании учебы (июль 1535 – июль 1556), как кажется, довольно четко подразделяются на два периода, разделенных утверждением Общества 27 сентября 1540 г. и избранием Игнатия на должность генерала в Великий пост 1541 г.: период «евангельской жизни» в Верхней Италии и в самом Риме после путешествия в Испанию; затем, в последние пятнадцать лет, жизнь главы, организатора, законодателя и, прежде всего, отца в разных римских домах нарождающегося Общества.
Первый из этих периодов – еще только подготовительный и переходный[49 - Dudon, S. Ignace… p. 243 ss., 319 ss.; Tacchi Venturi, II, p. 3 ss.; и в особенности H. Rahner, Die Vision des hi. Ignatius in der Kapelle von La Storta, I, ZAM, 10 (1935), p. 21–35, где очень хорошо исследуется состояние души святого перед этим видением.]: в декабре 1535 г. Игнатий прибывает в Венецию и здесь проводит в одиночестве 1536 год, завершая учебу при точно не известных нам обстоятельствах. Его товарищи воссоединяются с ним в январе 1537 г. и, благодаря разрешению, полученному от Павла III в Пасху 1537 г., те, кто еще не стал священнослужителями, 24 июня того же года принимают рукоположение во священство. В качестве подготовки к первой мессе, с конца июля до начала сентября все проводят сорок дней в молитве и покаянии в разных уголках венецианской земли. Совместно проведя несколько недель в Вивароло, невдалеке от Виченцы, его товарищи снова стали заниматься делами милосердия и апостольства в различных городах Верхней Италии, а сам Игнатий вместе с Лаинесом и Фавром в ноябре добирается до Рима. Игнатий был вдохновлен приемом, который оказал ему Папа, и апостольскими успехами членов своего небольшого союза. Срок действия монмартрского обязательства (отправиться на Святую Землю) вскоре должен был истечь в связи с невозможностью отплыть на Святую Землю в 1538 г. Тогда на Пасху святой собирает своих учеников в Риме. Год проходит в плодотворных делах служения, несмотря на разразившуюся бурю нападок на «иньигистов», которая завершилась только в ноябре публичным заявлением губернатора Рима. Во время следующего Великого поста, в 1539 г., движимые, прежде всего, желанием сохранить то благо, которое Бог творит их руками, Игнатий и его товарищи задались вопросом, следует ли им создать постоянную монашескую организацию и, если да, то как. Из их собеседования, протокол которого сохранился[50 - MHSI, Const., I, р. 1–14; cf. р. XXXV ss.], родились решения, которые составят основу «Уложений», документа, который позже одобрит Павел III, сначала устно, затем наконец письменно, буллой 1540 г. Такова была внешняя сторона этих пяти лет. Какой же была внутренняя жизнь Игнатия?
Мы уже видели, что сорок дней молитвенного уединения, которые Игнатий провел с Фавром и Лаинесом в Виченце, а также путешествия того периода были отмечены жизнью в более глубокой молитве и покаянии и новым излиянием небесных милостей[51 - Отец X. Ранер называет эти недели молитвенного уединения «отшельнической идиллией», во время которой будущие апостольские труженики вновь окунаются в жизнь в уединении, молитве, покаянии и бедности, дабы посредством такой жизни подготовиться к осуществлению благодати священства, которую только что обрели. Возникает соблазн задаться вопросом, не в воспоминаниях ли об этом молитвенном уединении Игнатий почерпнул столь оригинальную идею третьего года пробации, наступающего после обучения и рукоположения.]. Несмотря на эту подготовку, святой говорит нам, что «став священником, он решил в течение года не служить Мессу, готовясь <к этому> и моля Богородицу, чтобы она соизволила поместить его рядом с Её Сыном». На самом же деле ждал он еще дольше, ибо мы знаем из его письма, что он совершил свою первую мессу лишь в Рождество 1538 г. в Санта-Мария Маджоре[52 - Epist. S. Ign., I, p. 147; cf. AHSI, I (1932), p. 100–104; Dudon, S. Ignace… p. 344–345; см., прежде всего, P. Leturia, La primera Misa de S. Ignacio… у sus relaciones con la fundacion de la Compania, в Manresa, 13 (1940), p. 63–74. Летурия объясняет отсрочку этой первой мессы желанием Игнатия совершить ее на Святой Земле; таким образом, святой ждал истечения года (отведенного на ожидание) и окончания гонений лета 1538 г., чтобы со своими товарищами отдать себя в распоряжение Папы (Memoriale Фавра, MHSI, Мои. Fabri, р. 498, п. 18); затем он выбрал Рождество и церковь Санта-Мария Маджоре, ad Praesepe (у яслей), чтобы совершить свою первую мессу. См. также недавнюю статью Importancia del ano 1558 en el cumplimiento del “voto de Montmartre”, AHSI, 9 (1940), p. 188–207.]. То было необычное ожидание, которое следует связывать как с глубоким чувством почтения к Божественному Величию, так и с центральным местом, которое занимает месса в его мистической жизни, что станет заметно из его Духовного дневника за 1544 год. Сам он в своей автобиографии связывает эту отсрочку с необычайным даром, ниспосланным ему в 1537 г. в часовне Ла Сторта незадолго до его прибытия в Рим[53 - См. рассуждения Ранера о точном содержании этого видения в Der tatsachliche Verlauf der Vision… ZAM, 10 (1935), p. 124–139: он показывает, что средоточием видения в действительности является Отец, а не Иисус; именно Отен объединяет Игнатия с Иисусом и обещает ему свою благосклонность; Игнатий становится слугой Иисуса и Отца в Иисусе, Который предстает здесь, как и в видениях «Духовного дневника», лишь Посредником Отца; слишком беглое чтение классического рассказа Рибаденейры порой приводит к смещению смысла сцены.]. Главная милость, которая была ему тогда дарована и которую он упоминает особо, состояла в следующем: он «почувствовал такую перемену в своей душе и настолько ясно увидел, как Бог Отец поместил его рядом со Христом, Своим Сыном, что у него не хватило духа усомниться в этом: да, Бог Отец поместил его рядом со Своим Сыном!» Таким образом, именно эта связь с Сыном, с Иисусом, дарованная ему Отцом, осталась для Игнатия главной деталью этого знаменитого видения, а не другие подробности, которые сообщали его товарищи на основании его собственных рассказов Фавру и Лаинесу: видение Иисуса под тяжестью креста и обещание помощи.
Как ясно показал о. Ранер, то, в чем так настоятельно просил Игнатий заступничества Марии и что дарует ему Отец, не оставляя места для сомнений и преображая его душу, есть та же милость, что служит предметом трех бесед в конце размышлений «О двух хоругвях». Это милость быть принятым под знамя Христа и вместе с Ним сносить нищету и оскорбления. Видение в Ла Сторте есть, прежде всего, мистический ответ на эту молитву: в жизни святого она представляет собой эпизод, подобный обручению св. Екатерины Сиенской. Только что Игнатия связала со Христом благодать священства. К этим узам Отец прибавляет еще одни, которые навсегда свяжут его и его товарищей с нищей и распятой жизнью Того, Кто на новом основании станет их Главою. Теперь легко объяснить, как связано с этим видением твердая решимость Игнатия назвать орден «Обществом Иисуса»: он и его собратья стали общниками Иисуса не просто усилием собственной воли, решив следовать Ему во всем, но по воле и под действием Небесного Отца. Мы видели, что отправным пунктом для всей внутренней жизни Игнатия послужила эта идея возвышенного (insigne) служения Богу; в Ла Сторте Бог Отец утверждает эту установку теми словами, которые передает Лаинес, рассказывая об этом видении римским отцам в 1559 г.:[54 - Текст этого рассказа был опубликован о. Танки Вентури (Tacchi Venturi) по заметкам слушателей, Storia… I, р. 586, а вслед за ним – в Scr. de S. Ign., II, p. 75.] «Я желаю, чтобы Ты взял этого человека Себе в слуги», – говорит Отец Иисусу, несущему крест. Иисус же, со Своей стороны, прибавляет: «Я хочу, чтобы ты служил Нам». Позже из всех деталей этого видения чаще всего будут вспоминать обещание неустанной защиты, то, которое помещено в верхней части большой фрески в церкви св. Игнатия в Риме: «Ego vobis propitius ero». На самом деле то огромное значение как для истории Общества, так и для жизни самого Игнатия, которое придает этому видению традиция, куда больше оправдано тем, что в нем Бог торжественно задал духовной жизни основателя и его сынов ее особое и окончательное направление, превратив ее в служение Богу со Христом, через Христа, во Христе и подобно Христу.
Именно забота о возможно лучшем служении Богу будет главенствовать и на собеседовании во время Великого поста 1539 г. Все согласны друг с другом в отношении цели: «искать воли Божией соответственно сути нашего призвания»; «во всесожжении предать себя Богу, хвале, чести и славе Которого должно служить всё, что они имеют»; «искать вящего служения Богу». И когда, после долгих молитв и рассуждений, Игнатий и его товарищи принимают решение дать обет послушания одному из них как настоятелю, решающей причиной им служит возможность тем самым «лучше и вернее следовать во всем воле Божией»[55 - Deliberatio primorum partum, в MHSI, Const., I, p. 2, 13; 2, 25; 5, 30; 7, 2.].
Вершина
В жизни нашего святого воистину значимым стал период с 1540 по 1556 г.; в сущности, он знаменует собою и полную зрелость его святости, вершину его восхождения к Богу, полное осознание его миссии основателя и окончательное исполнение этой миссии. Все прежнее было лишь подготовкой и началом.
Полная зрелость: это время, когда божественной благодати остается лишь добавить последние штрихи к тому благодатному облику, который она терпеливо и властно ваяла уже двадцать лет. Ибо я думаю, что никто не может полагать, будто внутренняя жизнь Игнатия уже с самого начала, со времен Манресы, обладала той полнотой и глубиной, какая будет ей присуща в римские годы. В 1547 г. Лаинес говорит, что он «так заботится о своей совести, что каждый день сравнивает неделю с неделей, месяц с месяцем, день с днем, ища всякий день преуспеяния»[56 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Pontes Narr., I, p. 140.]. Трудно допустить, что во внутренней жизни души, столь верной и ревностной в своем стремлении лучше служить Богу, происходило какое-либо иное развитие, кроме постоянного умножения заслуг.
Одно утверждение святого способно – я знаю – породить сомнения. Мы видели, что в своих признаниях Гонсалвишу да Камаре он завершает рассказ о великом озарении на берегах Кардонера в Манресе утверждением: даже собрав вместе все милости, обретенные им с тех пор, «он не обрёл бы столько, сколько в тот единственный раз»[57 - G. da Сатага, п. 30, Scr. de S. Ign., I, p. 55; Fontes Narr., I, p. 404.]. Значит ли это, что сей дар на Кардонере представляет собой кульминационный пункт внутренней жизни Игнатия? Это сразу можно счесть маловероятным, и представляется, что точный смысл этого признания состоит, скорее, в следующем: никогда в жизни святой не переживал духовного обогащения, сравнимого с тем, какое было ему даровано в этот раз; никогда его разум не обретал сразу столько света и столь богатых благодатных познаний. Но это ни в коей мере не исключает того, что после этого излияния света, единственного в своем роде на его мистическом пути, он продолжал возрастать на этой стезе излиянного единства с Богом и обретать милости все более возвышенные. Последние уже не переносили его в одно мгновение в новый мир, не открывали перед ним неожиданные горизонты, как в Манресе, но помогали ему глубже проникать в тайны, которыми он с тех пор жил, основательнее, крепче связывая его с тремя божественными Лицами, овладевшими тогда его душой.
Кроме того, святой и сам подтверждает подобное толкование: согласно его рассказам Лаинесу, а позже Рибаденейре, «то, что он обрел в Манресе, было мало в сравнении с тем, что он обретал сейчас», «то были только азы и упражнения послушника, но совершенно иным было [нынешнее] ощущение милостей в его душе; все прежнее было лишь наброском и вступлением»[58 - Лаинес (lainez) в своем письме от 1547 г., Scr. de S. Ign., I, p. 127; Fontes Narr., I, p. 140; de Actis, n. 40, Scr., I, 353: …Semperse longiusprogressum etardentioribusstudiis inflammatum reperiebat, ut statum ilium suum Manresae habitum, ubi mirabiliter a Deo fuit illustratus, quamque suam primitivam eccleiam studiorum tempore solitus erat apellare, extrema iam aetate Romae agens, prima fuisse rudimenta et sui novitiates tyrocinia decree поп dubitaverit, longeque aliam esse eorum animo suo formam impressam, quam ipse antea alumbraverat et veluti inchoaverat. Ipsemet Patri Laynez ego ex Patre Laynez aliquoties audivi («…непрестанно возрастал, воспламеняясь все более ревностными стремлениями, так что в студенческие годы имел обыкновение называть свое состояние в Манресе, где был чудесным образом просвещен Богом, своей “Ранней Церковью”, но в свои поздние римские годы без колебаний называл это состояние началами и азами своего новициата, а позже в душе его запечатлелся совсем иной образ, который сам он прежде только набрасывал и намечал. Он сам поведал об этом отцу Лаинесу, а от отца Лаинеса несколько раз слышал об этом я»). Эта последняя строка была затем вычеркнута и заменена словами: Ipse mihi – «он сам рассказал мне», – возможно, рукой самого Рибаденейры.]. В другом месте Рибаденейра сообщает со слов Кристобаля де Мадрида и Лаинеса, что «когда его спросили в 1554 или 1555 г., когда у него было больше всего божественных посещений, то он ответил, что в начале, но чем дальше он шел, тем больше было у него ясности, твердости и постоянства в вещах божественных»[59 - Dicta et facta, п. 48, ibid., p. 403.].
Наконец, завершая свои признания Гонсалвишу да Камаре, Игнатий возвращается к общей картине своей жизни: «<Говорил он> также, что нанёс немало оскорблений нашему Господу после того, как начал служить Ему, однако никогда не потакал смертному греху; напротив, он всегда возрастал в благоговении, id est, в способности встретиться с Богом, причём ныне – больше, чем когда-либо в своей жизни. И всякий раз, в любое время, когда он хотел встретиться с Богом, он с Ним встречался. И ныне его посещает множество видений, особенно таких, о которых сказано выше, <при которых он> видит Христа как Солнце. Это часто случалось с ним, когда он шёл, беседуя о важных вещах, и <такие видения> расценивались им как подтверждение <его правоты>. Когда он служил Мессу, его тоже посещало множество видений…»[60 - G. da Camara, n. 99–100, p. 97. Fontes Narr, I, p. 504; см. также P. Leturia, La primera misa de S. Ignacio… Manresa, 13 (1940), p. 66 ss., где тщательно анализируется переход от идеи паломничества к идее основания ордена.]. Трудно истолковать этот текст, где взвешено каждое слово, иначе, как взгляд на внутреннюю жизнь святого теперь, в 1555 г., как на вершину его восхождения к Богу в этой жизни.
Полная зрелость, а также полное осознание своей миссии основателя. Представляется, что неверно истолкованное да Камарой признание Игнатия лежит в основе утверждений тех историков, которые уверяют нас, будто еще в Манресе, одновременно с великими размышлениями Упражнений «О Царе Небесном» и «О двух хоругвях», Игнатий полностью придумал план будущего Общества, которому предстояло родиться двадцать лет спустя. И свидетельства самого Игнатия в его автобиографии, и свидетельства Поланко и других очевидцев первых лет Общества, и прежде всего совокупность недавно опубликованных документов собеседования 1539 г. и подготовки «Уложений» и Конституций показывают, что «в момент их встречи в Риме весной 1538 г. никто из иньигистов еще не думал о создании нового ордена»[61 - Dudon, S. Ignace… p. 345 ss.; cf. note 10, p. 622–626.]. И лишь теперь маленькая группа товарищей, маленькое «Общество»[62 - Они уже взяли это название, простой синоним слова «группа»; в конце 1538 г. Игнатий упоминает «троих из общества», «двоих из общества» (tres de la compania, dos de la compania) в письмах Диего де Гувейе и Исабель Росер (Epist. S. Ign., I, p. 132, 138).] задается вопросом об основании нового ордена, нового общества «реформированных священников» (уставных клириков), подобного тем, что были основаны св. Гаэтаном и св. Антонио Заккариа и одобрены Святым престолом в 1524 и 1533 гг. С утверждением «Уложений» Павлом III в 1540 г., с избранием Игнатия на пост генерала и первыми торжественными обетами в храме св. Павла «за стенами» 22 апреля 1541 г. все важнейшие черты новой семьи монашествующих были уже определены. Определена была и роль святого в последующие пятнадцать лет, роль, которая изменит внешние обстоятельства его жизни, всецело посвященной теперь миссии основателя и организатора. Какова теперь его внутренняя жизнь – жизнь основателя, всецело сознающего свою миссию?
Какова бы ни была важность предшествующих периодов его жизни, именно эти пятнадцать лет станут решающими для духовности Общества; именно духовный опыт этих лет сыграет определяющую роль в формировании отличительных особенностей иезуитской духовности. Об этих личных переживаниях Игнатия мы знаем в основном из двух источников: это слова его товарищей о том, что они наблюдали в нем в те времена или узнавали из его признаний, и то, что он сам писал в духовном дневнике со 2 февраля 1544 г. по 27 февраля 1545 г. Этот отрывок духовного дневника чудесным образом избежал уничтожения и был впервые полностью опубликован в томе 1 критического издания Конституций[63 - MHSI, Const., I (Rome, 1934), p. 86–138; cf. Prolegomena, p. XCV–CXX et p. CCXXXIX–CCLII, где дано подробное описание рукописи. Издание, осуществленное в 1892 г. о. де Торре в Мадриде (Constitutiones S.I. lat. ethisp., p. 349–363), воспроизводит только те части дневника, которые написаны чисто, и опускает простые пометки и сокращения. Именно этот текст опубликовал о. А. Федер в Регенсбурге в 1922 г. в прекрасном переводе на немецкий язык (Aus dem geitlichen Tagebuch des hi. Ign.). Совершенно очевидно, что рукопись Игнатия представляет собой всего лишь фрагмент: говоря об озарениях, которые он записывал во время составления «Конституций», Игнатий показал Гонсалвишу да Камаре ип fasce assai grande di scritture – «толстенную кипу записей», – которые он ему частично зачитал, не пожелав «оставить мне ненадолго», как просил да Камара (п. 100, р. 97; Fontes Narr., I, p. 504); наши 25 листов не могут сами по себе составлять все содержимое «толстенной кипы».].
Этот фрагмент дневника состоит из двух тетрадей, из 12 и 13 листов, полностью исписанных рукой св. Игнатия и соседствующих сегодня со старинным итальянским переводом под красивым переплетом XVIII в., хранящимся в Архивах Общества. Первая тетрадь охватывает период со 2 февраля по 12 марта. Она с одержит довольно длинные заметки за те сорок дней, когда святой пред лицом Божиим решал, следует ли Обществу отказаться от всякого рода доходов, даже на содержание церквей. Вторая тетрадь охватывает период с 13 марта по 27 февраля следующего года. Уже в самом начале заметки становятся короче, а начиная с мая месяца сводятся к нескольким словам, записанным полностью или же при помощи алгебраических значков, которые появляются в этой тетради начиная со второго дня. Любопытно, что в Национальной библиотеке Мадрида имеется отдельный листок, также собственноручно исписанный Игнатием, куда святой переписал часть собственных заметок из дневника за 18–27 февраля, а именно те места, которые он обвел чернильной линией в первой тетради. Этот листок, помеченный цифрой 2 и обрывающийся на середине фразы, представлял собой, таким образом, часть целого, включавшего, по меньшей мере, три листа. Они были, как кажется, написаны Игнатием для того, чтобы всегда иметь под рукой важнейшие отрывки дневниковых записей. Это типичная черта, которая показывает, сколь большое значение для его личной жизни имели эти заметки, явно предназначенные для него одного[64 - MHSI, Const., I, p. XCVI–XCVII. Издатель, о. А. Кодина, заключил на основании наличия этого резюме, что св. Игнатий, ограничиваясь во второй тетради краткими пометками, стремился к тому, чтобы ему легче было находить те из обретенных милостей, которые он считал важнейшими.].
Из сочинений очевидцев этого последнего периода жизни Игнатия на первое место, с интересующей нас здесь точки зрения, следует поставить две серии заметок Рибаденейры и «Мемориал» Гонсалвиша да Камары, который был министром Игнатия в римском доме обетников с сентября 1554 по октябрь 1555 г. и потому видел его постоянно: изо дня в день он записывал в записной книжке полученные распоряжения, сделанные наблюдения, услышанные слова. Позднее, в Эворе в 1573 г., он проиллюстрировал эту записную книжку очень интересными разъяснениями, которые все же не представляют для нас такой ценности, как его повседневные заметки: последние, в сущности, представляют собой непосредственное отражение духовной жизни Игнатия через десять лет после дневника, незадолго до его смерти 31 июля 1556 г.[65 - Scr. de S. Ign., I, p. 153–366; Pontes Narr., I, p. 508–752. Заметки в этой записной книжке сделаны на испанском языке, а последующий комментарий дан на португальском; заметки делались с 26 февраля по 18 октября 1555 г., однако с многочисленными перерывами.]
Обращение
Св. Игнатий пережил обращение, причем в 1521 г., когда он перешел от мирской к жизни к жизни всецело христианской, к жизни в благочестии и святости, он был уже зрелым человеком примерно тридцати лет, почти как св. Августин во время своего обращения. Но если оба этих обращенных схожи друг с другом многими чертами характера: подвижным и пылким темпераментом, удивительной силой размышления и самонаблюдения, – то начисто непохожи друг на друга отправной точкой своего восхождения к святости. Августин – теоретик, утонченный мыслитель, страстно увлеченный высокими вопросами философии и религии, давно привычный к самонаблюдению и напряженной внутренней жизни, окруженный друзьями и товарищами, которые будут сопровождать его на пути возвращения к Богу. Игнатий – человек действия, лишенный подлинной интеллектуальной культуры, не знающий, в сущности, никаких тонкостей, кроме изысков двора и рыцарской галантности. Это необычайно храбрый и решительный офицер, убежденный и непоколебимый христианин, верный и доблестный, уже обладающий выдающимся даром инициативы и руководства, но в то же время человек гордый и чувственный, честолюбивый и вспыльчивый. Его секретарь Поланко скажет о нем: «Будучи весьма привязанным к вере, он все-таки не жил согласно своим верованиям и не избегал греха; особенно же неразборчив он был в игре, в связях с женщинами и в дуэлях»[13 - Chron., I, р. 13; Лаинес, со своей стороны, заметит (Scr. de S. Ign., I, p. 101; Forties Narr., I, p. 76), что в молодости Игнатий дал «победить себя греху плоти».]. В 1515 г. Игнатия и его брата Перо Лопеса преследовал в судебном порядке коррехидор Аспейтии за «тяжкие» правонарушения, совершенные во время карнавала, под покровом ночи и предумышленно[14 - Scr. de S. Ign., I, p. 587; на с. 565–587 можно найти фрагменты этого судебного дела; о мирской жизни Игнатия см., прежде всего, Dudon, S. Ignace… p. 27 ss. и Leturia, Elgentilhombre… p. 70 ss.].
Что до духовного влияния, которое он испытал на себе в этот период, то указывалось на возможность и даже вероятность такого влияния со стороны Марии де Гевары во время службы святого в Аревало в качестве пажа казначея Кастилии. Но ничто не свидетельствует о том, что советы этой благочестивой женщины глубоко впечатляли Игнатия, который оставался «человеком, озабоченным собственной привлекательностью, охотником угождать дамам, смелым в галантных делах и щепетильным в делах чести, не боящимся ничего, ни во что не ставящим ни свою собственную жизнь, ни чужую, готовым на любые подвиги, даже на пустую демонстрацию силы. И если мечты его и наполняет некий идеал, то это идеал рыцарских романов, чтение которых очень занимает его»[15 - Dudon, S. Ignace… p. 27.]. Тем не менее не нужно забывать, что в этих рыцарских романах, об Амадисе и других, как и у поэтов cancionero[16 - Песенников. – Прим. пер.], чьи строфы он, должно быть, часто слышал и читал, также присутствуют религиозные мысли, мысли, которые не могли не оставить следа в уме и сердце Иньиго, как не мог он позабыть и многочисленные скиты и маленькие святилища вокруг Лойолы[17 - Leturia, El gentilhombre… p. 54 ss.; cf. p. 12 ss.]. Но ничто не говорит о том, что в то время у него была настоящая духовная жизнь[18 - Рибаденейра (Ribadeneira, De actis P. N. Ign. (далее de Actis), n. 8, Scr. de S. Ign., I, p. 340) сообщает как бы со слов самого Игнатия, что в молодости его якобы посетило сильное «желание поискать пустынное место и укрыться в полном одиночестве» (desideriis eremum petendi et abdendi se in inviam solitudinem); но то было никоим образом не желание служить Богу; то было желание избежать стыда из-за мучительной болезни носовой полости, порождавшей невыносимый смрад; когда врачи оставили попытки вылечить Игнатия, он в конце концов исцелился сам.]. И только вынужденный досуг, на который обрекла его долгая болезнь после ранения в Памплоне (12 мая 1521 г.), заставил его волей-неволей углубиться в себя и таким образом погрузиться в эту внутреннюю жизнь, даром каковой он был, впрочем, очень богато наделен.
Не стоит останавливаться на внешних обстоятельствах этого поворота: на мучительной транспортировке его в Лойолу несколько дней спустя после сражения; на ухудшении его состояния после хирургических истязаний; на последнем причастии в канун дня св. Петра и на последующем нежданном выздоровлении; на новой операции, призванной выправить деформацию раненой ноги; на длительном исцелении, когда чтение и размышление привели его к обращению[19 - Об обстоятельствах его ранения и исцеления см. Dudon, S. Ignace… p. 47–56, и прежде всего Leturia, El gentilhombre… p. 110–133.]. Каковы были мотивы и значение последнего?
Двумя сочинениями, которые, за отсутствием рыцарских романов, попали в руки раненого, были, как мы знаем с его собственных слов, «Жизнь Христа и книга житий святых на народном языке»[20 - G. da Camara, n. 6, p. 40. Pontes Narr., I, p. 370. Так я обозначаю автобиографию, продиктованную самим Игнатием в 1553 г. о. Л. Гонсалвишу да Камаре и опубликованную в MHSI, Scr. de S. Ign., I, p. 31–98, и в новом издании Pontes Narr., I, p. 323–507. Что до идентификации этих двух книг, то о. А. Кодина (A. Codina, Los origenes… p. 220 ss.) убедительно показал, что первая была переводом Монтесиноса, чьи Canciones («Песни») были, несомненно, знакомы Игнатию и чье важное предисловие он, должно быть, с интересом прочел; о. Летурия (Leturia, El gentilhombre… p. 141–147), подытоживая свои статьи 1926–1928 гг. в журнале «Manresa», показывает, что жития святых были, определенно, переводом труда Якова Ворагинского, принадлежащим, почти несомненно, Рауберто Вагаду. Сопоставления предисловия Гауберто и идей Игнатия, как мне кажется, служат столь веским доводом в пользу этой точки зрения, что почти полностью исключают всякие сомнения.], то есть перевод «Жизни Христа» Лудольфа Картузианца, выполненный Амбросио Монтесиносом, и кастильский перевод «Цвета святых» (Flos Sanctorum), житий святых Якова Ворагинского, почти несомненно тот, который сопровождался предисловием и дополнениями фрая Гауберто Вагада и был издан в Сарагосе в неизвестное время и перепечатан в Толедо в 1511 г. Как кажется, главным образом именно этот, последний, труд поначалу влиял на Игнатия, что можно легко объяснить тем, что эти разнообразные рассказы, полные часто необычайных, подчас даже романтичных приключений, привлекали его, должно быть, куда больше, чем аскетические размышления Лудольфа Картузианца.
Первым шагом на этом новом пути стал для больного растущий интерес к этому чтению и подсказанные им размышления, которые стали чередоваться в нем с мирскими мечтами и доставляли удовольствие его богатому воображению. В самом деле, как сам он говорит нам, он проводил по «два, три и четыре часа», воображая себе, «что? сделал бы, служа некой сеньоре; представлял себе те средства, к которым прибегнул бы, чтобы отправиться туда, где она находилась; остроты и слова, которые он ей сказал бы, а также ратные подвиги, которые совершил бы ради служения ей»[21 - G. da Camara, п. 6. Scr. de S. Ign., I, p. 40; Pontes Narr, I, p. 370.].
На фоне этих возвышенных дел, этого мирского рыцарства и служения, «Цвет святых» (Flos Sanctorum) открывает ему подвиги, рыцарство и служение иного порядка, которые, в свете его неизменно живой веры, не могут не представляться ему еще более возвышенными и благородными и тем самым начинают давать новую пищу его размышлениям и фантазиям: теперь он думает о том, «чтобы пойти в Иерусалим босиком, питаться одними травами и совершать все прочие подвиги покаяния, которые, как он увидел, совершали святые», делать то, что делали св. Доминик, св. Франциск и тот легендарный св. Онуфрий, чье жизнеописание, как кажется, особенно его привлекало и чьим подвигам он стремился подражать ради Бога[22 - Leturia, El gentilhombre… p. 150–158; св. Франциск и св. Доминик упомянуты в автобиографии; св. Онуфрий – в неизданном тексте о. Надаля (с. 154), что подкрепляется многочисленными параллелями между легендой об этом святом у Вагада и отдельными подробностями покаянных дел самого Игнатия.].
Не что иное, как пролог Гауберто Вагада, направил размышления читателя в это русло, подчеркивая возвышенные деяния тех, кого Вагад называет «caballeros de Dios» – «рыцари Божии», – величественные подвиги святых основателей, чью религиозную и просветительскую деятельность он вспоминает на страницах своей книги, открывая тем самым взору Игнатия неожиданные перспективы славного служения. Но прежде всего, в самом центре всех этих восхитительных людей, фрай Гауберто изображал несравненного Вождя, за Чьим «знаменем, вечно победным», следуют все эти рыцари Божии, «вечного Князя Иисуса Христа», Чья «удивительная» жизнь и страсти открывали том «Цвета святых» и сопровождались пространными объяснениями и размышлениями в переводе Лудольфа, сделанном Монтесиносом.
Святой замечает также[23 - G. da Catra, п. 8. Scr. de S. Ign., I, p. 41; Pontes Narr., I, p. 372.], что его мирские размышления в то время услаждали его, пока он им предавался, но потом он чувствовал «скуку и недовольство»; когда же он, напротив, воображал себя соперничающим со святыми в служении Христу, то утешался не только тогда, когда на этих мыслях задерживался, но даже и после оставался «доволен и радостен». Поначалу, добавляет он, он не обращал внимания на эту разницу; но «однажды у него немного открылись глаза, и тогда он стал удивляться этому разнообразию и размышлять о нём». Это послужит отправной точкой для его наблюдений на предмет различения духов.
Между тем он часто и подолгу смотрел «на небо и на звёзды <…>, ибо благодаря этому чувствовал величайшее стремление служить нашему Господу»[24 - Ibid., 11. Scr. de S. Ign., I, p. 43; Pontes Narr., I, p. 376.]. Это служение тогда состояло для него в том, чтобы пойти босиком в Иерусалим и жить в непрестанном покаянии. Его посетила мысль удалиться в далекий картузианский монастырь, где бы его никто не знал, но он опасался, что это воспрепятствует его стремлению к великим делам покаяния…[25 - Ibid., 12. Scr. de S. Ign., I, p. 43; Pontes Narr, I, p. 382.]
Видение Богоматери, которое, если судить по его плодам, было «делом Божиим», оставляет новообращенного с таким отвращением к его прошлой жизни, в особенности к делам плоти, что ему кажется, будто все воспоминания о них навсегда стерлись из его души[26 - Ibid., 10. Scr. deS. Ign., I, p. 42; Pontes Narr., I, p. 374–376: «С того часа до августа пятьдесят третьего года, когда пишутся эти строки, он ни разу ни в малейшей степени не потакал делам плоти». Именно этот великий дар целомудрия склоняет верить в подлинность видения.].
Таким образом, у истоков его духовной жизни мы находим господствующую идею «возвышенного служения» Христу, Вождю «Божиих рыцарей», размышление и созерцание, которым уделяется значительное место, и самонаблюдение, бдительное внимание к тому, что происходит у него внутри, а также внешне не столь заметную, но решающую роль Марии – черты, которые во многих отношениях останутся отличительными особенностями его духовности.
Манреса
В марте 1522 г. Игнатий покидает Лойолу и отправляется в Мотсеррат и Манресу. Так начнется первый этап его внутренней жизни, который продлится вплоть до его возвращения из Иерусалима в феврале 1524 г. На всем этом этапе в нем преобладает желание вершить великие дела ради Христа и мысли, образующие в Упражнениях размышления «О Царе Небесном» и «О двух хоругвях». И теми великими делами, в которых он хочет подражать св. Франциску или св. Доминику, являются, по крайней мере поначалу, «не столько тонкость и глубина духовной жизни или сила апостольского рвения, сколько бедность, покаяние, самобичевание и посты»[27 - Leturia, El gentilhombre… p. 153; ср. G. da Camara, n. 14. Scr. de S. Ign., I, p. 45; Pontes Narr., I, p. 382: «Все его намерение заключалось лишь в том, чтобы совершить эти великие “внешние” деяния, поскольку их совершали святые во славу Божию»; и он замечает, что с тех пор его побуждали к покаянию не столько воспоминания о грехах, сколько любовь к Богу.]. Как в свое время он не соглашался никому уступать в отваге и верности в служении королю, так теперь он не намерен отставать ни от кого из святых.
И дабы торжественно приступить к своему новому служению, 25 марта в Монтсерате, с головой, еще полной воспоминаний об Амадисе и Эспландиане, он совершит свое бдение над оружием согласно рыцарским традициям. Чтобы скрыться еще дальше, он спешно покидает Монтсеррат и удаляется в Манресу Он намеревался всего лишь провести несколько дней в местном «госпитале» и «занести кое-что в свою книгу, которую он тщательно хранил и в которой черпал немалое утешение». Это была та самая книга, в которую он уже начал записывать в Лойоле наиболее замечательные слова и события жизни Христа и святых. Еще одна черта, которая была свойственна ему всю жизнь, – привычка заботливо записывать мысли и наблюдения, которые могли пригодиться ему или другим.
На самом деле Игнатию предстояло провести в Манресе почти год, с конца марта 1522 г. по февраль 1523 г. Это был период первостепенной важности для его духовной жизни, ибо именно он преобразит новообращенного воина, все еще очень грубого и неотесанного даже в своем стремлении доблестно служить Богу, в подлинно духовного человека, уже опытного учителя, способного наставлять и направлять души; тот же период откроет ему за подвигами покаяния перспективы апостольского служения. Каковы были факторы и этапы этого преображения?
В воспоминаниях, написанных им в 1547 г.[28 - Scr. de S. Ign., I, p. 102; Fontes Narr., I, p. 78.], Лаинес четко разграничивает начальный период в четыре месяца длиной со «многими устными молитвами» и делами покаяния, которые подорвали его крепкое здоровье. «Тогда он не понимал почти ничего в делах Божиих; Бог же помогал ему, поддерживая в нем стойкость и отвагу». Описание этих четырех месяцев соответствует тому, что говорит сам святой о своих первых шагах в Манресе, когда он жил подаянием, постился, умышленно пренебрегал уходом за волосами и ногтями, ходил на мессу и службы, пение которых доставляло ему немалое утешение, посвящал многие часы молитве, пребывая тем самым «почти в одном и том же состоянии духа, испытывая весьма стойкую радость, ничего не ведая о вещах «внутренних», духовных»[29 - G. da Camara, n. 19–20. Scr. de S. Ign., I, p. 48; Fontes Narr., I, p. 388–391.].
Это начало, относительно спокойное в своей строгости, сменяется периодом резкого чередования оставленности и утешения, бурей жестоких сомнений, которые доведут его до искушения совершить самоубийство, и наконец, потоком необычайных милостей, которые сделают его «другим человеком». Сам Игнатий четко различает эти три состояния, но не говорит ничего определенного об их хронологической последовательности, как и об их связи с двумя тяжелыми болезнями, которые он перенес в Манресе; несомненным представляется лишь то, что духовные испытания сменяются великими мистическими милостями[30 - Astrain, I, 43 относит бурю сомнений к августу-октябрю, а поток великих милостей к октябрю-февралю 1523 г.; Facchi Venturi, II, 32 ss. считает, что приступ сомнений начался на исходе четвертого месяца, а великое видение на Кардонере относит к августу. Действительно, при чтении текста Лаинеса (Scr. de S. Ign., I, p. 103; Fontes Narr., I, p. 80) представляется ясным, что это видение произошло сразу по истечении первых шести месяцев и положило начало потоку мистических милостей, но Лаинес сомневается (quando те puedo acordar aver entendido), и непросто примирить сравнение Игнатия, в котором говорится, что Бог наставлял его, как школьный учитель, с утверждением, что это видение посетило его в начале, – видение, когда он, по его собственным словам, обрел больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Посему я склонен видеть в этом видении на Кардонере скорее вершину, чем начало этой череды милостей.].
Сомнения и оставленность его были обычны; более любопытным представляется искушение в форме видения змеи, покрытой блестками, сверкающими, словно глаза. Как кажется, кающийся находил мало помощи, по крайней мере, помощи действенной, у исповедников, к которым ходил каждые восемь дней. В частности, если один исповедник и оказал ему услугу в связи с его сомнениями, заставив его прекратить полный пост, который он хотел продолжать вплоть до их исчезновения, то последнее было все же делом одного лишь Бога, Который пробудил его «как будто ото сна» и внушил ему твердую решимость больше не возвращаться к своему прошлому ни под каким видом[31 - G. da Camara, п. 25. Scr. de S. Ign., p. 52; Fontes Narr, I, p. 398.]. Мы знаем, что он исповедовался канонику коллегиальной церкви, несомненно, также кому-то из приютивших его доминиканцев; возможно, он также вновь виделся с домом Шаноном, который в Монтсеррате выслушал его генеральную исповедь[32 - Ibid., 22, р. 50; Fontes Narr., I, p. 392; cf. Dudon, S. Ignace… p. 81.]; но мы не найдем никакого следа духовного руководства в собственном смысле слова и хоть немного постоянного. Он сам скажет потом Рибаденейре[33 - de Actis, n. 14 (Scr. de S. Ign., I, p. 341).], что, если в два первых года своего обращения он искал бесед с людьми духовными, о которых слышал, то делал это не столько ради пользы, которую мог извлечь из этих бесед, сколько для того, чтобы увидеть, ведет ли их тот же дух, что и его самого; но потом он отказался от этого, сумев найти лишь одного или двух духовных людей, чей дух и образ жизни отвечали его собственным. Таким образом, он с самого начала отдает себе отчет в том, что путь, которым ведет его Бог, – путь особенный, на котором его будут наставлять не столько люди, сколько его собственные переживания и озарения.
В Манресе он будет переживать, главным образом, те чередования и испытания сомнениями и искушениями, о которых мы только что говорили, излишества в делах покаяния с их тягостными последствиями; ежедневные семичасовые молитвы[34 - G. da Camara, n. 23. Scr. de S. Ign., p. 51; Fontes Narr., I, p. 396: siete horas de oration de rodillas; levatandose a media noche continuamente – «продолжал по семь часов молиться на коленях, постоянно поднимаясь с постели в полночь», cf. п. 26, р. 52. – Если автор не распространяется здесь о Духовных упражнениях, то будет говорить о них обстоятельно ниже, в главе III.], участие в литургической жизни; наконец, первый опыт дел милосердия в пользу бедных и больных и даже апостольства, когда, как он нам говорит, «он был занят также помощью в делах духовных неким душам, приходившим, чтобы отыскать его»[35 - Ibid., 26, р. 52; Fontes Narr, I, p. 398.].
Но не столько переживания, сколько озарения приведут его к преображению: «В это время, – рассказывает он да Камаре, – Бог обращался с ним точно так же, как школьный учитель обращается с ребёнком, его наставляя. То ли так было из-за его неотесанности и умственной неповоротливости, то ли потому, что некому было его наставить, то ли из-за данной ему Самим Богом твердой воли служить Ему – только он и в то время, и впоследствии всегда уверенно считал, что Бог обращался с ним именно так. Более того: если бы он усомнился в этом, то подумал бы, что оскорбляет Его Божественное Величие»[36 - Подробности этих милостей приводятся в G. da Camara, п. 27–31, Scr. de S. Ign., I., p. 53–55; Fontes Narr, I, p. 400–406.]. И чтобы дать некоторое представление об этих милостях, он рассказывает об обретенных им озарениях о Троице, о сотворении мира, о евхаристии и о человечестве Христа. Однажды «ум его стал возноситься ввысь, и он словно бы узрел Святейшую Троицу в виде фигуры из трёх клавиш (enfigura de tres teclas)» (п. 28). В другой раз ему «с великой духовной радостью мысленно представилось, как Бог сотворил мир, и казалось ему, что он видит нечто белое, откуда выходило несколько лучей, и что из этого Бог творил свет. Но объяснить этого он не мог и не вполне хорошо помнил те духовные «известия», которые в те времена Бог запечатлел в его душе» (п. 29). В другой день, при вознесении освященной гостии, «он увидел внутренними очами словно бы белые лучи, ниспадавшие сверху. И, хотя спустя столько времени он не может этого толком объяснить, тем не менее то, что он видел мысленно, было, несомненно, тем, как пребывает в этом Святейшем Таинстве Господь наш Иисус Христос» (п. 29). Часто и подолгу во время молитвы «он видел внутренними очами человеческую природу Христа: фигуру, которая представлялась ему белым телом, не слишком большим и не слишком маленьким, но отдельных частей её он не различал. Это он видел в Манресе много раз: если бы сказать «двадцать» или «орок», он не осмелился бы счесть это ложью. Ещё раз он видел это, находясь в Иерусалиме, и ещё раз – в пути, возле Падуи. Богородицу Деву он тоже видел в подобном облике, не различая отдельных частей» (п. 29). Он добавляет, что эти видения так укрепляли его в вере, что он часто говорил: «Если бы не было Писания, которое наставляет нас в этих вопросах веры, то он решился бы умереть за них – уже за одно то, что увидел».
Наконец (п. 30) он рассказывает о великом озарении, обретенном на берегах Кардонера, каковое описывает следующим образом: «…у него стали открываться очи разумения. Не то чтобы ему было какое-то видение, однако он понял и узнал множество вещей – как духовных, так и относящихся к вере и к наукам, – и притом с таким великим озарением, что всё это показалось ему новым <…> ему показалось, будто он стал другим человеком, с другим разумом, нежели прежде. <…> тогда он получил столь великую ясность понимания, что ему кажется: если собрать всю помощь, полученную им от Бога на всём протяжении его жизни, за прошедшие шестьдесят два года, а также всё то, что он познал, и даже если соединить всё это вместе, то он не обрёл бы столько, сколько в тот единственный раз» (п. 30–31).
Какова в точности природа тех милостей, которые описаны в этих строках, продиктованных святым под конец своей жизни в присущем ему осторожном и неровном стиле, в котором ощущается, как вдумчиво он взвешивал каждое слово, прежде чем произнести его? Прежде всего поражают два обстоятельства: очень бедная образность его видений и важность, богатство содержания, которое Игнатий по-прежнему видит в них даже тридцать лет спустя. Это было бы необъяснимо, будь перед нами простые образные видения, пусть даже сверхъестественного происхождения: в таких видениях, в сущности, предмет видения постигается разумом лишь через посредство видимых образов и лишь постольку, поскольку эти образы способны его явить. Однако образы, описанные Игнатием, могли явить ему лишь самые простые истины о Троице и Христе. Все это было бы тем более необъяснимо, если бы мы пожелали видеть в этих образах простые зрительные галлюцинации самого скудного содержания. Посему приходится признать, что со времен Манресы, как мы вновь убедимся позже, милости, обретаемые нашим святым, были на самом деле высокими умственными озарениями, даруемыми Богом непосредственно разуму, а образы, им описанные, – всего лишь отзвуком этих озарений в душе человека, от природы наделенного богатым воображением, однако еще слишком бедным символическими образами, пригодными для такого рода постижений. Мы уже обращали внимание на то, какое место занимает в жизни Игнатия образное размышление, воссоздающее видимые сцены прошлого или рисующее воображению возможные сцены будущего; но совсем другое дело – сила воображения символического, которое, как кажется, было у него очень слабым, бесконечно более слабым, чем у многих других мистиков. Кроме того, сам святой, как кажется, призывает нас к такому пониманию, настойчиво говоря в приведенных текстах об очах разумения, о вознесении ума, о мысленном представлении…[37 - См. статью о. Габриэля св. Марии Магдалины в Etudes Carmelitaines (Octobre 1936), р. 190–200, о видениях св. Терезы, где подобным же образом толкуются образные видения, которые у этой святой следуют за видениями умственными.]
Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо оно показывает нам, что еще в Манресе Игнатий был поставлен на путь высшего излиянного созерцания. Если богословы и мистики единодушно проводят четкое различие между образными видениями и даром излиянного созерцания в собственном смысле слова, то столь же единодушно рассматривают они чисто умственные озарения, особенно о Троице, как признак высокого уровня излиянного созерцания. В случае нашего святого стезя созерцания с самого начала представляется совершенно иной, нежели та, что столь искусно описана великим учителем мистики св. Иоанном Креста, и мы увидим, что все развитие его мистической жизни пойдет совершенно особым путем; но уже в Манресе мы видим его одаренным тем опытным умственным знанием Божественного присутствия в душе, которое составляет необходимый фон излиянного созерцания.
Вторую часть этого первого этапа духовного пути составляет паломничество в Иерусалим. Плодом этого путешествия станет еще более нежная любовь святого к человеческой природе Христа и тайнам его земной жизни, а также, как кажется, возросшее стремление помогать ближнему, что он вознамерился делать на Святой Земле, не открывая этого окружающим. В то же время представляется, что в основных чертах его духовной жизни никаких заметных перемен не происходило: в ней по-прежнему господствовала мысль о молитвенной жизни и выдающихся делах покаяния в служении Христу, Вечному Царю. «Автобиография» ограничивается такого рода идеями и упоминанием нескольких видений Христа, подобных манресским, которые поддерживают паломника в самые трудные моменты путешествия[38 - G. da Сатага, п. 41, 44, 48. Scr. de S. Ign., p. 60, 62, 65; Pontes Nam, I, p. 416, 420, 426.].
Напротив, очень важны были те рассуждения, которым предавался Игнатий на обратном пути в Венецию, с того времени как вынужден был заключить: воля Божия не в том, чтобы он остался в Палестине. О деталях этих рассуждений и об этапах изменения своего идеала он умалчивает; он отмечает лишь итог: «…он всегда ходил, размышляя о том, quid agendum, и в конце концов склонился к тому, что некоторое время ему нужно поучиться, дабы он мог оказывать помощь душам, и решил идти в Барселону»[39 - Ibid., п. 50, р. 66. Fontes Narr., I, р. 430.]. Это решение заняться учебой показывает, что он не намерен больше оказывать помощь душам просто благочестивыми беседами, как он уже делал в Манресе и мечтал делать на Святой Земле; он хочет получить возможность вершить подлинное апостольское служение. Отныне первое место среди его занятий займет возвышенное апостольское служение как дело, превосходящее все подвиги покаяния, которым он сможет отличиться среди верных рыцарей Христовых.
Студенческие годы
Так открывается второй период духовной жизни Игнатия, период, который начинается вместе с уроками магистра Ардеволя в Барселоне в 1524 г. и продолжается до отъезда Игнатия из Парижа в Аспейтию в марте 1535 г.: десять лет учебы, чередующейся с апостольством, более или менее активным, в зависимости от времени и обстоятельств, но всегда относительно умеренным. В разговоре с Лаинесом, изложенном им в 1547 г.,[40 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Pontes Narr., I, p. 140.] святой четко отличает этот второй период от предшествующего и последующего: «То, что он обрел в Манресе, сказал он, и то, что во времена, когда отвлекся на учебу (en el tiempo de la distraction de su estudio), имел обыкновение превозносить (magnificar) и называть своей ранней Церковью, было очень мало в сравнении с тем, что переживал он теперь». Теперь – значит в момент разговора, то есть между 1537 и 1547 г. Таким образом, великому изобилию даров в Манресе приходит на смену период «отвлечения на учебу», который, в свою очередь, уступает место еще более великим милостям. То же разграничение этих трех периодов можно найти в «Автобиографии»[41 - G. da Camara, n. 95. Scr. de S. Ign., I, p. 94; Pontes Narr., I, p. 494.], там, где Игнатий говорит, как он был в Виченце во время своего рукоположения во священство в 1537 г.: «…его посещало много духовных видений и он много раз (почти регулярно) испытывал утешение – в противоположность тому, как было в Париже. Особенно тогда, когда он начал готовиться стать священником в Венеции, когда готовился служить первую Мессу, <а также> во всех этих путешествиях он пережил великие сверхъестественные “посещения” того рода, которые он обычно переживал, находясь в Манресе». Рибаденейра, со своей стороны[42 - Dicta el facta, п. 10, Scr. de S. Ign., I, p. 395.], сообщает, что во время учебы Игнатий всецело предавался занятиям, довольствуясь посещением мессы и короткой молитвой (con oyr missa у роса oratiоn).
Как понимать это «отвлечение» во времена учебы? Прежде всего, ясно, что, если вспомнить о его семичасовой молитве в Манресе, то «краткую молитву» в Париже можно толковать как понятие довольно растяжимое. Что до двух лет, что он провел в Барселоне, то Хуан Паскуаль, который спал тогда в той же комнате, что и святой, свидетельствует нам о его долгих ночных молитвах, прерываемых слезами, вздохами и восторгами[43 - Scr. de S. Ign., II, p. 78–79 et 90; cf. p. 632–634.]; дочь Хуана также будет говорить о его восторгах во время трапез при виде изображения Тайной вечери[44 - Ibid, p. 640.]. Мы не располагаем прямыми свидетельствами о его пребывании в Алькале и Саламанке, но детали свидетельских показаний, представленных в ходе двух судебных процессов в Алькале, в 1526 и 1527 гг., говорят о том, что Игнатий много занимался преподаванием Духовных упражнений и наставлением ближних в благочестии, вместе с ними предаваясь многочисленным делам молитвы и покаяния. Таким образом, как явно подсказывает нам сам святой в своей беседе с да Камарой, этот период его проживания в Париже мы должны рассматривать собственно как время учебы, отличное от двух других периодов.
К сожалению, у нас нет никаких точных данных о том, какова была внутренняя жизнь Игнатия в эти семь лет, с февраля 1528 г. по март 1535. Мы знаем лишь, по эпизоду его путешествия в Руан[45 - G. da Camara, n. 79, Scr. de S. Ign., I, p. 83; Pontes Narr, I, p. 470.], совершенного пешком, без еды и питья, что он не отказывался, по меньшей мере в крайних случаях, от святых безумств Манресы и что Бог вознаграждал его великими утешениями; не отказывался он – мы это знаем – и отдел милосердия и апостольства, предаваясь им в разной мере в зависимости от времени[46 - О его жизни в Париже см. Dudon, S. Ignace… с. 9, р. 179 ss.; Игнатий получил степень магистра искусств 13 марта 1533 г. (р. 192).]. Но мы не знаем, какова была тогда его молитва – та, которую он ограничивает во времени, – и какие сокровенные мысли больше всего занимали его душу и руководили его поступками.
Поскольку Игнатий был человеком очень наблюдательным и вдумчивым, уже пережитой апостольский опыт, происшествия в Алькале и странное поведение некоторых женщин, которых он наставлял в этом городе, знакомство, пусть весьма несовершенное, с испанским и французским гуманизмом, с зарождающимся протестантизмом, занятия философией и богословием не могли не оказать глубокого влияния на ход его духовной жизни, однако подробности этой внутренней перемены полностью от нас сокрыты. И только позже мы сможем попытаться распознать некоторые плоды этого влияния.
Однако можно с уверенностью сказать, что «отвлечение», о котором говорит святой, ничто не позволяет толковать как «расслабление»; напротив, все, что мы знаем о его внешней жизни в этот период, заставляет нас предполагать, что это было время великого интеллектуального обогащения, хотя и в совершенно иной форме, нежели в Манресе. Также нет никаких причин полагать, что и в молитве он временно лишился излиянных даров и вернулся к простой рассудочной или образной молитве и даже молитве весьма упрощенной; его единение с Богом, должно быть, сохранило тот пассивный характер, который Божий промысел, как кажется, обыкновенно не отнимает у душ воистину верных, однажды им его сообщив. Таким образом, Игнатий по-прежнему остается под водительством особой и великой благодати, которая сохраняет в нем нечто главное – излиянное единство, – но самые яркие и необычные проявления этого божественного действия в его душе уже не таковы, какими были в Манресе и какими снова станут в Италии и в Риме.
Косвенным, но очень точным свидетельством мыслей, привычно вдохновлявших в то время жизнь святого, служит нам письмо от 10 ноября 1532 г. к его барселонской благодетельнице Исабель Росер[47 - Epist. S. Ign., I, p. 83 ss.]. Идея служения и хвалы остается на первом плане: «служение и хвала Его Божественному Величеству» (р. 83); служение Богу; служение Богу и слава Божия, слава Божия и служение Богу (р. 84); болезнь есть благо, ибо она учит «направлять и устремлять свою жизнь к славе Божией и служению» (р. 85), служение же это мы совершаем, сражаясь с миром, воздевая знамя против века сего и снося, по примеру Христа, обиды и оскорбления… (р. 86). В письме того же, 1532, года, которое Игнатий написал своему брату Мартину[48 - Ibid., p. 80.], мы трижды находим на одной и той же странице выражение «служение и восхваление Божие», в сочетании, впрочем, с довольно туманными разъяснениями о порядке дел любви, несомненным отголоском богословских дискуссий в Париже. Таким образом, существует полная преемственность между теми мыслями, что занимали его в Манресе, и теми, которые мы позже найдем в Конституциях.
К вершине (1535–1540)
Двадцать лет его жизни по окончании учебы (июль 1535 – июль 1556), как кажется, довольно четко подразделяются на два периода, разделенных утверждением Общества 27 сентября 1540 г. и избранием Игнатия на должность генерала в Великий пост 1541 г.: период «евангельской жизни» в Верхней Италии и в самом Риме после путешествия в Испанию; затем, в последние пятнадцать лет, жизнь главы, организатора, законодателя и, прежде всего, отца в разных римских домах нарождающегося Общества.
Первый из этих периодов – еще только подготовительный и переходный[49 - Dudon, S. Ignace… p. 243 ss., 319 ss.; Tacchi Venturi, II, p. 3 ss.; и в особенности H. Rahner, Die Vision des hi. Ignatius in der Kapelle von La Storta, I, ZAM, 10 (1935), p. 21–35, где очень хорошо исследуется состояние души святого перед этим видением.]: в декабре 1535 г. Игнатий прибывает в Венецию и здесь проводит в одиночестве 1536 год, завершая учебу при точно не известных нам обстоятельствах. Его товарищи воссоединяются с ним в январе 1537 г. и, благодаря разрешению, полученному от Павла III в Пасху 1537 г., те, кто еще не стал священнослужителями, 24 июня того же года принимают рукоположение во священство. В качестве подготовки к первой мессе, с конца июля до начала сентября все проводят сорок дней в молитве и покаянии в разных уголках венецианской земли. Совместно проведя несколько недель в Вивароло, невдалеке от Виченцы, его товарищи снова стали заниматься делами милосердия и апостольства в различных городах Верхней Италии, а сам Игнатий вместе с Лаинесом и Фавром в ноябре добирается до Рима. Игнатий был вдохновлен приемом, который оказал ему Папа, и апостольскими успехами членов своего небольшого союза. Срок действия монмартрского обязательства (отправиться на Святую Землю) вскоре должен был истечь в связи с невозможностью отплыть на Святую Землю в 1538 г. Тогда на Пасху святой собирает своих учеников в Риме. Год проходит в плодотворных делах служения, несмотря на разразившуюся бурю нападок на «иньигистов», которая завершилась только в ноябре публичным заявлением губернатора Рима. Во время следующего Великого поста, в 1539 г., движимые, прежде всего, желанием сохранить то благо, которое Бог творит их руками, Игнатий и его товарищи задались вопросом, следует ли им создать постоянную монашескую организацию и, если да, то как. Из их собеседования, протокол которого сохранился[50 - MHSI, Const., I, р. 1–14; cf. р. XXXV ss.], родились решения, которые составят основу «Уложений», документа, который позже одобрит Павел III, сначала устно, затем наконец письменно, буллой 1540 г. Такова была внешняя сторона этих пяти лет. Какой же была внутренняя жизнь Игнатия?
Мы уже видели, что сорок дней молитвенного уединения, которые Игнатий провел с Фавром и Лаинесом в Виченце, а также путешествия того периода были отмечены жизнью в более глубокой молитве и покаянии и новым излиянием небесных милостей[51 - Отец X. Ранер называет эти недели молитвенного уединения «отшельнической идиллией», во время которой будущие апостольские труженики вновь окунаются в жизнь в уединении, молитве, покаянии и бедности, дабы посредством такой жизни подготовиться к осуществлению благодати священства, которую только что обрели. Возникает соблазн задаться вопросом, не в воспоминаниях ли об этом молитвенном уединении Игнатий почерпнул столь оригинальную идею третьего года пробации, наступающего после обучения и рукоположения.]. Несмотря на эту подготовку, святой говорит нам, что «став священником, он решил в течение года не служить Мессу, готовясь <к этому> и моля Богородицу, чтобы она соизволила поместить его рядом с Её Сыном». На самом же деле ждал он еще дольше, ибо мы знаем из его письма, что он совершил свою первую мессу лишь в Рождество 1538 г. в Санта-Мария Маджоре[52 - Epist. S. Ign., I, p. 147; cf. AHSI, I (1932), p. 100–104; Dudon, S. Ignace… p. 344–345; см., прежде всего, P. Leturia, La primera Misa de S. Ignacio… у sus relaciones con la fundacion de la Compania, в Manresa, 13 (1940), p. 63–74. Летурия объясняет отсрочку этой первой мессы желанием Игнатия совершить ее на Святой Земле; таким образом, святой ждал истечения года (отведенного на ожидание) и окончания гонений лета 1538 г., чтобы со своими товарищами отдать себя в распоряжение Папы (Memoriale Фавра, MHSI, Мои. Fabri, р. 498, п. 18); затем он выбрал Рождество и церковь Санта-Мария Маджоре, ad Praesepe (у яслей), чтобы совершить свою первую мессу. См. также недавнюю статью Importancia del ano 1558 en el cumplimiento del “voto de Montmartre”, AHSI, 9 (1940), p. 188–207.]. То было необычное ожидание, которое следует связывать как с глубоким чувством почтения к Божественному Величию, так и с центральным местом, которое занимает месса в его мистической жизни, что станет заметно из его Духовного дневника за 1544 год. Сам он в своей автобиографии связывает эту отсрочку с необычайным даром, ниспосланным ему в 1537 г. в часовне Ла Сторта незадолго до его прибытия в Рим[53 - См. рассуждения Ранера о точном содержании этого видения в Der tatsachliche Verlauf der Vision… ZAM, 10 (1935), p. 124–139: он показывает, что средоточием видения в действительности является Отец, а не Иисус; именно Отен объединяет Игнатия с Иисусом и обещает ему свою благосклонность; Игнатий становится слугой Иисуса и Отца в Иисусе, Который предстает здесь, как и в видениях «Духовного дневника», лишь Посредником Отца; слишком беглое чтение классического рассказа Рибаденейры порой приводит к смещению смысла сцены.]. Главная милость, которая была ему тогда дарована и которую он упоминает особо, состояла в следующем: он «почувствовал такую перемену в своей душе и настолько ясно увидел, как Бог Отец поместил его рядом со Христом, Своим Сыном, что у него не хватило духа усомниться в этом: да, Бог Отец поместил его рядом со Своим Сыном!» Таким образом, именно эта связь с Сыном, с Иисусом, дарованная ему Отцом, осталась для Игнатия главной деталью этого знаменитого видения, а не другие подробности, которые сообщали его товарищи на основании его собственных рассказов Фавру и Лаинесу: видение Иисуса под тяжестью креста и обещание помощи.
Как ясно показал о. Ранер, то, в чем так настоятельно просил Игнатий заступничества Марии и что дарует ему Отец, не оставляя места для сомнений и преображая его душу, есть та же милость, что служит предметом трех бесед в конце размышлений «О двух хоругвях». Это милость быть принятым под знамя Христа и вместе с Ним сносить нищету и оскорбления. Видение в Ла Сторте есть, прежде всего, мистический ответ на эту молитву: в жизни святого она представляет собой эпизод, подобный обручению св. Екатерины Сиенской. Только что Игнатия связала со Христом благодать священства. К этим узам Отец прибавляет еще одни, которые навсегда свяжут его и его товарищей с нищей и распятой жизнью Того, Кто на новом основании станет их Главою. Теперь легко объяснить, как связано с этим видением твердая решимость Игнатия назвать орден «Обществом Иисуса»: он и его собратья стали общниками Иисуса не просто усилием собственной воли, решив следовать Ему во всем, но по воле и под действием Небесного Отца. Мы видели, что отправным пунктом для всей внутренней жизни Игнатия послужила эта идея возвышенного (insigne) служения Богу; в Ла Сторте Бог Отец утверждает эту установку теми словами, которые передает Лаинес, рассказывая об этом видении римским отцам в 1559 г.:[54 - Текст этого рассказа был опубликован о. Танки Вентури (Tacchi Venturi) по заметкам слушателей, Storia… I, р. 586, а вслед за ним – в Scr. de S. Ign., II, p. 75.] «Я желаю, чтобы Ты взял этого человека Себе в слуги», – говорит Отец Иисусу, несущему крест. Иисус же, со Своей стороны, прибавляет: «Я хочу, чтобы ты служил Нам». Позже из всех деталей этого видения чаще всего будут вспоминать обещание неустанной защиты, то, которое помещено в верхней части большой фрески в церкви св. Игнатия в Риме: «Ego vobis propitius ero». На самом деле то огромное значение как для истории Общества, так и для жизни самого Игнатия, которое придает этому видению традиция, куда больше оправдано тем, что в нем Бог торжественно задал духовной жизни основателя и его сынов ее особое и окончательное направление, превратив ее в служение Богу со Христом, через Христа, во Христе и подобно Христу.
Именно забота о возможно лучшем служении Богу будет главенствовать и на собеседовании во время Великого поста 1539 г. Все согласны друг с другом в отношении цели: «искать воли Божией соответственно сути нашего призвания»; «во всесожжении предать себя Богу, хвале, чести и славе Которого должно служить всё, что они имеют»; «искать вящего служения Богу». И когда, после долгих молитв и рассуждений, Игнатий и его товарищи принимают решение дать обет послушания одному из них как настоятелю, решающей причиной им служит возможность тем самым «лучше и вернее следовать во всем воле Божией»[55 - Deliberatio primorum partum, в MHSI, Const., I, p. 2, 13; 2, 25; 5, 30; 7, 2.].
Вершина
В жизни нашего святого воистину значимым стал период с 1540 по 1556 г.; в сущности, он знаменует собою и полную зрелость его святости, вершину его восхождения к Богу, полное осознание его миссии основателя и окончательное исполнение этой миссии. Все прежнее было лишь подготовкой и началом.
Полная зрелость: это время, когда божественной благодати остается лишь добавить последние штрихи к тому благодатному облику, который она терпеливо и властно ваяла уже двадцать лет. Ибо я думаю, что никто не может полагать, будто внутренняя жизнь Игнатия уже с самого начала, со времен Манресы, обладала той полнотой и глубиной, какая будет ей присуща в римские годы. В 1547 г. Лаинес говорит, что он «так заботится о своей совести, что каждый день сравнивает неделю с неделей, месяц с месяцем, день с днем, ища всякий день преуспеяния»[56 - Scr. de S. Ign., I, p. 127; Pontes Narr., I, p. 140.]. Трудно допустить, что во внутренней жизни души, столь верной и ревностной в своем стремлении лучше служить Богу, происходило какое-либо иное развитие, кроме постоянного умножения заслуг.
Одно утверждение святого способно – я знаю – породить сомнения. Мы видели, что в своих признаниях Гонсалвишу да Камаре он завершает рассказ о великом озарении на берегах Кардонера в Манресе утверждением: даже собрав вместе все милости, обретенные им с тех пор, «он не обрёл бы столько, сколько в тот единственный раз»[57 - G. da Сатага, п. 30, Scr. de S. Ign., I, p. 55; Fontes Narr., I, p. 404.]. Значит ли это, что сей дар на Кардонере представляет собой кульминационный пункт внутренней жизни Игнатия? Это сразу можно счесть маловероятным, и представляется, что точный смысл этого признания состоит, скорее, в следующем: никогда в жизни святой не переживал духовного обогащения, сравнимого с тем, какое было ему даровано в этот раз; никогда его разум не обретал сразу столько света и столь богатых благодатных познаний. Но это ни в коей мере не исключает того, что после этого излияния света, единственного в своем роде на его мистическом пути, он продолжал возрастать на этой стезе излиянного единства с Богом и обретать милости все более возвышенные. Последние уже не переносили его в одно мгновение в новый мир, не открывали перед ним неожиданные горизонты, как в Манресе, но помогали ему глубже проникать в тайны, которыми он с тех пор жил, основательнее, крепче связывая его с тремя божественными Лицами, овладевшими тогда его душой.
Кроме того, святой и сам подтверждает подобное толкование: согласно его рассказам Лаинесу, а позже Рибаденейре, «то, что он обрел в Манресе, было мало в сравнении с тем, что он обретал сейчас», «то были только азы и упражнения послушника, но совершенно иным было [нынешнее] ощущение милостей в его душе; все прежнее было лишь наброском и вступлением»[58 - Лаинес (lainez) в своем письме от 1547 г., Scr. de S. Ign., I, p. 127; Fontes Narr., I, p. 140; de Actis, n. 40, Scr., I, 353: …Semperse longiusprogressum etardentioribusstudiis inflammatum reperiebat, ut statum ilium suum Manresae habitum, ubi mirabiliter a Deo fuit illustratus, quamque suam primitivam eccleiam studiorum tempore solitus erat apellare, extrema iam aetate Romae agens, prima fuisse rudimenta et sui novitiates tyrocinia decree поп dubitaverit, longeque aliam esse eorum animo suo formam impressam, quam ipse antea alumbraverat et veluti inchoaverat. Ipsemet Patri Laynez ego ex Patre Laynez aliquoties audivi («…непрестанно возрастал, воспламеняясь все более ревностными стремлениями, так что в студенческие годы имел обыкновение называть свое состояние в Манресе, где был чудесным образом просвещен Богом, своей “Ранней Церковью”, но в свои поздние римские годы без колебаний называл это состояние началами и азами своего новициата, а позже в душе его запечатлелся совсем иной образ, который сам он прежде только набрасывал и намечал. Он сам поведал об этом отцу Лаинесу, а от отца Лаинеса несколько раз слышал об этом я»). Эта последняя строка была затем вычеркнута и заменена словами: Ipse mihi – «он сам рассказал мне», – возможно, рукой самого Рибаденейры.]. В другом месте Рибаденейра сообщает со слов Кристобаля де Мадрида и Лаинеса, что «когда его спросили в 1554 или 1555 г., когда у него было больше всего божественных посещений, то он ответил, что в начале, но чем дальше он шел, тем больше было у него ясности, твердости и постоянства в вещах божественных»[59 - Dicta et facta, п. 48, ibid., p. 403.].
Наконец, завершая свои признания Гонсалвишу да Камаре, Игнатий возвращается к общей картине своей жизни: «<Говорил он> также, что нанёс немало оскорблений нашему Господу после того, как начал служить Ему, однако никогда не потакал смертному греху; напротив, он всегда возрастал в благоговении, id est, в способности встретиться с Богом, причём ныне – больше, чем когда-либо в своей жизни. И всякий раз, в любое время, когда он хотел встретиться с Богом, он с Ним встречался. И ныне его посещает множество видений, особенно таких, о которых сказано выше, <при которых он> видит Христа как Солнце. Это часто случалось с ним, когда он шёл, беседуя о важных вещах, и <такие видения> расценивались им как подтверждение <его правоты>. Когда он служил Мессу, его тоже посещало множество видений…»[60 - G. da Camara, n. 99–100, p. 97. Fontes Narr, I, p. 504; см. также P. Leturia, La primera misa de S. Ignacio… Manresa, 13 (1940), p. 66 ss., где тщательно анализируется переход от идеи паломничества к идее основания ордена.]. Трудно истолковать этот текст, где взвешено каждое слово, иначе, как взгляд на внутреннюю жизнь святого теперь, в 1555 г., как на вершину его восхождения к Богу в этой жизни.
Полная зрелость, а также полное осознание своей миссии основателя. Представляется, что неверно истолкованное да Камарой признание Игнатия лежит в основе утверждений тех историков, которые уверяют нас, будто еще в Манресе, одновременно с великими размышлениями Упражнений «О Царе Небесном» и «О двух хоругвях», Игнатий полностью придумал план будущего Общества, которому предстояло родиться двадцать лет спустя. И свидетельства самого Игнатия в его автобиографии, и свидетельства Поланко и других очевидцев первых лет Общества, и прежде всего совокупность недавно опубликованных документов собеседования 1539 г. и подготовки «Уложений» и Конституций показывают, что «в момент их встречи в Риме весной 1538 г. никто из иньигистов еще не думал о создании нового ордена»[61 - Dudon, S. Ignace… p. 345 ss.; cf. note 10, p. 622–626.]. И лишь теперь маленькая группа товарищей, маленькое «Общество»[62 - Они уже взяли это название, простой синоним слова «группа»; в конце 1538 г. Игнатий упоминает «троих из общества», «двоих из общества» (tres de la compania, dos de la compania) в письмах Диего де Гувейе и Исабель Росер (Epist. S. Ign., I, p. 132, 138).] задается вопросом об основании нового ордена, нового общества «реформированных священников» (уставных клириков), подобного тем, что были основаны св. Гаэтаном и св. Антонио Заккариа и одобрены Святым престолом в 1524 и 1533 гг. С утверждением «Уложений» Павлом III в 1540 г., с избранием Игнатия на пост генерала и первыми торжественными обетами в храме св. Павла «за стенами» 22 апреля 1541 г. все важнейшие черты новой семьи монашествующих были уже определены. Определена была и роль святого в последующие пятнадцать лет, роль, которая изменит внешние обстоятельства его жизни, всецело посвященной теперь миссии основателя и организатора. Какова теперь его внутренняя жизнь – жизнь основателя, всецело сознающего свою миссию?
Какова бы ни была важность предшествующих периодов его жизни, именно эти пятнадцать лет станут решающими для духовности Общества; именно духовный опыт этих лет сыграет определяющую роль в формировании отличительных особенностей иезуитской духовности. Об этих личных переживаниях Игнатия мы знаем в основном из двух источников: это слова его товарищей о том, что они наблюдали в нем в те времена или узнавали из его признаний, и то, что он сам писал в духовном дневнике со 2 февраля 1544 г. по 27 февраля 1545 г. Этот отрывок духовного дневника чудесным образом избежал уничтожения и был впервые полностью опубликован в томе 1 критического издания Конституций[63 - MHSI, Const., I (Rome, 1934), p. 86–138; cf. Prolegomena, p. XCV–CXX et p. CCXXXIX–CCLII, где дано подробное описание рукописи. Издание, осуществленное в 1892 г. о. де Торре в Мадриде (Constitutiones S.I. lat. ethisp., p. 349–363), воспроизводит только те части дневника, которые написаны чисто, и опускает простые пометки и сокращения. Именно этот текст опубликовал о. А. Федер в Регенсбурге в 1922 г. в прекрасном переводе на немецкий язык (Aus dem geitlichen Tagebuch des hi. Ign.). Совершенно очевидно, что рукопись Игнатия представляет собой всего лишь фрагмент: говоря об озарениях, которые он записывал во время составления «Конституций», Игнатий показал Гонсалвишу да Камаре ип fasce assai grande di scritture – «толстенную кипу записей», – которые он ему частично зачитал, не пожелав «оставить мне ненадолго», как просил да Камара (п. 100, р. 97; Fontes Narr., I, p. 504); наши 25 листов не могут сами по себе составлять все содержимое «толстенной кипы».].
Этот фрагмент дневника состоит из двух тетрадей, из 12 и 13 листов, полностью исписанных рукой св. Игнатия и соседствующих сегодня со старинным итальянским переводом под красивым переплетом XVIII в., хранящимся в Архивах Общества. Первая тетрадь охватывает период со 2 февраля по 12 марта. Она с одержит довольно длинные заметки за те сорок дней, когда святой пред лицом Божиим решал, следует ли Обществу отказаться от всякого рода доходов, даже на содержание церквей. Вторая тетрадь охватывает период с 13 марта по 27 февраля следующего года. Уже в самом начале заметки становятся короче, а начиная с мая месяца сводятся к нескольким словам, записанным полностью или же при помощи алгебраических значков, которые появляются в этой тетради начиная со второго дня. Любопытно, что в Национальной библиотеке Мадрида имеется отдельный листок, также собственноручно исписанный Игнатием, куда святой переписал часть собственных заметок из дневника за 18–27 февраля, а именно те места, которые он обвел чернильной линией в первой тетради. Этот листок, помеченный цифрой 2 и обрывающийся на середине фразы, представлял собой, таким образом, часть целого, включавшего, по меньшей мере, три листа. Они были, как кажется, написаны Игнатием для того, чтобы всегда иметь под рукой важнейшие отрывки дневниковых записей. Это типичная черта, которая показывает, сколь большое значение для его личной жизни имели эти заметки, явно предназначенные для него одного[64 - MHSI, Const., I, p. XCVI–XCVII. Издатель, о. А. Кодина, заключил на основании наличия этого резюме, что св. Игнатий, ограничиваясь во второй тетради краткими пометками, стремился к тому, чтобы ему легче было находить те из обретенных милостей, которые он считал важнейшими.].
Из сочинений очевидцев этого последнего периода жизни Игнатия на первое место, с интересующей нас здесь точки зрения, следует поставить две серии заметок Рибаденейры и «Мемориал» Гонсалвиша да Камары, который был министром Игнатия в римском доме обетников с сентября 1554 по октябрь 1555 г. и потому видел его постоянно: изо дня в день он записывал в записной книжке полученные распоряжения, сделанные наблюдения, услышанные слова. Позднее, в Эворе в 1573 г., он проиллюстрировал эту записную книжку очень интересными разъяснениями, которые все же не представляют для нас такой ценности, как его повседневные заметки: последние, в сущности, представляют собой непосредственное отражение духовной жизни Игнатия через десять лет после дневника, незадолго до его смерти 31 июля 1556 г.[65 - Scr. de S. Ign., I, p. 153–366; Pontes Narr., I, p. 508–752. Заметки в этой записной книжке сделаны на испанском языке, а последующий комментарий дан на португальском; заметки делались с 26 февраля по 18 октября 1555 г., однако с многочисленными перерывами.]