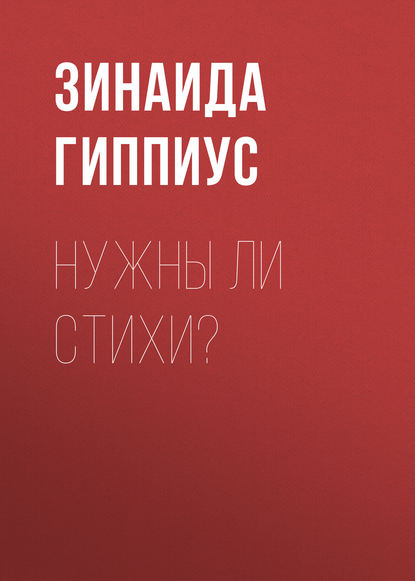По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нужны ли стихи?
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зинаида Николаевна Гиппиус
«Стали все чаще говорить, что хороших стихотворцев нет, плохонькие ударились в декадентство, где ничего попять нельзя, что поэзия вырождается, и даже – что стихи не нужны. С этим последним положением я в некоторой мере согласен. Сборник стихов современного автора действительно не нужен, бесполезен для современного читателя. Причина – отнюдь не то, что наши поэты плохи; одни лучше, другие хуже, есть и совсем хорошие, и совсем плохие; в мою задачу теперь не входит оценка их талантов. Тем более что современные стихотворные сборники и талантливых и бездарных одинаково оказываются не нужны никому…»
Зинаида Гиппиус
Нужны ли стихи?
Стали все чаще говорить, что хороших стихотворцев нет, плохонькие ударились в декадентство, где ничего попять нельзя, что поэзия вырождается, и даже – что стихи не нужны. С этим последним положением я в некоторой мере согласен. Сборник стихов современного автора действительно не нужен, бесполезен для современного читателя. Причина – отнюдь не то, что наши поэты плохи; одни лучше, другие хуже, есть и совсем хорошие, и совсем плохие; в мою задачу теперь не входит оценка их талантов. Тем более что современные стихотворные сборники и талантливых и бездарных одинаково оказываются не нужны никому. Причина, следовательно, лежит не только в авторах, но и в читателях. Причина – время, к которому принадлежат и те и другие, – все наши современники вообще; покорные ему, они покорно принимают от него одинаковую печать.
Печать эта – крайняя, тесная, почти страшная, – субъективность. И современный поэт, утончившись, – обособился, отделился, как человек (и, естественно, как стихотворец) от человека, рядом стоявшего, который тоже ушел в свою сторону. Именно обособился – и перенес центр внимания на свою особенность, поет о ней, так как в ней видит путь, святое своей души. Субъективизм может печалить, – но тут еще нет ничего ни мелкого, ни безнадежного. Опечаленных пусть утешает мысль, что это – «современное», а все современное – временно. Кто знает, – не ведет ли неизбежная одинокая дорога к новому, более полному, общению в грядущем? Но возвращусь к стихам.
Вопреки мнению усталых, злорадно-равнодушных людей, грустно заявляющих, что стихи отжили свой век и вообще более не нужны, – я утверждаю, что стихи необходимы, естественны и вечны. Я считаю естественной и необходимейшей потребностью человеческой природы – молитву. И каждый человек непременно молится или стремится к молитве, – все равно, сознает он это или нет, все равно в какую форму выливается у него молитва и к какому Богу обращена. Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение, словесная музыка в частности – одна из форм, которую принимает в человеческой душе молитва. Поэзия, как определил ее Баратынский, – «есть полное ощущение дайной минуты». Быть может, это определение слишком обще для молитвы, – но как оно близко к ней!
И вот, современный стихописатель, подчиняясь вечному закону человеческой природы, молится – в стихах. Удачны или неудачны стихи, – поэт всегда берет все свое данное «я» данной минуты (таково условие молитвы и поэзии). Виноват ли он, что каждое «я» теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от других «я» и потому для других непонятным, ненужным? Каждому страстно нужна, понятна и дорога его молитва; нужно его стихотворение – отражение мгновенной полноты его сердца. Но не нужно другому, пока его заветное «я» – другое. Это безнадежное одиночество уже смутно сознается многими поэтами, и сознание еще более обособляет их, заставляет замыкаться душу. Чувствуя, что в своих молитвах все равно не сольются ни с кем, они уже слагают их как бы вполголоса, только для себя, намеренными намеками, ясными только себе. Иные в полусознанном отчаянии прикрываются беспечной смелостью, независимостью: «Мне никого не надо. Пусть меня не поймут! Скрытое в моей душе – пусть выльется отрывочными словами; я знаю то, что их соединяет. Пусть образ будет извне крив и дик: в моей душе я сливаю невысказанное с высказанным – и он прекрасен!» Отсюда – путь крайних декадентов, и путь очень покатый и страшный. Всякое желание общения может умереть на дне, всякое желание действительно воплотить, выразить, создать. Всякий голос может иссякнуть; область слов может окончиться. Исчезнет молитва, порыв – исчезнет человек.
Впрочем, тут я говорю о самом дне этого пологого оврага; до дна, кажется, никто еще не докатывался. Тем более что всегда есть мгновенные утешения; всегда есть – или верят, что есть – один, два человека, которые услышат, вспомнят в свой молитвенный час слова поэта и повторят их, как свои. А если нет этих двух-трех – они должны быть! Ведь должно же быть чудо, хотя мы и видим, что его нет.
Благодаря тому, что истинная современная поэзия принимает все более определенный характер молитвы и каждое стихотворение воплощает (или стремится воплотить) ощущение данной минуты, все «свое» святое, – сборник таких стихотворений меньше всего может что-либо дать читателю. Ощущение вылилось – стихотворение кончилось; следующее – следующая минута – уже иная; они разделены временем, жизнью. А читатель тут же перебегает с одной страницы на другую, и смены, скользя, только утомляют глаза и слух.
Было, однако, время, когда стихи принимались и понимались всеми, не утомляли, не раздражали, были нужны всем. И опять не потому, что прежние стихи были хороши, а теперешние дурны. Исчезли не таланты; исчезла возможность общения именно в молитве, общность молитвенного порыва. Когда-то она была. Во все времена стремление к ритму, к музыке речи, к воплощению внутреннего трепета в правильные переливы слов – было связано с устремлением молитвенным, религиозным, потусторонним, – с самым таинственным, глубоким ядром человеческой души. Это и есть печать поэзии, без нее нет ни одного истинного стихотворения, она – условие причастности поэта к поэзии. Неумелые вздохи гимназиста – могут быть истинно поэтичными, и целые томы способных стихослагателей подчас не имеют ничего общего со «стихами». Молитвословиями были и стихи первых наших поэтов, – тех, в свое время понятных, принимаемых, нужных. Был Пушкин. Но он был – и есть, он, кажется, единственный вне времени. Он – всепроникающ и вечен, как солнце, – по как солнце и неподвижен. То, что есть молитвы Пушкина – не утоляет исканий новых поэтов; эти молитвы – не конечная цель их собственных порывов, а может быть, лишь некоторое условие их существования, как солнце – не жизнь, а только условие жизни. Пушкин, будучи вне времени, – стоит зато и вне исторического пути. Но вот Некрасов, – тоже любимый и всем в свое время нужный. Как это случилось? Ведь и его «гражданские» песни были молитвами. Но молитвы эти оказались у него общими с его современниками. Дрожали общие струны. Они замолкли и уже не воскреснут, как молитвословия. Но они широко звучали и были нужны – именно потому, что были общими. А у каждого из теперешних поэтов отдельный, сознанный или не сознанный – но свой Бог, а потому и кажутся такими бездейственными, беспомощными, подчас смешными их одинокие, им лишь и дорогие, молитвы. Из старых поэтов, истинных, нашим современником мог бы быть Тютчев. Когда, кто любил, понимал и знал его странные, лунные гимны, которых он сам стыдился перед другими, записывал на клочках, о которых избегал говорить? Если, наконец, немногие из теперешних, почуя его близость, и сливают сердце с его славословиями, – то как их мало! Да и для каждого Бог Тютчева все-таки не всей полностью его Бог. Один из новых поэтов – Ф. Сологуб – поэт несомненный, глубокий, стройный и цельный; а кому нужны его небольшие, многочисленные книжки? Кто поймет его душой и сольется с ним в молитве – дьяволу, да еще и дьяволу-то необъясненному, таинственному, знаемому только им, самим Сологубом, – и даже, может быть, вовсе и не дьяволу? Видения Бальмонта, беспорядочные чудовища с беспорядочными именами, женщины, которые его как-то неукротимо и непонятно любят, он сам, Бальмонт, Лионель, «светлый бог», его ужасы, легкие и веселые, и не страшные, не отражение ли это «единственного» трепета души – самого автора, и не нужны ли они единственной душе – ему самому? Брюсов смотрит на фавна особыми, своими глазами, говорит об этой минуте, о своем созерцании и полноте его, – а тот, кто не может и не мог бы никогда почувствовать того же самого, – или смеется, или равнодушно отходит. Передать душевное движение чем бы то ни было, словами, звуками, образами – можно только тому, в чьей душе есть хоть малейший зародыш такого же, точно такого же движения. Молиться вместе можно только одному Богу или, по крайней мере, желая найти одного, стремясь к Единому.
Я употреблял слова «современность» и «современный» не столько во внешнем, сколько во внутреннем, значительном и важном смысле слова. Я брал тех, в ком действительно ясна эта движущаяся точка времени. Кто окрашен цветом времени и идет приблизительно на одном уровне сознания. Для времени лишь они одни, лишь это одно и характерно. Есть у нас не только поэты, живущие и пишущие в данный момент истории, но даже начинающие писать, молодые, – и все-таки не современные, а исторические. Времена, когда они могли бы быть нужны, – прошли, и песни их, хотя и понятны, но тоже не нужны. Это поэты некрасовских заветов. Но они и сами поняли, что не нужны, обессиливают, сникают. Молитвы они оставили, а пишут передовые статьи. Другие – тоже не современные, но и не историчные, а чтоб не сказать «вечные» – постоянные. Впрочем, и пошлость называют «вечной». Таковы поэты – коммивояжеры. Во все времена были особые, «коммивояжерские» души. Они отличались необыкновенной легкостью, пустотой воздушности, дешевизной и непереносной (тоже во все века) пошлостью. Душа комми имеет способность наряжаться во всякие одежды, извне, издали, очень современные, – и с первым прыжком их сбрасывает, запылив. Такие души встречаются и у стихосложителей – у поэтов. Да, все-таки у поэтов, потому что ведь и комми-вояжер – молится. Только у него свои, коммивояжерские, молитвы, и обращены они к соответственному богу, – кажется, неизменному. Он один для всех комми-вояжеров, а потому они все, вероятно, друг друга понимают. И стихи их друг другу нужны. Укажу из многих таких поэтов на одного, очень мало известного, – но он сейчас под руками. Это – Макс Волошин. Его «молитвы» были напечатаны в августовской книжке «Нового пути». Так как комми-вояжерские души не редки и у читателей, то молитвы эти, конечно, нашли отклик в соответственных местах, несмотря на всю их «последнюю модность», которая хочет притвориться «современностью» и запугать. Цитировать его подпрыгивающие гимны «кастаньетам» и «стрекозиным красотам» не буду; Бог с ними. Может быть, и они необходимы в строе мироздания. Гораздо более жаль, что существуют, и все выходят, сборники… не поэтов, а людей, пишущих короткими строчками «под поэзию», даже не умеющих и нарядиться в современные одежды, а грубо прикидывающихся поэтами «историческими», с расчетом быть понятными, стать любимыми. Подделка внутреннего ощущения, нарочитое сооружение молитв, все равно ради каких целей – ради ли денег, известности или ради доброго поучения, благотворного влияния – всегда кощунство. Пусть даже цели смутно сознаны, расчет не ясен – это обман, которому нет прощения, воистину грех против духа святого. И роковым образом этот обман падает, расчет почти никогда не удается. Опять возьму из тысячи таких неудачных грешников одного, первого попавшегося: г. Мих. Гербановского с его недавним сборником «Лепестки». Я не сомневаюсь, что душе г. Мих. Гербановского так или иначе не чужда молитва: ведь он – человек. Но молитва его, вероятно, проявляется в каких-либо иных, нам не известных формах. Ни в одной «стихотворной» строке ее нет. Есть лишь подделка – из расчета (пусть бессознательного! мне все равно). Расчетливые люди добиваются разнообразных благ: то теплого местечка в канцелярии, то либерального ордена и поцелуя барышни; чего бы они ни добивались – они все равны между собою, все одинаково – «расчетливые люди». Только средства бывают неблагородные и благородные (если в расчете есть благородство), неблагодарные и благодарные. Стихотворная форма для получения либеральных орденов и дамских восхищений и поцелуев – неблагородное и неблагодарное (особенно в данную минуту) средство. В самом деле, чего достиг г. Мих. Гербановский своими крутыми застарелыми шестистопными ямбами? Он объявил с самого начала, что Муза его научила быть «отважнейшим бойцом». Он, с грубейшими прозаизмами рассказал, как был в театре, смотрел на весь «эффект плеч» и «головок», но вдруг вспомнил, что в деревне «там где-то люди мрут» от голода, и тотчас же «встал и вышел прочь»… Куда именно он «вышел прочь» (?!) – не поется, но подразумевается, что в деревню. Любовные стихи его прожигающи (наслаждаясь любовью, «поэт» не вспоминает о деревне и «прочь не выходит»). И не так, чтобы как-нибудь этак «по-декадентски», а понятно, натурально прожигающи. Я не цитирую, боясь смутить покой случайной провинциалочки. Хорошо, что смущаемых стихотворными суррогатами теперь не много. Даже и тут г. Мих. Гербановский ошибся в расчете, не так понравился, как хотел. Чего же он достиг еще? Его печатают в «Мире Божьем», считая «честным»; напечатают, конечно, и в глубоко невежественном «Образовании»; да в лучшем случае какой-нибудь хорошо опохмелившийся рецензент в «Русской мысли» назовет его лирическим поэтом с «формой, доведенной до совершенства». Но ведь скрыть нельзя, что этому рецензенту глубоко и давно наплевать и на форму и на совершенство, и ничего он в этом не смыслит, и никого не убедит, – так, помажет с похмелья и сам сконфузится. «Мир же Божий» откровенно печатает стихи «на затычку», не уважая стихи за стихи; лишь бы «честно». Результаты трудов по выделке не блестящие. Было бы, пожалуй, практичнее писать либретто к оперетке или составлять кафешантанные песенки, раз уж есть способность выделывать рифмованные строчки.
Возвращаясь к «современности», я должен прибавить в заключение, что и форма стиха, дошедшего было до законченного совершенства, начинает у современных поэтов ломаться, принимать странные, угловатые линии: созвучия иногда неприятны, льющееся пение заменяется отрывочными звуками, ритм делается очень внутренним, едва уловимым. Это – искание своих звуков, соответственных нарождающемуся душевному трепету новой, своей – пока одинокой молитвы. Они ищут, не нашли, – может быть, найдут. Кто-нибудь найдет. Но все-таки это будет несовершенная и никому не нужная молитва – потому что одинокая. Я намеренно не входил здесь в оценку величины и малости тех или других поэтов. Вопрос о силе таланта не имеет значения для тех мыслей, которые я желал высказать. Я думаю, явись теперь, сейчас, в наше трудное, острое время, стихотворец гениальный – он очутился бы тоже один на своей узкой вершине; только зубец его скалы был бы выше – ближе к небу, – и еще невнятнее казалось бы его молитвенное пение. Пока мы все, писатели и читатели, не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся все к Нему, – Единственному, – до тех пор молитвы, – стихи наших поэтов, – живые для каждого из них – будут непонятны и не нужны ни для кого.