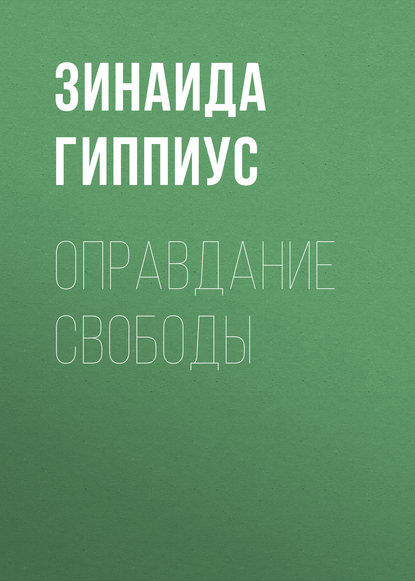По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оправдание Свободы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я отнюдь не отрицаю факта, что послереволюционное время всегда было ужасно; я соглашаюсь с Бердяевым: конкретный смрад русских послереволюционных годов превзошел все, что мы знаем о таких годах в истории. Я соглашаюсь далее, что в этом смраде повинны мы все, не одинаково – но равно, каждый в меру самого себя. И начав считать чужие вины (по-моему – практичнее заниматься своей), мы, пожалуй, найдем, что на Бердяеве лежит вина куда тяжелее, чем на «свободолюбцах», «народолюбцах», «русских просветителях, радикалах, критиках», на всей, им уничтожаемой, русской интеллигенции. Вина, всегда, – по степени сознания. Если степень сознания у русской интеллигенции была ниже, чем у него, Бердяева (а он сам это говорит), то не могу ли я ему напомнить слова, очень к нему, в данном случае, относящиеся: «Кто не видит, тот не имеет греха; а так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
Мне стоит больших усилий высвободить ясное положение из обличительного бердяевского многословия: откровенно сознаюсь, что постоянно в нем вязну. Резюмируем, однако: злая воля русской «безблагодатной» интеллигенции стремилась к революции – для революции, к революции – религии, и эта революция погубила Россию. Так утверждает Бердяев.
Но я утверждаю, что революционный момент (настоящая «революция»), при всей полноте, никогда не бывает самодовлеющим. Революция самодовлеющая, «революция для революции», «революция – религия» – есть в лучшем случае абсурд, в худшем – безумие, так же как свобода: и свобода – лишь от чего-нибудь, для чего-нибудь.
Революция, действительно, есть «окончание старой жизни», но окончание для начала новой. Создает ли революция новую жизнь? Нет, ибо новая жизнь, опять не совершенная, строится во времени, а революция не имеет дления. Но для создания новой жизни революция есть начальное условие – как бы раскрытие дверей в эту жизнь. Лучшую или худшую – другой вопрос. Лучшую или худшую – это зависит уж не от революции, а от строителей, т. е. от людей послереволюционного времени; главным образом от их осознания пережитого момента и сознания громадной опасности периода, непосредственно за революцией следующего.
Почти всегда эти первые строители, «люди революции», – гибли. Не потому, что не чиста была их воля к революции до ее наступления и воля к созданию новой жизни – после. Но воля эта оставалась у них такой же идеалистически-бессознательной и после революции, как была до нее, если, – в худших случаях, – не разлагал эту волю соблазн «власти».
Люди революции никогда еще не были, внутренно, в рост революции, которую переживали.
Прибавлю: о революционном моменте почти ничего нельзя сказать словами, как о многих вещах того же порядка. Рассказать же о нем тому, кто «порядка» не понимает, а сам в моменте не был – совсем невозможно. Однако бывший и не забывший – хотя бы февральско-мартовскую русскую революцию – поймет, о чем я говорю.
Один и тот же луч (не «печать богооставленности», а печать богоприсутствия) лежал на лицах всех людей, преображая лица. И никогда не были люди так вместе: ни раньше, ни после.
Пускай многие, пускай даже все, бывшие тогда вместе, ныне проклинают революцию, и русскую, и французскую, и английскую, – всякую революцию. Это ничего не меняет. Все-таки соединяющий луч лежал на человеческих лицах, все-таки – это было.
Бердяеву, конечно, язык мой непонятен. Бердяев или не прошел опыта, или забыл его. Но Бердяеву я хочу предложить один вопрос, очень конкретный, совсем в ином плане.
Всякая революция, везде и во все времена, – достойна проклятия? Воля к революции – дьявольская воля? Желать революции – грех? Каждой революции должно сказать «нет»?
Ну, а представим себе (это очень представимо), что сегодня, завтра совершается революция в России. Она будет именно такая же, как всякая, во имя свободы и ради новой жизни, против «существующей власти»…, которую Бердяев, согласно со мною, считает реакционнейшей из всех, доныне возникавших, и отлично знает, что никогда большевики «революционерами» не были, да и большевицкой революции – не было.
Что же, скажет Бердяев завтрашней русской революции – «нет»? Проклянет ее? Осудит волю к ней как греховную?
Я сильно подозреваю, что и у Бердяева, где-то в глубине души, таится эта самая, «греховная», воля. Пожалуй, он и не скажет, что грядущая русская революция ему «отвратительна, как всякая революция».
Непоследовательность? Да, но зато шаг вперед по пути истинного религиозного сознания.
III
Отвращение к революции связано у Бердяева с отвращением к демократии, а, главное, к идее равенства, на котором, как он думает, основывается демократия.
Какое же равенство Бердяев разумеет?
У Джерома К. Джерома есть рассказ-утопия о будущем человеческом устройстве, где равенство доведено почти до идеала: вместо имен люди имеют номера (с именем – какое же равенство! Одно имя хуже, другое лучше). Волосы у всех выкрашены в одинаковый черный цвет. Тому, кто родился более умным, – сверлят дырочку в черепе, а более других способному отрубают левую (или правую) руку. Все для равенства, для Уравнения.
На таком «равенстве», по Бердяеву, основана «демократия». Он не раз определяет это равенство: «уравнение всех, нивелировка». Понятно, что и «нивелирующая» демократия является перед Бердяевым в виде некого чудовища – «человекообожествления, где народ довлеет самому себе, где верховное начало – его собственная воля, независимо от ее содержания». Просто – «хочу, чего захочу», а так как «демократическая идеология есть крайний рационализм» и даже «не может признать государства», то легко себе представить, что такое демократия: «В век ее торжества, – объясняет Бердяев, – нет уже святости и гениальности, ибо демократия не благоприятна появлению ярких, творческих личностей» (еще бы! сейчас, по Джерому, дырочку в черепе!) – и даже «старая тирания с кострами инквизиции оставляла больше простора для человеческой индивидуальности».
Действительно, уж лучше костры, чем джеромо-бердяевская демократия и ее проклятая нивелировка!
Но религиозному сознанию нечего делать с этой дикой демократией, порождением такого же дикого равенства. Как «осознавать», да еще религиозно, то, что не имеет ни малейшей связи с реальностью?
Равенства-уравнения не только нет в мировом порядке, но его никогда, нигде и не будет, так как его нет в самой воле человеческой (совпадающей в этом с Божьей).
Еще никто на земле, ни разу, не пожелал подобного равенства. Начиная с первой детской мечты – «хочу открывать новые страны», «хочу быть самым сильным», – наши желания говорят вовсе не о воле к равенству: ведь и ребенок, инстинктивно, знает, что если все будут открывать новые страны и сделаются первыми силачами, то не будет ни новых стран, ни силачей. А одна девочка раз хорошо объяснила, почему «не надо, чтобы все люди были одинаковые»:
– Тогда у всех будет никчемная незамечательность.
Неудачник может сказать в озлоблении: я обездолен – пусть бы и все стали такими же обездоленными! Но и он этого вовсе не хочет – просто хочет сам из своего положения выйти.
Воля человеческая – есть воля к восхождению, и, в существе, раскрывается она как воля всех и каждого достичь maximum'a своей высоты. На религиозном языке это зовется «исполнением своей меры». И не к созданию равенства всех направлены усилия человечества, а к созданию равной для всех возможности свою задачу выполнить.
Но такое равенство – есть равенство-равноценность.
В евангельской притче о талантах, каждому – получившему десять талантов и получившему два, – было сказано равно: «Войди в радость Господина Твоего». Лишь тот, кто зарыл данное ему в землю, не приобрел сам в меру данного, назван «лукавым и неверным». И «тема внешняя» (небытие) вовсе не была ему кем-то послана «в наказание»: нет, ему самому уже нельзя было «войти в радость», ибо сам он, в равных с другими одаренными условиях свободы, не исполнил своей меры; мог – и не захотел.
А равенство-одинаковость… даже темный дух небытия, отвлеченный, но жадно ищущий воплотиться, – прекрасно знает, что мы такого равенства не хотим. Не хотим, не понимаем до невозможности им и соблазниться. Поэтому словом «равенство», как соблазном, темный дух пользуется лишь там, где оно воспринимается и понимается в нужном ему смысле.
В этом смысле поняла его французская угольщица: встретив, тотчас после революции 48-го года, знатную даму с ведром угля в руках, закричала радостно: «А ты шелковые чулки носила (куда ты их припрятала?), а я таскала уголь! Теперь я буду ходить в шелковых чулках, а ты уголь таскать: теперь – равенство!».
Именно так понимается, – физиологически ощущается, – «равенство» и доныне, если оно «соблазняет». Под прикрытием этого слова соблазняет самое страшное из неравенств, – перманентное и перемежающееся: я вверху – ты внизу; ты вверху – я внизу; я ничто – ты все; ты ничто – я все.
Это с большой точностью выражено в «Интернационале»:
«Nous ne sommes rien – soyons tout!»[1 - «Мы никто – станем всем!» (фр.).].
Конечно, кто сегодня кричит «soyons tout» – не знает, что по железной необходимости, за «tout» следует опять «rien»… Но французская угольщица и не может видеть дальше сегодняшнего дня: иначе не соблазнила бы ее маска «равенства»…
Спастись от этой «дурной бесконечности» неравенства утверждением какого-нибудь неравенства – нельзя. И Бердяев просто-напросто обходит французскую угольщицу, – как всякую реальность, – и старается продолжать войну в воздухе. Мы сейчас увидим, к чему это его приводит.
Своей утопической «демократии» (человеко-божеской, не признающей государства и основанной на равенстве, по Джерому) Бердяев противопоставляет свое же «идеальное» общественное устройство. В нем «неравенство» открыто возведено в принцип, взято как исходная точка. Аристократия (меньшинство) управляет демосом (большинством). Демос – есть некий безгласный «коллектив». (Надо заметить, что слово «коллектив», по существу нейтральное, в устах Бердяева имеет отрицательное значение: это нечто вроде герценовской «паюсной икры». Отсюда, должно быть, и утверждение, что «в Царстве Божьем никаких коллективов не будет».)
Между аристократией и демосом, который как «коллектив» голоса или воли естественно не имеет, – разница качественная, т. е. решающая: ведь для Бердяева категории «качества» и «количества» не равноценны. Сделаться «аристократом» нельзя: надо родиться. Рожденный плебеем – всегда им и останется. И, вообще, всякое желанье возвыситься – плебейство.
Пока – нового мало. Мы даже видели некоторые (о, самые несовершенные!) воплощения этих принципов в историческом прошлом. «Не обманывайте себя! – говорит Бердяев, обличая, – везде, всегда правило меньшинство!». И тут нет нового. Если взять это положение формально, то можно даже согласиться, что и впредь, всегда, государственное управление будет принадлежать фактическому меньшинству. Это большевики могли обещать русским кухаркам, что оне все будут править государством, – да и кухарки не верили…
Но не о том речь. Самое неожиданное – религиозная санкция, которую Бердяев дает общественному устройству, основанному на подобных принципах. Утверждает его «религиозно». И это не вчера, не в прошлом, а теперь, сегодня, когда история поставила нас лицом к лицу с наиболее совершенным воплощением этих принципов в реальной жизни…
Бердяев называет современное русское общественно-государственное устройство – «сатанократией». И не видит, на каких основах оно покоится? Это его же, бердяевские, основы. Прежде всего – неравенство (небрежно скрытое под словесным равенством, да теперь уж и не скрытое). Управлять – «врожденное, прирожденное» меньшинство таким же прирожденным большинством, безгласным и безвольным. «Аристократия» и «демос» на своих местах, при тех же функциях. Не оттого же это царство для Бердяева «сатанократия», что перепутаны наименования и зовется оно «пролетарским», а не «аристократическим»? Слова в таких случаях мало значат. Гораздо важнее, что в обоих царствах, в большевицком, и бердяевском, не только утверждается, но и отрицается то же самое: равенство, свобода, демократия, революция… Правда, в «пролетарском» все это отрицается на деле, а не на словах; но ведь и само царство уже «деется», а бердяевское только проектируется…
Знаю, что может возразить мне Бердяев: я говорю о форме, а форма ничто, она определяется содержанием. Две, схожие внешне, формы общественного устройства могут совершенно развиваться друг от друга, даже быть противоположными друг другу, если они не одного и того же духа.
Я о духе не забываю; и, мне кажется, не только формально сближаю два царства – действующее, большевицкое, и мечтаемое, бердяевское – когда говорю, что оба они отрицают дух равенства-равноценности, дух революции… Этим, в связи с отрицанием идеи демократической, они оба отрицают дух свободы – Дух Господен, ибо, напомню Бердяеву, «где дух Господен – там свобода».
Это первое. А второе – о форме.
Отношение к форме, как к чему-то не имеющему значения, определенному содержанием, – религиозно неприемлемо. Форма есть плоть мира, и дух, вновь и вновь воплощаясь, ищет и новых форм. Без этого не было бы в жизни никакого реального творчества. Бердяев, в своей книге, слишком часто прячется от реальностей: «Все, мол, сие нужно понимать духовно». И свободу он признает, но духовную. И аристократию понимает – духовно. Даже восхождение человечества к Царству Божьему склонен мыслить, как только духовное… Но мы не играем в прятки. Или надо сказать себе, что форма, плоть мира – ничто религиозно, служебная, случайная величина: и тогда надо отречься от мира. Или же, если для религиозного сознания человеческий мир восходит к Богу во плоти, мы должны признать, что не случайно дух ищет облечься новой плотью, творить новые формы. Бердяеву я на этот раз напомню только о ветхих мехах: не вливают нового вина в меха ветхие: прорвутся меха, вытечет вино, и пропадет то и другое.
IV
Во всех известных нам демократических группировках и партиях, и даже в демократиях, уже реализующихся – смешанность: в них действуют, контрабандой туда проникшие, идеи, не только чуждые демократизму, но и прямо ему враждебные.
Такова, например, идея большевистско-коммунистическая. Впрочем – как назвать, и можно ли назвать «идеей» этот механический состав из множества обратно-перевернутых идей, эту совокупность антисвободы, антинациональности, антисоциальности, всяких «анти», и, конечно, антидемократии? Это нечто, сработанное по мелочам духом небытия, «творить» неумеющим, – и сработанное незамысловато: все положительное взято как отрицательное, а для обмана оставлены прежние наименования. Я думаю, точнее всего было бы звать этот Соблазн – «обратничеством».
Как механизм, он легко разнимается, разделяется, даже распыляется, когда надо вводить отраву по частям, но при удобном случае может быть собран в грандиозное целое, – в «сатанократию», по выражению Бердяева.
Способность распыляться – тоже сила. Неуследимо, тончайшими атомами, все время прикрываясь именем идеи, которую хочет отравить, входит в нее соблазн «обратничества»; и уже внутри ширится и растет.