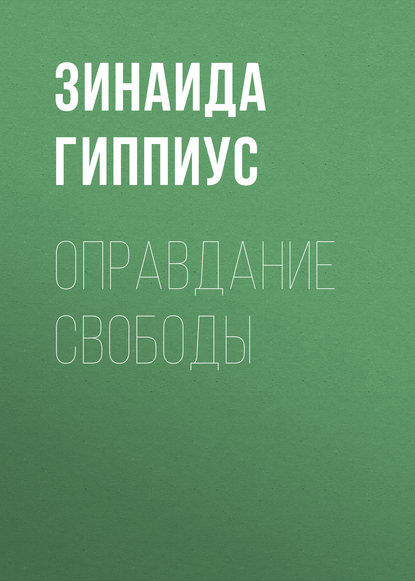По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оправдание Свободы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как и когда вмешался он, например, в идею «социализма»?
Я не буду здесь касаться сложнейших проявлений, оттенков и форм, которые принимал социализм. Но, для ясности дальнейшего, мне важно утвердить, что, как идея, социализм неразрывно связан с идеей демократии. Связан в первооснове, по самому существу. Вопреки разнообразным определениям, социализм для демократии и не инородное тело, и не прослойка, и даже не цель ее: настоящий социализм есть сама ткань настоящей демократии. Поэтому и в процессе становления, – воплощения, – мы их должны мыслить совместными: они совместно эволюционируют и совместно, соответственно, изменяются, – или «преображаются», если говорить религиозным языком.
Такое утверждение связи между двумя идеями, пожалуй, обрадует Бердяева. Не он ли старается доказать, что демократия и социализм – одно или почти одно? И далее подчеркивает: разве не «социализм» учит, что революция – диктаторский захват власти одним классом? Что человеческое сознание – лишь какое-то производное из экономики? Разве не в «социализме» зачеркивается, помимо ценностей высшего порядка, даже сама человеческая мораль, путем раздробления ее единства на множество моралей классовых? Разве нет этого в социализме?
Ну, конечно, есть; я как раз о том и говорю, что оно есть в социализме, как и многое другое, еще более антидемократическое и антисоциалистическое, т. е. прямо враждебное социализму. Оно вползло под его крышу, всячески стараясь, ради соблазна, прикрыться чужим именем.
Но Бердяев не узнал его; не увидел маски; он зовет «социализмом» – самую определенную гримасу самого определенного «обратничества». Признаем же, что и тут Бердяев «соблазнен», и тут, борясь с личиной, играет только в руку обманщику.
Соблазн, впрочем, не был бы соблазном, если б не соблазнял. Как судить других, когда ему поддаются даже люди, вроде Бердяева? Да говоря правду, были для этого, в наших демократических и социалистических течениях, достаточные основания. Не вырастало ли там издавна многое, что потом расцвело в большевистской России? Не было ли там подчеркнутого уклона к безличному коллективу, к обожествлению экономики, к воинствующему материализму – до совершенно «религиозной», экскоммуникативной, нетерпимости?
Было; и выражалось оно так ярко и резко, что даже одна моя статья (в 11 или 12 году), по этому поводу написанная, была прямо озаглавлена: «Обратная религия».
Соблазнительная примесь воинствующего материализма, нетерпимости, – духа «обратной религии», – имелась, хотя и в разной степени, решительно во всех наших демократических группировках; во всех, уклона так называемого «левого»[2 - Вот слово, от истертости превратившееся просто в известный знак! Я и беру его лишь как знак, которым привычно отмечаются идеи свободы. Идеи, не имеющие основой свободу, мы привыкли звать «правыми». В конце концов, знаки безразличны, но само разделение важно и нужно. Когда Бердяев говорит: «Я не правый и не левый» – он ничего не говорит: он, по своему обыкновению, прячется от реальности.]. Идея, благодаря этой злой подмеси, искажалась; и как раз та, которую всего ревнивее надо хранить от искажений, всего мужественнее защищать, ибо идея демократическая есть самая, по времени, драгоценная общественная идея.
В самом деле, не видели ли мы, какие три вопроса, – о «я», «ты» и «мы», – стоят перед человечеством на его пути? Стремление к Царству Божьему есть стремление к совершенству «мы», где, в свободной общности всех – утверждается равноценность всех «я». Идея демократическая, заключающая в себе те же начала свободы, личности и равенства-равноценности, и есть поэтому идея самая глубокая, то есть – религиозная.
Но если носители этой драгоценной идеи не осознают сами ее религиозного смысла – они плохо вооружены для ее защиты. Пока нет сознания – у идеи нет стержня, у борющихся за нее – нет критерия.
С каким усердием, с каким умением занимаются многие демократы разработкой вопросов политических, экономических, социальных и… не знают простой вещи: эти вопросы нужны, важны, как жемчужины для ожерелья, но ожерелья все-таки не будет, если не будет нити, на которую они нанизаны.
Соблазнителю ничего не стоило отвлечь их взоры от этой нити: он просто всю область положительной религии, где центр – христианство, заслонил от них исторической христианской церковью. Для примитивно-традиционного сознания – не достаточно ли? Религия – есть христианство, христианство – церковь, а церковь – священники и старушки или инквизиция. В лучшем, в самом лучшем случае – религия есть индивидуальное дело, ни к какой общественности не относящееся.
Можно, значит, в эту сторону и не смотреть…
В худшем случае такое постоянное соскальзывание со своего главного устоя грозит демократии полным крушением; но и в лучшем – оно задерживает ее рост, ее развитие, мешает одному из первых дел, которое предлежит всякой реализующейся демократии, – делу уравнения условий.
Равенство условий – есть единственная реальная форма, в которую может и должна воплощаться идея равенства-равноценности; единственная, этой идее отвечающая.
Уравнение условий – сама по себе задача огромная. Но и при наиболее достигнутом равенстве люди не сделаются, конечно, одинаковыми: будут не только равноспособные, но и неравноспособные, умные и глупые, слабые и сильные, словом – худшие и лучшие. Лучшие, естественно, будут впереди худших… но пусть не радуется Бердяев и не пугаются демократы: от этого демократия не перестанет быть демократией и не потеряет своего принципа свободы.
Напротив: только равенство условий и дает истинную свободу: свободу всем и каждому – стать чем хочешь и можешь, исполнить свою меру, приобрести на данные два таланта – другие два, на десять – десять, или… зарыть их в землю, выбрав «тьму внешнюю».
Жорес как-то сказал, что привилегированные условия, в которых он родился, так мучают его, что он лучше был бы готов и сам в них не рождаться, раз они невозможны для всех.
Бердяев здесь усмотрит, конечно, жажду «нивелировки» и «равнение по низшему». Но я думаю, и Жорес понимал, что воспитайся с ним рядом тысяча человек – из них не вышло бы тысячи Жоресов. Почему же он все-таки мечтает о каком-то равенстве всех? Бердяеву следовало бы помнить, что каждый праведник молится: «Всех, Господи, спаси, а если не всех – то пусть и я с ними погибну». Это ли не равнение на низших? На самых низших, на погибающих. Должно быть, однако, в глубоко религиозной молитве этой, как в словах Жореса, – равнение не на низшее, а на высшее, центр тяжести не в спуске, а в восхождении, не в погибели, а в спасении: «Пусть спасутся все».
Но по отвлеченным стопам Бердяева мы и тут недалеко уйдем. Равенство в свободе пугает его. Равные условия для всех рожденных – кажутся ему нарушением основ государственности. Оттого, вероятно, и утверждает он, что «демократия не признает государства»[3 - О государстве – самая мутная глава в книге. Лучше бы уж держался он краткого определения Вл. Соловьева, которое сам приводит: «Государство существует не для того, чтобы создать рай на земле, а чтобы помешать ей превратиться в ад».].
Не сомневаюсь, что бердяевская «демократия» признать государства не может. Но подлинная – становится безгосударственной и безвластной лишь тогда, когда изменяет себе, когда соскальзывает со своей идеи.
Настоящая демократия должна иметь власть, чтобы охранять и проводить в жизнь свою идею. Власть – ограничивать свободу каждого, кто посягнет на свободу всех. И такую власть демократия должна признавать не только правом своим, а также и обязанностью.
Но повторяю: чтобы понять все права и обязанности, налагаемые данной идеей, нужно понять самую идею в ее последней, т. е. в религиозной, глубине. Лишь на этой глубине открывается и настоящее понимание Свободы, к которой мы все стремимся, а получаем – только из Божьих рук, на пути нашего к Нему восхождения.
V
Мне осталось еще сказать два слова о религиозной позиции Бердяева и о том, почему наши общественные выводы так разнятся, хотя оба мы исповедуем ту же христианскую религию и принадлежим к той же православной церкви.
У нас не разная религия, но разное религиозное сознание. Я не хочу сказать, что у меня сознание – верное, а у Бердяева не верное. Оба верны, если верна наша религия. Но в луч моего религиозного прожектора попадает то, что в луч бердяевского – не попадает. И область, остающаяся для Бердяева темной, – область вопросов общественных.
Он говорит о личности, о природе зла, о духовном возрастании – религиозно. Но чуть касается общественности – слова его гаснут, суждения становятся просто обыкновенными суждениями с обыкновенной человеческой точки зрения, и весьма не беспристрастными. Почему это так?
Ответ дан самим Бердяевым: потому что «Христос не учит общественности», а Бердяев – последователь Христа и только одного Христа. Он даже указывает на опасность сближения проблемы общественной с Христом, «который оставляет в стороне социальные вопросы». Естественно, что если Бердяев сам и не оставляет их в стороне – он говорит о них уже не с религиозной точки зрения: этой точки зрения у него здесь нет.
«Чистое христианство» Бердяева определяет и его отношение к исторической (реальной) христианской Церкви.
Я признаю, что в христианской Церкви заключена вся полнота истины: но я сознаю, что она там именно заключена, а открывается нам лишь одна из ее трех сторон. Я не боюсь сказать это, ибо для моего религиозного сознания – существующая, в истории находящаяся, Церковь – такое же не совершенное воплощение Духа Божьего, как не совершенно во времени и пространстве всякое воплощение. «Церковь – храмина недостроенная!» – любил повторять один очень православный церковник.
Для моего религиозного сознания ясно, что правда «о всех», правда общественная, должна быть вскрыта в мире так же, как Христом уже вскрыта правда о Личности. Для меня ясно, что воля, заставляющая человечество, сознательно или бессознательно, протягивать руки к этой правде – есть воля Божья, и что во Христе эта правда уже есть: «Дух, которого пошлю вам, от Моего возьмет, и наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам».
Для моего религиозного сознания ясно, что мы должны быть готовыми «вместить» эту правду, а готовность не дается бездействием, созерцаньем и отворачиваньем от жизни. Надо идти навстречу Божьей правде, и она – «нудится, и употребляющий усилие восхищает ее».
В моем религиозном сознании Божья правда «о всех», земная человеческая совместность, строится как прообраз Царства Божия, т. е. на основах свободы и подлинного равенства.
И такое религиозное сознанье – вовсе не мое только: у меня много союзников. Не буду говорить о далеких и чужих, назову лишь одного, своего и очень нам близкого: Владимира Соловьева. Известен ли он? По имени – да, но я утверждаю, что по существу он остался неизвестен и для тех, кто его «изучал», «увлекался» им. Даже малое, второстепенное, что они поняли в нем, – они скоро и основательно забыли. О внешних же не стоит и говорить: одних, общественников, отталкивало его христианство, других, «христиан» – его «либерализм».
Правда, есть у Вл. Соловьева кое-где недоговоренность; одна из причин ее – это то, что он был «слишком ранним предтечей слишком медленной весны…». Он много знал, но еще больше предчувствовал. А кого мог, в те недавние – и далекие – времена, занять хотя бы его вопрос, обращенный к России:
Каким ты хочешь быть востоком,
Востоком Ксеркса – иль Христа?
Его непонятный страх:
И вот Господь неумолимо,
Мою Россию отстранит…
Приходило ли в голову даже тому, кто о России не думал, что очень скоро – красным
– детям на забаву
Дадут клочки ее знамен?
Но оставим стихи, предчувствия и прозрения Соловьева. Мы говорим лишь об его религиозном сознании. И если, теперь, вдумчивый человек откроет любую книгу статей его и новыми глазами прочтет старые страницы, они его поразят: в них все – об одном, о реальной связи религии с общественностью. Соловьев не устает повторять, что во Христе уже есть, уже дана человеческая и Божья правда свободной совместности, побеждающая духом Божьим духа смерти.
Темы Соловьева внешне разнообразны. Очень часто взяты они лишь для прикрытия главной темы: не забудем, что он был связан тогдашней цензурой. Но пишет ли он рецензию об иностранной книге, говорит ли о поэзии, о Талмуде, о смысле любви – все это сводится к необходимости осознать религиозно вопрос общественный. В невинной как будто статье «О подделках» ему удается, сквозь цензуру, сказать, с изумительной определенностью, что христианство, не включающее в себя вопроса о реальном, свободном, устроении человечества на земле (правда «о всех») – есть не настоящее, а поддельное христианство[4 - С точки зрения того же религиозного сознания Соловьев отрицает и христианство «чисто духовное»; он отвергает, даже резко осуждает, религиозную «аполитичность» (по его собственному выражению), считая «аполитичную» религию также «подделкой» под религию.].
Но… для одних это было непонятно или ненужно, а для других, вроде Бердяева, это и до сих пор остается ересью: ведь «христианство – не учит общественности».
Бердяев, в узкой устремленности внимания на лик Христа, и в том, как он этот лик видит, – совершенно совпадает с обеими историческими христианскими церквами: и восточной, и западной. Отсюда у него и тяготенье к «духовности». Он признает плоть мира (как и Церковь), но нехотя, концами губ, словесно (так же, как и Церковь). Вот последний общий, вывод, который делает Бердяев в свете своего религиозного сознания: «Только реальное осуществление совершенной духовной жизни (а оно невозможно) есть разрешенье проблемы совершенного общества…», которое, значит, тоже невозможно.
Церковь, благодатная хранительница истины, скрытой до времени от нее самой, Церковь, для которой в «мире» – только еще «деется истина беззакония», эта Церковь и не вступает «в прю с князем мира сего», не подъемлет голоса (когда верна себе) для суждений или осуждений человечества, борющегося за свободу. Она только широко открывает объятия каждой отдельной душе, всякому, «приходящему извне», жаждущему отдыха и последнего утешения.
Но Бердяев не «приходящий извне». Книга его, по замыслу, есть «исход вовне». Забыв свои же утверждения, что «в Новом Завете нет откровения христианской общественности», что «Царство Христово не от мира сего» – он идет судить «сей мир». С пониманием свободы, равенства, братства как начал лишь духовных и отвлеченных – он судит человеческую волю к их воплощению и думает, что судит и осуждает ее – религиозно.
Но случилось то, что он и сам мог бы предвидеть. Ведь он сам говорит: «Великий соблазн – проблема общественности и для верных христиан, и для врагов христианства». Книга Бердяева и есть такой соблазн. Будь она не так мутно, противоречиво и отвлеченно написана – она соблазняла бы, пожалуй, больше. Но эта муть не случайна: самые корни ее – роковой узел, где «правда с ложью сплетена».
И, конечно, не о свете бердяевского сознания я думаю, когда говорю, что явления общественной жизни нужно освещать религиозно: луч бердяевского света до них не достигает.