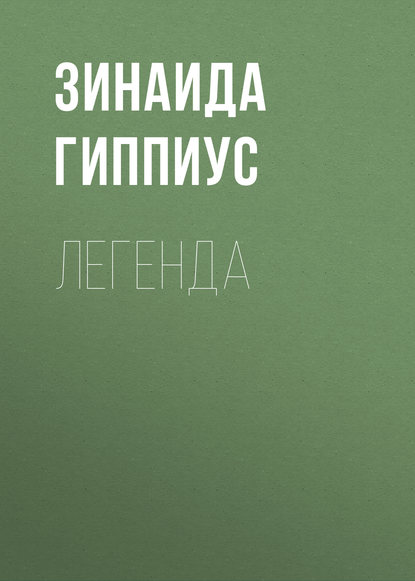По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда
Год написания книги
1893
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Маничка, да объясни ты мне, зачем ты хочешь? Не любишь нас, что ли? Чем тебе у нас несвободно?
Мама говорила как-то безнадежно, она невольно подчинялась тону дочери.
– Я, мама, так жить не могу, потому что так жить нельзя. Вы все трусы. Бежите за счастьем, кричите: мне, мне! А чуть урвете кусочек – уж сейчас дрожите, боитесь потерять. Всего боитесь, богаты – так боитесь обеднеть, здоровы – боитесь заболеть, потому что будете тогда страдать. А я ничего не боюсь, потому что ничего не хочу. Болезнь – так болезнь. Смерть – пускай смерть. Я на все иду. Не мучьте себя, мама. Отпустите меня просто.
– Да куда же ты пойдешь, глупая девочка? – сказала мама сквозь слезы. – Ну, зарабатывай здесь пропитание, если хочешь.
– Я не буду работать.
– Как? А денег не возьмешь? Что же ты, голодной смертью хочешь себя уморить?
– Мне станут давать хлеб. Я буду нищей. Я буду ходить везде и говорить всем людям, что если они хотят свободы – пусть делают, как я.
– А кто же работать станет? – воскликнула в изумлении мама. – А если все станут нищими, то скоро съедят весь хлеб и умрут с голоду. И не будет людей…
Мама радовалась, что нашла такой неопровержимый довод. Но Маничка равнодушно сказала:
– И пусть не будет людей, мама. На что же они? Мама принялась плакать.
– Не любишь ты нас, никого не любишь, черствое у тебя сердце!
– И не нужно любить, – угрюмо сказала Маничка. – Люблю всех, как люблю себя, надо, чтобы у всех было то, что есть у меня, а больше никак не люблю. Если кому-нибудь надо есть – дам ему, как себе дам, чтобы не умереть с голоду. Умирать нарочно не надо. Это уж значит опять бояться, жизни бояться.
Маничка повторяла это все монотонно и неохотно, точно все слова она давно знала наизусть, все взвесила и теперь не стоило говорить и спорить о таком несомненном.
– Это все у тебя с того вечера мысли, – сказала вдруг мама, перестав плакать. – Я ведь слышала, как ты Костякову говорила…
Маничка густо покраснела и сдвинула брови. Никто бы не решил, что было в ее невыразительном лице: сила – или тупое упрямство.
– И он для меня теперь как другие, – сказала она, точно отвечая на свои мысли, а не на слова мама. Слыша ее уверенный голос, нельзя было сомневаться, что это именно так. – Все для меня равны… И вы тоже, мама, – прибавила она, – не надо, чтобы я любила вас больше, чем себя. А уйду я потому, что вы еще не поняли и не сделаете, как нужно. Я буду другим людям объяснять и, может быть, другие поймут. Я так сделаю.
Она вдруг опомнилась, взглянув на растерянное лицо мама. Мама решительно думала, что Маничка больна.
– Отпустите меня будто на богомолье, – сказала Маничка. – Я пойду на богомолье. И скажите так всем, если хотите.
– Да куда же ты пойдешь, ведь зима теперь! И поехать можешь, если так тебе хочется…
– Отпустите на богомолье идти, – сказала Маничка. – Все равно другая зима будет…
– Нет, надо все папе рассказать, – решила мама. – Ты какая-то чудная. Пусть он рассудит. Это невозможно.
Папа-прокурор долго не мог понять, о чем ему толкуют. Наконец, он расхохотался и отправился к Маничке. Входя, он принял строгий вид, потому что хотя и смешно, однако, в девочке блажь и капризы не следует оставлять без внимания.
Папа во дни своей молодости читал книги и потому считал себя развитым. Он не сомневался, что отлично понял выдумки дочери. Но на первый раз он решил быть снисходительнее.
– Глупое дитя! – сказал он со строгой лаской. – Уединенная жизнь и природная восторженность говорят в тебе. Да и напрасно ты полагаешь, что ты первая все это выдумала. Были раньше тебя… Ты не знаешь истории. Такой пылкой головке необходимо образование, ты переменилась… Вот, например, был один Франсис итальянский, тоже нищенствовал, для Бога трудился, ну и потом этот тоже… гм… как его… босиком ходил…
– Я не для Бога, – сказала Маничка. – Я для себя. И еще для свободы.
– Для какой свободы? – с испугом повторил папа. – Это еще что? – В уме его беспорядочно пронеслись мысли о нигилизме, о красных рубахах, о неблагонадежности. – Впрочем, прошу тебя бросить это все. Я требую, слышишь? Я приказываю.
– Я не могу бросить.
Папа вдруг рассвирепел, хотел что-то сказать – но не нашел слов. Взглянув на Маничку, он притих, и, повторив еще раз, менее уверенным голосом: – «а я требую», – съежился и вышел из комнаты.
VI
Для Манички наступили тяжелые дни.
Папа и мама не скрывали ее капризов. Костякова в это время не было в городе – он уехал на сессию. Гости удивлялись, потом снисходительно смеялись, наконец изъявляли сочувствие и желание видеть Маничку.
Маничка сидела в своей комнате, принимала всех равнодушно и повторяла всем одно и то же. Когда видела, что ее решительно не понимают – прибавляла:
– На богомолье мне надо идти.
Многие в городе были уверены, что у Манички тихое помешательство. Этот слух дошел до папа и оскорбил его до глубины души. Он позвал Маничку, кричал, бранился, убеждал и приказывал.
Маничка упорно молчала.
Каждый вечер приходила мама, плакала и умоляла Маничку пожалеть их, не позорить, говорила, что у папа может сделаться удар.
Приближалась весна. Растаял снег, у заборов показалась травка и желтые цветы. На улицах стояла невылазная грязь. Ветлы и сирень зеленели. В доме прокурора было все по-прежнему, только Маничка побледнела и слегка осунулась. Каждый день ее мучили уговорами или насмешками, каждый вечер мама плакала и умоляла выбросить из головы дикую затею.
И в одну весеннюю ночь Маничка вдруг проснулась с живой тоской. Давно уже не тосковала она – и сама удивилась, испугалась этого чувства.
– Что же это? – подумала она, зажигая свечку. – Значит, все напрасно?
Маленькая, робкая, но упрямая мысль вдруг явилась к ней.
– А может быть, и неверно все это? И не нужно? Может быть, надо остаться и жить, как они хотят и как живут сами? Стоит ли бороться? Права ли я?
Это продолжалось одно мгновенье.
Когда Маничка сознала свою мысль, она села на постели и начала быстро одеваться. Она поняла, что это – силы оставляют ее, что все погибает и она может уступить. Надо кончить сразу. Нельзя медлить.
Она тихо оделась, разбудила Анфису, спящую на полу, и велела ей собираться. Анфиса ничего не поняла, но она привыкла повиноваться Маничке.
Маничка села за стол и своим детским, неумелым почерком написала записку:
«Мама, папа – я пока буду в Троицком монастыре у тети, а здесь я вас мучаю и вообще нельзя мне быть здесь. Отпустите меня на богомолье охотно, я для вас прошу. Со мной Анфиса тоже пойдет, то есть она сама по себе, а не для меня, но по одной дороге. Это я сделаю для вашего успокоения. Отпустите меня. Я ведь все равно пойду. Мама, если можете, поймите, что надо ничего не желать и ничем не огорчаться, и любить другого, как самого себя. Если можно сказать: люблю себя! Тогда можно и про другого сказать: люблю его. Прощайте мама. Прощайте папа».
Осторожно, никем не замеченные, Анфиса и Маничка вышли из дому в сад, а оттуда на улицу. Весеннее небо светлело. Звезды мерцали слабые, точно утомленные. Пахло сыростью, землей, раскрытыми почками. Откуда-то из-за реки, издалека, неслась чуть слышная песня. Ветер стих.
Маничка равнодушно и гордо взглянула на белеющее небо, на пустые улицы и еще обнаженные деревья сада. Наконец, она была свободна. Ничто не имело теперь над ней власти: ни природа, ни люди. Она все оставляла за собою.
VII
Прошло лето, минула зима – и новое лето кончалось, а в мирном городе, по-видимому, ничто не изменилось. Начали строить собор, проектировали шоссе вместо деревянных досок мостовой, открылось еще несколько еврейских магазинов. В домике с зеленым подъездом тоже все по-прежнему: папа-прокурор так же победоносен, дети так же ссорятся, только мама похудела, постарела и часто сидит без дела в спальной.