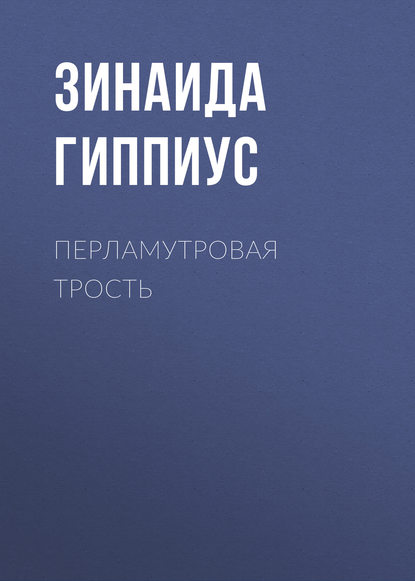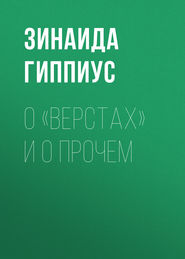По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перламутровая трость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К счастью, вмешалась Клара. А я продолжал свое странное занятие, – ни о чем, действительно, не думая, глядеть на баронессу и на свисающие ветки.
Немка-англичанка затрещала о современной музыке. Маленькая баронесса сняла шляпку, положила ее на парапет, рядом. Я увидел коричневые волосы, с золотыми искорками. Остриженные высоким бобриком, они пышно поднялись надо лбом. Не волнисто, а только пышно.
– Какая у вас красивая палка, – сказал я.
Она молча протянула мне свою трость. Черное дерево внизу, а вся верхняя половина покрыта сплошь перламутровой инкрустацией. Но я почти не видел; я увидел глаза, светло-светло-карие, с желтым ободком вокруг зрачка, и в них, и в том, как она протянула мне эту свою трость, увидел… не знаю что, неопределимо, час судьбы, может быть. Знаю только свое уверенное чувство тогда: с этим существом я могу сделать все, что захочу, оно – мое.
– Ах, Элла, я всегда любуюсь этой прелестной палкой! – тараторила художница. – Мадам Цетте, вы видели трость Эллы? Неправда ли, вещь замечательной красоты? Где миссис Миддл достала для вас такую?
Клара хотела взять перламутровую трость у меня из рук, но я отдал ее маленькой Элле.
Она сказала робко, не опуская светлых глаз.
– Старинная… Ma m?re[15 - Моя мама (фр.).] нашла ее в Египте. Я всегда с нею… Потом все было очень просто. Мы вышли от художницы втроем, -
Клара сказала, что мы проводим Эллу до отеля, нам и по дороге. Элла развеселилась, улыбнулась раза два, по-детски, и, хотя говорила больше Клара, я кое-что об Элле узнал: она музыкантша, композиторша, кончила лондонскую консерваторию, живет всегда в Англии, но миссис Миддл так любит путешествовать, что оне весь свет, кажется, изъездили… В Бестре сейчас проездом, но бывали и раньше. Специальность Эллы – оркестровая музыка. Миссис Миддл очень заботится о карьере Эллы, для этого нужно поддерживать в Лондоне связи.
Вдруг Клара онемела. Навстречу шел Франц. Сдвинутые брови, опущенные глаза. Но он поднял их, увидел нас. Лицо сразу изменилось. Стало добрым и приветливым. К удивлению, с Эллой он поздоровался, как со знакомой. Но он не знал, что она в Бестре.
Мы поговорили с минуту. Праздник в Рах – завтра. Баронесса Роон (какая странная фамилия!) тоже придет, неправда ли?
Мы разошлись, а так как это было в двух шагах от Bella Vista, где жила Элла с матерью, то мы простились и с Эллой.
Почему, однако, мать ее миссис Миддл? А где же барон? Замужем, эта девочка?
Клара была странно молчалива. Подходя к дому, я все-таки спросил:
– Она хорошая музыкантша, эта маленькая дама?
– Элла? Очень хорошая. А ей всего двадцать четыре года…
– Она разошлась с мужем?
– С каким мужем? Да она вовсе не замужем! С чего вы вообразили?
Клара засмеялась. Отворила калитку. С балкона послышался голос Мариуса:
– Cla-ra!
– Ich komme![16 - Иду! (нем.).] – ответила Клара и побежала наверх. А я пошел к себе.
X. Наконец праздник в Рах
По совести говоря, я преувеличил, когда объявил, что после ветрового с Францем разговора я все решительно понял, и только словами сказать не умею.
Понять-то понял, а все же не так, как Франц разумеет понимание. Понял больше извне, чем изнутри. В такое понимание, хотя тоже большое, много входит веры. Но зато рассказать о нем легче.
Так вот, прежде всего, я понял, что в душе человека, вернее – в существе человека, может подняться великой силы вихрь, великой и непреодолимой. Малое подобие его был тот природный вихрь, который меня обезумил. Но по сближению я понял. Важна непреодолимость. Он сметает все, чем мог бы человек его преодолеть. Борьба бесполезна. Уляжется сам, а не уляжется – лети в нем до конца. Хорошо, что не каждое человеческое существо достаточно глубоко и широко, чтоб поднимались в нем такие ослепляющие вихри.
Но Франц… он их знает. Помочь ему тут нельзя (непреодолимо!), но когда он увидел, что я, около него стоящий, кое-как уразумел это, почувствовал, – ему было утешение.
А затем еще другое о Франце, насчет Отто. Более частное, и во что я, говоря откровенно, не совсем проник, на веру же принял вполне.
Франц не может и не хочет принять того, что Отто счастлив… с женщиной. Он говорит: если это так, значит Отто, которого он, Франц, любил, был вовсе не Отто, а кто-то другой. А настоящего Отто вовсе и не было. Но любовь-то Франца была; была – к никому? Вот этого Франц перенести и не может. Спасается тем, что еще не верит в счастье Отто. Мне показалось, что здесь он надеется на какую-то мою помощь. Но какую?
Иногда я точно опоминаюсь: да все это, en bloc[17 - в целом (фр.).], не катится ли по краю безумия? И Франц, и я, разбирая его сложности, сочувствуя каким-то, с точки зрения нормального смысла, нелепостям? Франц не любит Отто. Откуда эта дикая ревность, сухая ревность без любви? Мало того, дикая по односторонности: ведь он ревнует Отто к жене, только! Если б Отто изменял ему не с женой, а так, как раньше, и как изменял ему сам Франц…
Нет, нет, тут в самом корне какая-то неразложимая непонятность, может быть нелепость. Любовь тут ни при чем. Да вот и вихри-то эти, что захватывает существо человека, – любовь? Не любовь. Любовь во все это вплетена, запутана, а как ее выплести, как освободить – не понимаю. Может быть, мы еще и в глаза любви-то никакой не видали. И понятия о ней настоящего не имеем. Бог знает, в чем барахтаемся, да так и умрем, не увидев…
Вот до чего я дошел. Любовные мемуары, воспоминания о том, что не было… Ложь! Ложь!
В такие минуты (просветления) мне хочется все бросить. Тем более, что по самой чистой совести говоря – я считаю, что «бросить любовь», или то, что мы к этой области относим, отнюдь не значит «все» бросить. Далеко она не все и – даже не такая уж важная, не первая, область жизни…
Но я смиряюсь. И бросаю только рассуждения. Они, действительно, могут довести до бешенства. И совершенно бесплодного.
Франц, какой он ни есть, живой человек. И со своими вихрями в живой жизни живет. И я тоже, с моими нелепостями. Начал про людей, с их – пусть гримасами любви, – буду рассказывать дальше.
Понимает же нас – пусть уж Бог.
Вилла Рах, такая знакомая, – сегодня другая.
Из комнаты, с красным каменным полом раскрыты настежь двери, широкие, почти во всю стену, – на веранду. Цветные огни сверху, узорчатые фонарики, и не поймешь, какой свет: лавандово-розовый, но светлый и приятный. Белая скатерть на столе отливает серебром, а плотный занавес глициний розовеет. Там, дальше, – такая черная темнота, точно мир кончается. Ничего, кроме мрака.
Кое-кто сидел у стола, другие поодаль, на низких табуретах. Было человек шесть-семь; я не всех узнал сразу, освещение изменяет. Громадный, молодой американец с детским, серьезным лицом. Немецкий граф, извилистый, тонкий, как стебель ириса. Молчаливый и приятный датчанин; другие, – я встречал ранее почти всех. Клара (она пришла с Мариусом) сидела около Франца, веселого, немножко рассеянного.
Мелькали фигуры служителей в длинных, складчатых, сицилианских одеждах. Джованне, с алой повязкой на смоляных кудрях, был удивительно хорош. Какая грация движений, когда он, вместе с другими, опускал перед гостями поднос: высокие кубки на подносах, еще что-то – я не разобрал.
Элла – одна, поодаль, около глициний. Я сразу увидел пятно ее белого платьица, но не подошел; поискал глазами мать: никакой матери не было.
Оживленный, но не очень громкий, немецкий разговор. Американец, впрочем, только улыбался, изредка перекидываясь с Нино и Джузеппе итальянскими словами: он по-немецки не понимал.
Франц поднялся, хлопнул в ладоши. И сейчас же оттуда, из сада, из черной темноты, где, казалось, ничего быть не могло, мир кончался, – тонко зазвенела первая струна.
Невидимые музыканты заиграли тарантеллу.
Сицилианская – она особенная; да, впрочем, я потом и в Сицилии такой не слыхал.
Несложный, быстрый и странный напев; не то что тоскливый, а тяжелый: как страсть бывает тяжелая.
Начали танец Джузеппе и Нино. Секрет тарантеллы (этой, по крайней мере) в постоянном ускорении темпа; при ускорении медленном. Эта медленность, при нарастании непрерывном, позволяет незаметно очутиться в вихре движения. В таком вихре, что, и глядя, точно с ним несешься; несешься, куда – все равно, но только бы донестись, скорей, скорей! Ибо не может же это не кончиться.
Кончается сразу. Мгновенной остановкой, обрывом движения. Джузеппе исчез, а Нино неподвижно остановился перед тонким графом. Это – выбор.
Музыка не оборвалась, и к первой медленности темпа не перешла, чуть-чуть лишь умерилась и утишилась, словно отдалилась. Поэтому граф, выйдя на круг, начал сразу быстро.
Он плясал так хорошо, что даже в современной одежде и рядом с красавцем Нино не был смешон. По-своему грациозен, как-то нежнее и в вихре – беспомощнее.
Вино ли странное в странных стаканах, цветы ли, невидная ли музыка из черного пространства, или тарантелла, – но я прямо чувствовал, как изменялся воздух, атмосфера среди нас. Не могу сказать, что она пьянила; никакого тумана, все было четко; лишь внутренний огонь в ней нарастал, – ну и во мне, конечно, как в других.
Немка-англичанка затрещала о современной музыке. Маленькая баронесса сняла шляпку, положила ее на парапет, рядом. Я увидел коричневые волосы, с золотыми искорками. Остриженные высоким бобриком, они пышно поднялись надо лбом. Не волнисто, а только пышно.
– Какая у вас красивая палка, – сказал я.
Она молча протянула мне свою трость. Черное дерево внизу, а вся верхняя половина покрыта сплошь перламутровой инкрустацией. Но я почти не видел; я увидел глаза, светло-светло-карие, с желтым ободком вокруг зрачка, и в них, и в том, как она протянула мне эту свою трость, увидел… не знаю что, неопределимо, час судьбы, может быть. Знаю только свое уверенное чувство тогда: с этим существом я могу сделать все, что захочу, оно – мое.
– Ах, Элла, я всегда любуюсь этой прелестной палкой! – тараторила художница. – Мадам Цетте, вы видели трость Эллы? Неправда ли, вещь замечательной красоты? Где миссис Миддл достала для вас такую?
Клара хотела взять перламутровую трость у меня из рук, но я отдал ее маленькой Элле.
Она сказала робко, не опуская светлых глаз.
– Старинная… Ma m?re[15 - Моя мама (фр.).] нашла ее в Египте. Я всегда с нею… Потом все было очень просто. Мы вышли от художницы втроем, -
Клара сказала, что мы проводим Эллу до отеля, нам и по дороге. Элла развеселилась, улыбнулась раза два, по-детски, и, хотя говорила больше Клара, я кое-что об Элле узнал: она музыкантша, композиторша, кончила лондонскую консерваторию, живет всегда в Англии, но миссис Миддл так любит путешествовать, что оне весь свет, кажется, изъездили… В Бестре сейчас проездом, но бывали и раньше. Специальность Эллы – оркестровая музыка. Миссис Миддл очень заботится о карьере Эллы, для этого нужно поддерживать в Лондоне связи.
Вдруг Клара онемела. Навстречу шел Франц. Сдвинутые брови, опущенные глаза. Но он поднял их, увидел нас. Лицо сразу изменилось. Стало добрым и приветливым. К удивлению, с Эллой он поздоровался, как со знакомой. Но он не знал, что она в Бестре.
Мы поговорили с минуту. Праздник в Рах – завтра. Баронесса Роон (какая странная фамилия!) тоже придет, неправда ли?
Мы разошлись, а так как это было в двух шагах от Bella Vista, где жила Элла с матерью, то мы простились и с Эллой.
Почему, однако, мать ее миссис Миддл? А где же барон? Замужем, эта девочка?
Клара была странно молчалива. Подходя к дому, я все-таки спросил:
– Она хорошая музыкантша, эта маленькая дама?
– Элла? Очень хорошая. А ей всего двадцать четыре года…
– Она разошлась с мужем?
– С каким мужем? Да она вовсе не замужем! С чего вы вообразили?
Клара засмеялась. Отворила калитку. С балкона послышался голос Мариуса:
– Cla-ra!
– Ich komme![16 - Иду! (нем.).] – ответила Клара и побежала наверх. А я пошел к себе.
X. Наконец праздник в Рах
По совести говоря, я преувеличил, когда объявил, что после ветрового с Францем разговора я все решительно понял, и только словами сказать не умею.
Понять-то понял, а все же не так, как Франц разумеет понимание. Понял больше извне, чем изнутри. В такое понимание, хотя тоже большое, много входит веры. Но зато рассказать о нем легче.
Так вот, прежде всего, я понял, что в душе человека, вернее – в существе человека, может подняться великой силы вихрь, великой и непреодолимой. Малое подобие его был тот природный вихрь, который меня обезумил. Но по сближению я понял. Важна непреодолимость. Он сметает все, чем мог бы человек его преодолеть. Борьба бесполезна. Уляжется сам, а не уляжется – лети в нем до конца. Хорошо, что не каждое человеческое существо достаточно глубоко и широко, чтоб поднимались в нем такие ослепляющие вихри.
Но Франц… он их знает. Помочь ему тут нельзя (непреодолимо!), но когда он увидел, что я, около него стоящий, кое-как уразумел это, почувствовал, – ему было утешение.
А затем еще другое о Франце, насчет Отто. Более частное, и во что я, говоря откровенно, не совсем проник, на веру же принял вполне.
Франц не может и не хочет принять того, что Отто счастлив… с женщиной. Он говорит: если это так, значит Отто, которого он, Франц, любил, был вовсе не Отто, а кто-то другой. А настоящего Отто вовсе и не было. Но любовь-то Франца была; была – к никому? Вот этого Франц перенести и не может. Спасается тем, что еще не верит в счастье Отто. Мне показалось, что здесь он надеется на какую-то мою помощь. Но какую?
Иногда я точно опоминаюсь: да все это, en bloc[17 - в целом (фр.).], не катится ли по краю безумия? И Франц, и я, разбирая его сложности, сочувствуя каким-то, с точки зрения нормального смысла, нелепостям? Франц не любит Отто. Откуда эта дикая ревность, сухая ревность без любви? Мало того, дикая по односторонности: ведь он ревнует Отто к жене, только! Если б Отто изменял ему не с женой, а так, как раньше, и как изменял ему сам Франц…
Нет, нет, тут в самом корне какая-то неразложимая непонятность, может быть нелепость. Любовь тут ни при чем. Да вот и вихри-то эти, что захватывает существо человека, – любовь? Не любовь. Любовь во все это вплетена, запутана, а как ее выплести, как освободить – не понимаю. Может быть, мы еще и в глаза любви-то никакой не видали. И понятия о ней настоящего не имеем. Бог знает, в чем барахтаемся, да так и умрем, не увидев…
Вот до чего я дошел. Любовные мемуары, воспоминания о том, что не было… Ложь! Ложь!
В такие минуты (просветления) мне хочется все бросить. Тем более, что по самой чистой совести говоря – я считаю, что «бросить любовь», или то, что мы к этой области относим, отнюдь не значит «все» бросить. Далеко она не все и – даже не такая уж важная, не первая, область жизни…
Но я смиряюсь. И бросаю только рассуждения. Они, действительно, могут довести до бешенства. И совершенно бесплодного.
Франц, какой он ни есть, живой человек. И со своими вихрями в живой жизни живет. И я тоже, с моими нелепостями. Начал про людей, с их – пусть гримасами любви, – буду рассказывать дальше.
Понимает же нас – пусть уж Бог.
Вилла Рах, такая знакомая, – сегодня другая.
Из комнаты, с красным каменным полом раскрыты настежь двери, широкие, почти во всю стену, – на веранду. Цветные огни сверху, узорчатые фонарики, и не поймешь, какой свет: лавандово-розовый, но светлый и приятный. Белая скатерть на столе отливает серебром, а плотный занавес глициний розовеет. Там, дальше, – такая черная темнота, точно мир кончается. Ничего, кроме мрака.
Кое-кто сидел у стола, другие поодаль, на низких табуретах. Было человек шесть-семь; я не всех узнал сразу, освещение изменяет. Громадный, молодой американец с детским, серьезным лицом. Немецкий граф, извилистый, тонкий, как стебель ириса. Молчаливый и приятный датчанин; другие, – я встречал ранее почти всех. Клара (она пришла с Мариусом) сидела около Франца, веселого, немножко рассеянного.
Мелькали фигуры служителей в длинных, складчатых, сицилианских одеждах. Джованне, с алой повязкой на смоляных кудрях, был удивительно хорош. Какая грация движений, когда он, вместе с другими, опускал перед гостями поднос: высокие кубки на подносах, еще что-то – я не разобрал.
Элла – одна, поодаль, около глициний. Я сразу увидел пятно ее белого платьица, но не подошел; поискал глазами мать: никакой матери не было.
Оживленный, но не очень громкий, немецкий разговор. Американец, впрочем, только улыбался, изредка перекидываясь с Нино и Джузеппе итальянскими словами: он по-немецки не понимал.
Франц поднялся, хлопнул в ладоши. И сейчас же оттуда, из сада, из черной темноты, где, казалось, ничего быть не могло, мир кончался, – тонко зазвенела первая струна.
Невидимые музыканты заиграли тарантеллу.
Сицилианская – она особенная; да, впрочем, я потом и в Сицилии такой не слыхал.
Несложный, быстрый и странный напев; не то что тоскливый, а тяжелый: как страсть бывает тяжелая.
Начали танец Джузеппе и Нино. Секрет тарантеллы (этой, по крайней мере) в постоянном ускорении темпа; при ускорении медленном. Эта медленность, при нарастании непрерывном, позволяет незаметно очутиться в вихре движения. В таком вихре, что, и глядя, точно с ним несешься; несешься, куда – все равно, но только бы донестись, скорей, скорей! Ибо не может же это не кончиться.
Кончается сразу. Мгновенной остановкой, обрывом движения. Джузеппе исчез, а Нино неподвижно остановился перед тонким графом. Это – выбор.
Музыка не оборвалась, и к первой медленности темпа не перешла, чуть-чуть лишь умерилась и утишилась, словно отдалилась. Поэтому граф, выйдя на круг, начал сразу быстро.
Он плясал так хорошо, что даже в современной одежде и рядом с красавцем Нино не был смешон. По-своему грациозен, как-то нежнее и в вихре – беспомощнее.
Вино ли странное в странных стаканах, цветы ли, невидная ли музыка из черного пространства, или тарантелла, – но я прямо чувствовал, как изменялся воздух, атмосфера среди нас. Не могу сказать, что она пьянила; никакого тумана, все было четко; лишь внутренний огонь в ней нарастал, – ну и во мне, конечно, как в других.