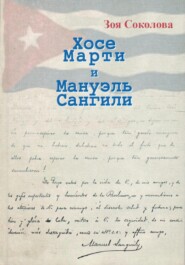По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
GRANMA – вся ПРАВДА о Фиделе Кастро и его команде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фидель Кастро. Письма из тюрьмы
В доме Марии Антонии на Эмпаран, 49, куда Ньико давно не заходил, сегодня его ждал приятный сюрприз. Приехала с Кубы Мельба Эрнандес, которую он последний раз видел за день до штурма Монкады.
Маленькая, шустрая Мельба с огненными глазами была переполнена радостью от предвкушения встречи со своим боевым соратником по Монкаде. Она помнила его худым, взрывавшимся при любой попытке бросить тень на дело, которому он служит. Что принесли в его мир Гватемала, а теперь и Мексика? От быстрых и внимательных глаз Мельбы не ускользнуло, что Ньико очень изменился: стал более худым («Уж куда худеть-то», – подумала она про себя), казался еще выше.
– Куда тянешься? – проговорила она, вырываясь из его искренних объятий и глядя снизу вверх на гибкого и, похоже, очень усталого Ньико.
Но главное, что изменилось в Ньико, – не это. Мельба заметила, что в его глубоких, раньше очень веселых глазах поселилась невыразимая грусть, печаль, которую не рассеяла даже радостная встреча с Мельбой. А что он очень рад этой встрече, Мельба и видела, и чувствовала всем своим существом.
– Тоскует! Очень тоскует, – решила Мельба и поняла, что не стоит заострять его внимание на этой грусти. Будет лучше, если ей удастся рассеять эту печаль, вселить в него веру.
– Я оптимист, Мельба! И встреча с тобой, твой приезд только укрепляют мой оптимизм, – неожиданно проговорил он, словно разгадав ее намерения. – Рассказывай, что Куба, как Куба? Мне надо знать все.
Однако вести, с которыми приехала сюда Мельба, не несли радости. Особенно если речь шла о том, чтобы обрадовать бойца, не прекращавшего своих сражений и схваток даже за невидимой линией фронта. Тем более Ньико, который не видел отдачи от своих напряженных усилий, осознавал свое бессилие быть по-настоящему полезным Кубе, Движению, Фиделю, своим соратникам, томящимся в тюрьме. Уж очень вяло и мало занимается общество освобождением монкадистов. От случая к случаю. Нет организованной силы, которая последовательно и настойчиво добивалась бы их амнистии. А уже наступил 1955 год.
И все же! Мельба достала из сумки письмо. Было оно от Фиделя. Уже сам этот факт не мог не обрадовать Ньико. Его дружба с Фиделем несла в себе особый оттенок. Она заметила это еще тогда, когда перед штурмом Монкады они вдвоем явились к ней в дом на Ховельяр, 107. Мало сказать, что они были неразлучны. Каждый из них был восхищен другим, гордился сердечной, искренней дружбой, основанной на близости взглядов, хотя и заметна была несхожесть характеров.
– Вот! Я думаю, это тебе придется по душе! – произнесла Мельба и не протянула, а стремительно вложила конверт прямо в руки Ньико. И после короткой паузы добавила: «Фидель очень встревожен состоянием дел в нашем Движении». Затем села на диванчик, стоявший в уголке, и стала незаметно следить за реакцией Ньико, углубившегося в чтение.
Он был сосредоточен. Было от чего. Мысль заискрилась новой верой. Рождались надежды, и его собственная жизнь стала казаться не только более значимой для общего дела, но и просто необходимой. Можно себе представить, какие чувства испытывал Ньико, читая адресованное ему письмо, если оно и сейчас вызывает трепет и в буквальном смысле слова обжигает душу. Ты теряешь ощущение времени: так свежи и искренни, казалось бы, самые обычные слова. Для историка такое письмо теряет статус официального документа. Особенно если вспомнить, что писалось оно за колючей проволокой, когда вопрос об освобождении Фиделя и его соратников не только не стал стержнем политических баталий, а, напротив, казалось, был забыт.
Фидель писал, что в жизни Движения «наступил период инерции, бесплодности и упадка. Все мои советы оставлены без внимания. Среда, порочная атмосфера страны оказалась сильнее. У меня вызывает неимоверное страдание видеть наших людей запутавшимися в той или иной рутине и тех дорогах, с которых мы давным-давно должны были свернуть». Тревога Фиделя передалась Ньико, и он спросил, что же все-таки делает Хосе Суарес.
– А ничего не делает!
– Фидель прав, когда пишет, что наше Движение переживает кризис. Тысячу раз прав Фидель! – воскликнул Ньико с такой силой, что сидевшая в раздумье Мельба вдруг подскочила. Ньико успел это заметить и подумал: сколько же сил в этой хрупкой девочке. И сколько же в ней бесстрашия. Если бы среди нас было побольше таких, как она и Йейе!
Мельба молчала.
– Я очень огорчен, что живу фактически без пользы для Движения. Я на свободе! В чужой стране! Какая от меня помощь?! Надо кончать с этим, Мельба! Надо возвращаться во что бы то ни стало! Я должен включиться в борьбу! Немедленно… в подполье…
– Ты же не читаешь письмо! Читай! И давай помолчим! Ты сам увидишь, что думает о тебе Фидель.
«Наши товарищи, – говорилось в письме, – находясь в изгнании, перенося голод и трудности с работой и разного рода беды, не могут не впасть в отчаяние. Материальная помощь, которую им оказывают те, кто имеет огромные средства, неизбежно связывает им руки. Я знаю, будь мы в Мексике, они пришли бы к нам, и мы все вместе, в этом я уверен, возвратились бы на Кубу даже вплавь и без особых объявлений на этот счет. Но мы находимся в заключении, а они вернутся с кем угодно, следуя зову родины, даже под угрозой смерти и под руководством того, кого им навяжут, у кого не более высокие идеалы, а большая мошна. Меня беспокоит их судьба, потому что они хорошие люди, и Куба нуждается в них. Движение 26 июля исключается из всех затеваемых революционных планов. Основную вину за это я возлагаю на тех руководителей, которые находятся на Кубе. Они слепы до самоубийства. Просто невероятно, как они не видят, что против Движения 26 июля плетется грозный заговор всех заинтересованных сил…»
– Я в изгнании! Это верно. Но я никогда не вернусь в страну ни с какой другой силой, кроме Движения. Нашего Движения! Я могу вернуться на Кубу хоть завтра, хоть сейчас. Что имеет в виду Фидель, когда он говорит, что «они вернутся с кем угодно»? Такие люди нашему Движению не нужны! Это же ясно.
– Всякие люди есть, Ньико.
– Но не всякие люди нужны нам! И не всякие люди – наши, – горячился Ньико.
– Тревогу Фиделя надо понимать правильно.
– Я понимаю, что он хочет сказать. Я давно собираюсь вернуться. Но на это мне нужно разрешение Фиделя. Я очень прошу тебя поставить перед ним этот вопрос.
– Но, Ньико, ты не дочитал письма.
– Я не могу читать его, не вступая в диалог с Фиделем, с тобой, с собой. Я вижу, что Фидель прав, глубоко прав в своих опасениях за судьбу и будущее нашего Движения. Меня, как и Фиделя, возмутило заявление Араселио Аскуя в «Испанском клубе». Он повторял нелепости, которые слышал. Слова, сказанные людьми, которые не думают и не хотят задумываться над тем, что происходит в стране. Фидель как раз приводит в своем письме кусочек его выступления. Ты только подумай, что говорит этот «гуахиро»[8 - Гуахиро (куб.) – крестьянин, мелкий фермер.] Аскуй: «Многие говорят, что штурм казармы Монкада был необдуманным и безумным предприятием, не имевшим четкого плана. Но именно в этом критикуемом обстоятельстве и есть его сильная сторона. Они шли не затем, чтобы взять власть. Они шли на смерть». Что значит: «шли на смерть»? Разве это не чушь? Да, мы шли на смерть. Но во имя наших революционных идеалов, во имя нашей программы. У нас была определенная цель – свергнуть тирана. А как изображают нас всякие Аскуи? За правильное понимание наших идей тоже надо бороться. Надо уметь донести до всех, чего мы хотели добиться штурмом Монкады! Нет, не смерти! Не пустой жертвы, а осуществления чаяний многострадальной Кубы.
– О том же пишет и Фидель. Вы одинаково относитесь к Движению, одинаково понимаете его цели и его место в революции.
«Мои инструкции, которые даются всегда с полного согласия других заключенных, – говорилось в письме, – не выполняются, или выполняются плохо, или полностью не признаются. В этих условиях мы не можем осуществлять руководство Движением отсюда. Знайте, что с этого момента такая обязанность целиком и полностью ложится на вас. Не нужно больше устраивать дискуссии по этому вопросу. Что касается меня, то я с этого момента полностью слагаю с себя эти полномочия. И не теряйте времени, пытаясь меня переубедить. Мне не нужны ни призрачные посты, ни разговоры ради разговоров. В ваших руках – жизнь всех наших товарищей и ответственность перед историей. Эту ответственность мы не хотим брать на себя, не имея никакой информации и совершенно не зная, что на самом деле происходит на воле. Желаю вам осуществлять руководство достойно и лишь прошу не забывать о памяти павших и не делать ничего, что запятнало бы ее. Когда-нибудь мы соберемся вместе, обсудим все и потребуем ответа. Если в результате этого Движение распадется, если многие дезертируют и покинут прекрасное знамя, под которым мы пошли на смерть ради подлинных идеалов, мы, оставшиеся здесь, все начнем сначала».
– Неужели речь Фиделя так до сих пор и не издана? – с удивлением спросил Ньико.
Мельба на мгновение остановила свой пристальный взгляд на соратнике, затем распахнула свою дорожную сумку и извлекла из ее тайников брошюру.
– Что же ты молчала? С брошюры и надо было начинать!
– Не все сразу, Ньико. Все должно идти по порядку. Спасибо Курите. Видишь, не так уж мы и бездействуем! Но если бы не письмо Фиделя, которое ты прочитал, вряд ли эта брошюрка увидела бы свет. Стало стыдно всем честным членам нашего Движения, что наша программа борьбы мало известна народу.
– Но, Мельба, это уже большой прогресс!
– Согласна! Даже очень согласна! В Мехико я буду недолго. Йейе на Кубе одна. Она не совсем здорова. Сказываются, наверное, пережитые потрясения, нагрузки. Надо возвращаться. Я все передам Фиделю. Все, что ты сказал и о чем ты просил.
– Главное, добейся, чтобы он разрешил мне вернуться на Кубу.
– Что и как решит Фидель, мы обсуждать не будем. Речь Фиделя поможет нам сейчас мобилизовать народ на борьбу за амнистию. Не сомневайся, народ добьется своего. Начало этой борьбе, считай, уже положено!
После довольно долгой паузы Мельба очень внимательно посмотрела на Ньико и произнесла: «Письмо, которое ты читал, адресовано нам всем. Но я привезла тебе письмо, адресованное только тебе, Ньико. Оно от Фиделя». Ньико просиял. Письмо было большим, обстоятельным и, как правильно заметила Мельба, очень личным.
«Говорю тебе со всей ответственностью, что в этот трудный для всей страны момент для нас на первый план выходит подготовка к длительной борьбе, которая завершится воплощением страстных чаяний народа, утвердит его право на лучшую долю. День за днем разработанная нами линия поведения помогает нам завоевывать симпатии все большего числа людей. Наши идеи, мысли, дисциплина стали уже для нашего поколения руководством к действию. Недолго нам еще быть в заключении: на нашу защиту встает общественное мнение. Массы выступают за наше освобождение. В конце концов, не столь уж важно, сколько мы еще пробудем в тюрьме.
Пишу тебе это письмо от всего сердца. Я нахожусь в тюрьме уже более семнадцати месяцев, десять из которых – в одиночной камере, и начисто лишен возможности общаться со своими товарищами. Однако действует наша академия, а также библиотека. Ты не представляешь, с какой жаждой люди повышают здесь свой моральный дух, закаляют свою страсть к борьбе.
Энтузиазм и пыл никогда не покидали нас. Готовность к самопожертвованию и страстное желание продолжать борьбу – вот то, что нами движет. Между тем политиканы, которые никогда не были революционерами, а только рядили себя в тоги революционеров, сейчас делают все, чтобы превратить Кубу в пьедестал для реализации своих мещанских амбиций. Мы же готовим себя для большой революционной работы, неся на алтарь самопожертвования все, чем владеем.
Заключение для нас – это школа, академия борьбы, от которой нас не удержать, когда пробьет наш час. Между тем ничего подобного не приходится ждать от политических партий и псевдореволюционных групп, чью полную неспособность к борьбе доказывает их поведение на протяжении более чем трех лет. Только мы своей кровью, потом, готовностью к жертвам, бескорыстием и идеализмом несем в наших сердцах луч надежды. Мы проиграли одно сражение, но заслужили право на то, чтобы народ нами гордился. Мы вернемся к борьбе до полной нашей победы или гибели. Пусть нет у нас материальных средств, зато у нас есть честь и разум.
Ты помнишь, как нас пытались опутать интригами политиканы и псевдореволюционеры? Не знаю, известно ли тебе, как зверски вели себя варвары от политики по отношению к пленным, которые были захвачены во время штурма Монкады. Мы, однако, готовы и дальше гибнуть, переносить лишения и тюрьмы ради того, чтобы двигаться вперед.
Да! Порой мы бывали слепы. Среди нас были предатели. Имело место безумие. Теперь наша задача состоит в том, чтобы следовать путем революционной борьбы, объединившись с теми, кто не занимает важного положения в обществе и не имеет влиятельной организации. Себя я считаю частью кубинского народа, но народа чистого и честного…
Эка беда, что у нас нет сейчас материальных средств. Зато в нашем багаже такое событие, как 26 июля! Да, нас заперли в тюрьме. Но за дело, которое несет благополучие народу! Да, мы гибли. Но гибли не зря!
Я знаю твои качества борца, знаю, что ты хороший человек, и потому пишу тебе откровенно обо всем, что меня заботит. Уверен, ты все поймешь правильно.
Мои братские объятья – всем тем, с кем встречаешься, всем тем, для кого живы наши принципы. Что же касается других, то на них не стоит тратить слов. Рано или поздно мы вернемся на Кубу, чтобы следовать той же дорогой, которую мы избрали 26 июля».
Ньико читал и перечитывал письмо. Оно взволновало его. Фидель был против его нелегального возвращения на Кубу. Грели душу слова Фиделя: «возвращаться нужно как члену Движения 26 июля, как герою Монкады». Это было возможно только после амнистии.
Пронзительная искренность, исповедальность письма, неукротимый романтизм и нескрываемая радость пишущего от осознания того, что есть на воле друг, соратник, единомышленник, которому можно все высказать, является лучшим доказательством высокой нравственной чистоты ядра Движения, возложившего на себя задачу стать авангардом в грядущем сражении с тиранией.
Одновременно к этому, на первый взгляд, частному письму следует относиться и как к важнейшему политическому документу. В нем нашли отражение организационные принципы построения нового революционного объединения. Автор убежден в том, что тюремное заключение, лишающее авангард возможности прямого общения с массами, не только не является препятствием для отстаивания своих позиций, но и, напротив, может быть использовано для политического воспитания народа, мобилизуя его на борьбу с властью, например, в целях освобождения политзаключенных.
Политический характер этому письму придает и осознание автором своей ответственности за каждый шаг в борьбе, ибо любой подобный «выход на связь» с массами обретает общественную значимость. Ведь подобный шаг у всех на виду – и у друзей, и у врагов.
Наконец, из этого письма видно, что именно ему, Ньико Лопесу, надлежало стать главным лицом, ответственным за проводимую в эмиграции работу, на него возлагались обязанности по разумному использованию имевшихся в его распоряжении сил. Он был уверен, что в стране всегда найдутся люди, готовые их поддержать.