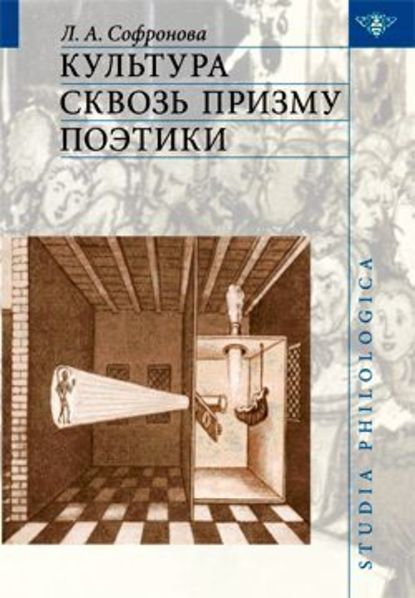По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Культура сквозь призму поэтики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В. Пеликан, ставший пожизненным ректором университета, славился как азартный игрок и борец со всяким вольномыслием, чем добился как наград сенатора, так и палок от студентов. М. Годлевский написал стихотворение под выразительным названием «Проклятие Пеликану». Ходили слухи, что он, поссорившись с сенатором, отравил его в 1838 г. Кроме того, на страницы поэмы попали Генриетта Ева Анквич и Марцеллина Лемпицка, знакомые Мицкевича по итальянскому путешествию. Они молятся за виленских узников, скорбят о поэте, томящемся в заключении, читают его «Баллады и романсы».
Отразилась в «Дзядах» и литературная жизнь того времени. Мицкевич собирает в варшавском салоне литераторов, исповедующих классицистские взгляды, Ф. С. Дмоховского, Л. Осиньского, который ищет античные параллели судьбе Чиховского, упоминает Ю. У. Немцевича, К. Бродзиньского. Вводит в текст поэмы подлинные литературные произведения того времени, например, А. Горецкого. Рассказ старого капрала во многом перекликается с повестью А. Касиньского «Vivat Polonus unus defensor Mariae» (изд. в 1845 г.). Практически это средневековый миракль, представляющий чудо Богородицы, переделанный в новеллу. Мицкевич не случайно процитировал именно этот текст. Он и сам обращался к жанрам религиозного театра.
Мицкевич в III части поэмы не изменил места действия. Первые ее сцены протекают в Базилианском монастыре при Остробрамской улице в Вильне, где содержались под стражей студенты. Затем оно переносится во дворец. В бывшем епископском дворце жил сенатор Новосильцев, который сам допрашивал арестованных. Так семантическая вертикаль – дворец / тюрьма – выстраивается в «Дзядах». В Варшаве встреча персонажей происходит во дворце генерала В. Красиньского, отца поэта З. Красиньского, который устраивал известные литературные вечера.
Обращение Мицкевича к реальным историческим событиям и лицам было важным литературным открытием. Это – не условно вымышленные герои, а люди, которых многие знали и помнили к моменту выхода III части, это – события, о которых не забывали поляки. Таким образом, поэма была не только посвящена польской истории – она воплотилась в ней. Так Мицкевич приблизился к границе, разделяющей искусство и жизнь, так «Дзяды» втягивали жизнь в пределы искусства.
Поэт с большим вниманием относился к появившемуся в то время жанру исторических сцен, которые были очень популярны в двадцатые годы XIX в. Он видел в них новые формы синтеза поэзии и театра. Исторические сцены не предназначались для постановки, в чем были сходны с зарождавшейся романтической драмой. Они несли на себе печать парадокументальности. Ю. Клейнер называл их сценическими репортажами [Kleiner, 1948, 258]. Мицкевич явно ориентировался на них, создавая III часть «Дзядов». Но это был не единственный его ориентир. Тюрьма и дворец, юношество с его порывами к свободе и ничтожное светское общество, русские чиновники – вот его «исторические» зарисовки. Значимость «выхода» в действительность была не только в точной передаче исторических фактов, тем более при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что они преломлялись, трансформировались и не всегда совпадали с реальностью. Трансформации состояли в том, что поэт окружил друзей юности ореолом мученичества; их преследователей превратил в служителей сил зла, не исказив при этом их исторический облик. Так Мицкевич возвеличил современную ему польскую историю и смысл тех жертв, которые пришлось принести полякам.
Жорж Санд однажды удачно заметила, что фантастический мир находится не вне действительности, ни над, ни под ней. Он – душа всякой действительности и живет во всех ее проявлениях. Мицкевич создал, конечно, не фантастический мир, а мир сакральных значений, который стал «душой» «Дзядов». Он придал сакральные черты реальным событиям. Сакрализация истории, ее отрезка, в который жизнью был вписан сам поэт и его близкое окружение, была плодом не только его размышлений и мессианистских настроений. В таком ключе эти события воспринимали сами их участники. Находясь в тюрьме, юные филоматы «прочитывали» произошедшие с ними события в терминах, раскрывавших их высокое предназначение. Т. Зан писал о том времени: «Мы не только не пострадали, не только не ослабели, не только не утратили своего блеска и совершенства, но скорее приобрели – приобрели силу и славу. И это не искорка, а звезда, ведущая нас к небу среди разбушевавшихся стихий» (цит. по: [Inglot, 1977, 70]).
Теперь рассмотрим, как Мицкевич вписывает в реальный исторический план приметы сакрального. Точнее, он предпочел обратную ситуацию – история у него вписывается в христианский космос, который на мистериальной сцене представлялся трехъярусным пространством, ориентированным по вертикали. В «Дзядах» этот тип пространства не реализуется в конкретных измерениях. Но все же это пространство намечено в Прологе, в третьей и четвертой сценах. Здесь ангелы спускаются с небес, и ремарки гласят: «видимые сходят», «улетают ввысь». По вертикали движутся Дьяволы, которые мучат Сенатора. Только направляются они не вверх, а вниз, в ад. Как бы следуя за моралите, Мицкевич вводит в действие противопоставленные силы, которые ведут борьбу за душу человеческую и утаскивают ее в ад или уносят на небо. Ангелы сражаются за героя с посланцами ада, которые хотят завладеть его душой. Они же предвещают его освобождение. Так обычно выглядит финальная сцена моралите, когда решается судьба грешника в его загробной жизни. Тогда за него борются ангелы и посланцы сатаны, вершится суд над грешником. Мицкевич превращает финальную сцену моралите в пролог.
Невидимая вертикаль заложена в Большой Импровизации Конрада. Он стремится взлететь в небо и падает в пропасть, ибо ничем другим не может закончиться сражение с Богом. Вертикальная ориентированность просматривается в Видении Петра: преображенная, воскресшая Польша-Христос возносится на небо, на землю спускаются ее белые одежды.
Способствует вытягиванию пространства по вертикали опера Моцарта «Дон Жуан», отрывки из которой введены в восьмую сцену III части. В тот момент, когда Юстын Поль требует мести, спрашивая, кто отомстит, Петр отвечает: Бог. Звучит ария Командора, появившегося из ада. Так в тексте поэмы возникает косвенное указание на строение картины мира, напоминание о том, что ад есть и туда отправится не только оперный герой. Аду противостоит Бог, который отомстит за прегрешения на земле. Так в слове намечается то пространство, в котором на самом деле происходят все события и которое поэт не предлагает воспроизводить на сцене.
Этому пространству соответствует вечность. В драматической поэме представлено время историческое, через которое просвечивает вечность, не знающая перемен настоящего, прошедшего и будущего. В вечности все было, есть и будет. В историческом времени идет жизнь арестантов, допросы, самоубийства, ссылки, но «Дзяды» – это не плоскость, на которую нанесены линии реальных событий. Это объемная структура, и эту объемность во временных измерениях придает поэме мифологически понятое время-вечность. В нем совершается надмирный пласт сюжета. Он не возвышается над историей, а пересекается с ней, что дает повод увидеть в ней проявление вечного сакрального.
Теперь попытаемся выявить черты мистерии и моралите, заложенные в «Дзядах». В этой главе мы уже показали, как эти жанры связаны между собой, как моралите входит в мистерию с функцией отражения вечного в частном. Точно так же они связываются у Мицкевича. Сквозь призму моралите он показывает обращение Густава в Конрада. Поэт так перестраивает моралитетные мотивы, что они сливаются с романтической драматической поэмой, образуя синтез. Его герой отвращается не от мирского, а от частного, личного и становится не праведником или святым, к чему стремится раскаявшийся грешник, а мучеником за свободу. Тема мученичества в моралите почти что обязательна. Обычно герой моралите страдает за веру, гонимый правителем-язычником.
Моралите нужен поэту, так как его действие разворачивается в условном пространстве внутреннего мира человека, строится на борьбе, происходящей в душе каждого. Только борьбу эту вели между собой аллегорические фигуры, знаменующие отдельные черты этого Каждого. Романтик стремится проникнуть в человеческую душу, чувства, выявить таинственные переходы от зла к добру, их непримиримые противоречия. Моралите вмещает в себя порыв к вере и чистоте, тему раскаяния, а также раздвоения «Я». Он предлагает верить в чудо преображения и возможное обращение. Грешник становится праведником, оставляет мир, уходит в монастырь, в пустыню, раздает имение – вот центральные мотивы этого жанра, означающие отказ от мирского, грешного и служение Богу. Мицкевича, стремившегося возвысить психологический опыт, очистить его от повседневности, возвеличить жизнь души, моралите не мог не привлечь. У него Густав обращается в Конрада.
Это обращение вторит чуду моралите. Мицкевич его так и предлагает воспринимать. Чудо для поэта – это органическая часть всякого произведения, подлинная суть жизни. «Каждое поэтическое произведение имеет в глубине органическую, таинственную жизнь, по-школьному именуемую чудом, которое, развиваясь, по мере того как ширится произведение, в стихах и песнях пробивается, как легкое дуновение из небесных краев, а в эпопее и драме приобретает видимый образ божества» [Мiсkiewicz, 1955, T. 11, 118]. В «Дзядах» это чудо – умирание и воскресение персонажа в новой ипостаси – идея универсальная для европейской культуры. «Смерть может быть расположена в середине существования (ср. инициацию), после чего происходит коренное перерождение, но существование остается продолжением прежнего бытия, а не появлением нового» [Лотман, 1973, 80].
Густав сбрасывает с себя ветхие одежды и превращается в Конрада, (ср. замену имен Савла на Павла, Симона на Петра). Преображение Густава можно интерпретировать и как одну из многочисленных версий преображения ветхого Адама, как знак встречи с вышними силами. Имя, принимаемое Густавом, значимо, оно напоминает о главном герое поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод». Возможно, что преображение, символизируемое сменой имени, не таит в себе антитезы. Мицкевич не наделяет Густава чертами, противоположными характеристике Конрада. Его новое имя скорее знаменует концентрацию героя на идее свободы. Напомним, что смена имени была обязательной частью в акте преображения у Сен-Мартена, который искал в создаваемой им новой религии свободы и единства. Преображение Густава в Конрада происходит в день осенних дзядов, что напоминает об обряде поминовения.
Некоторые персонажи моралите не были способны к раскаянию. Образ такого грешника соотносим с царем Иродом. Эпизод Ирода активно развивался в мистериях, например, в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского. Он бывал столь обширным, что практически выстраивалась вставная драма об Ироде.
Ирод совершил страшный грех, приказал убить вифлеемских младенцев, чтобы вместе с ними уничтожить только что родившегося Иисуса. За это он наказан ужасной болезнью и смертью. Попав в ад, он оттуда извергает проклятия и жалуется на свою посмертную судьбу. Такова примерная канва, по которой в мистериях развивается сюжет об Ироде, вобравший в себя также приметы пьес о власти. Выросшие на основе моралите, эти пьесы имели своим главным героем властителя. Тиран, преследующий мучеников за веру, убивающий своих соперников, часто появлялся на польской школьной сцене. Его черты приписывают Ироду в поздних мистериях.
В III части «Дзядов» можно обнаружить отзвуки драмы об Ироде [Софронова, 1982]. Конечно, «первичный» сюжет здесь размыт и сливается с историческими реалиями. Но он задает семантическую параллель историческим событиям, притом явную. Поэт, возвращаясь к евангельскому сюжету, не просто переводит исторические события в план сакрального, а дает им оценку с самой высокой точки зрения, как бы заранее обещая «падение во ад» преследователей виленской молодежи. Параллель, проведенная между участниками недавних событий и евангельским персонажем, «по мнению Мицкевича, предвещала как морально-духовный, так и исторический переворот, падение тирана и освобождение народа» [Kuderowicz, 1973, 10].
Тема Ирода задана в предисловии к «Дзядам»: «Zdaje sie, ze krоlowie maja przeczucie Herodowe о zjawieniu sie nowego swiatla…» [Mickiewicz, 1955, 123] – «Видимо, государи, как некогда Ирод, предчувствуют появление в мире нового светоча…» [Мицкевич, 1952, 125]. Возникает эта тема всякий раз, как на сцене появляется Сенатор или упоминается царь. Обращаются к мотиву Ирода заключенные: «Panie! No ni sadami Pilata / Przelales krew niewinna dla zbawienia swiata, / Przyjm te spod sadоw cara ofiare dziecinna / Nie tak swieta, nie wielka, lecz rоwnie niewinna» [Mickiewicz, 1955, 147] – «Господь! Чтоб мир спасти, когда-то, / Ты пролил Сына кровь – таков был суд Пилата. / Ты слышал суд царя – прими, как жертву, вновь / Равно невинную, хоть не святую кровь!» [Мицкевич, 1952, 148]. Священник Петр в Видении зрит Ирода, которому отдана в руки вся молодая Польша: «Panie, cala Polska mloda / Wydana w rece Heroda» [Mickiewicz, 1955, 189] – «Ce лютый Ирод встал и жезл кровавый свой / Простер над Польшей молодой» [Мицкевич, 1952, 185]. Имя Ирода звучит в речах Евы, несчастной матери Роллисона и даже жены Советника.
Образ Ирода наложен на образ Сенатора, который ведет себя сходно с ним. Центральный эпизод во вставной драме об Ироде в мистериях – избиение младенцев. Иногда драматурги предпочитали показывать только, как оно готовилось и чем закончилось. Ирод советовался с приближенными, ему приносили головы младенцев в доказательство исполнения приказа. Иногда этот эпизод представлялся и более подробно. Ирод желает безграничной власти и жалуется на ее тяготы. Испытывает тревогу и страх, предчувствуя свою страшную смерть. Ирод всегда окружен приближенными. Мицкевич эту линию сделал подосновой в III части «Дзядов» для создания образа Сенатора.
Сенатор, как и Ирод, выступает не один, а с приспешниками, которые напоминают слуг Ирода. Мицкевич намечает тему неверных слуг, оставивших властителя на смертном одре. Сцена гибели приспешников соотносима с эпизодом смерти Ирода от тяжелой болезни, стонущего в зловонии и покинутого всеми приближенными. Некоторые мотивы драмы об Ироде Мицкевич сосредоточивает во сне Сенатора. Этот новый Ирод видит письмо, написанное ему самим царем, орден, сто тысяч рублей. Представляется ему, что он получил новый чин. Во сне переживает тяготы власти и впадает в немилость. В нереальный план сна переносятся тревоги и страх неминуемой смерти: «Ach, umieram, umarlem, pochowany, zgnilem, / I tocza mie robaki, szyderstwa, zarciki» [Mickiewicz, 1955, 197] – «Я умираю, мертв… Уже я тлен, гнилье, / И червь презрения жрет естество мое» [Мицкевич, 1952, 191]. Сенатор видит, как дьяволы раздирают его душу и одну половину тащат на край света, где начинается ад. Муки его должны продлиться до третьих петухов. Сон Сенатора, таким образом, – это манифестация кары, которая ждет грешника за гробом.
Сон, предвещающий расплату за содеянное, зачастую видел и мистериальный Ирод. В мистериях им руководят силы зла, это они нашептывают ему коварные планы. Черти во сне окружают Сенатора из «Дзядов». Правда, в основном, они выполняют функции чертей из моралите, наказывающих грешника. Они охотятся за Сенатором и грозят утащить в ад. Видимо, некоторое значение для трактовки образа Сенатора, соотносимого с Иродом, могла иметь шопка (вертеп), к которой романтики относились с большой заинтересованностью. В ней представлялась пьеса об Ироде. В XIX в. она воспринималась как политическая сатира [Гусев, 1974].
Преследования виленской молодежи читаются в «Дзядах» как избиение вифлеемских младенцев. Молодость филоматов и филаретов подчеркивается особо. Мицкевич отступает от реальности, чтобы усилить тему невинной жертвы. Их жестокое наказание, ссылка, оказывается созвучной этой теме, что поддерживается евангельским мотивом зерна, отнесенным к юным арестантам [Witkowska, 1975, 144–148].
Можно указать еще на некоторые моралитетные ходы в III части «Дзядов». Во многих моралите вводится мотив жертвы во имя другого. Герой становится на место брата, друга, слуги, чтобы принять на себя его судьбу и тем самым спасти от мучений и даже смерти. В этом мотиве видится отсылка к добровольной жертве Христа за грехи человеческие. В «Дзядах» священник Петр готов занять место Конрада в тюрьме: «Теп mlody, zrоb go za mnie sluga Twojej wiary, / A ja za jego winy przyjme wszystkie kary» [Mickiewicz, 1955, 182] – «Вели, о Боже, стать ему твоим слугой, / А за его грехи принять вели мне кары» [Мицкевич, 1952, 178].
III часть «Дзядов» роднит с моралите художественное пространство, в котором происходит действие. В моралите часто противопоставляются дворец и тюрьма. Очевидно, что Мицкевич воспроизводит в поэме пространство реальное, правдоподобное. Но дворец и тюрьма, где томятся юные узники, сменяют друг друга как верхняя и нижняя точки не только реального, но и метафизического пространства. Кроме того, по замечанию Я. Винярского, тюрьма – бывший монастырь, т. е. отмеченная точка сакрального, ныне искаженного пространства [Winiarski, 1986, 280]. Дворец и тюрьма символизируют моральное возвышение персонажа моралите и падение. В соответствии с христианской трактовкой высокого и низкого высшей точкой морального состояния оказывается тюрьма, низшей – дворец. Эти точки у Мицкевича постоянно взаимодействуют. Во дворце ведутся разговоры о тюрьме, в тюрьме – о дворце. В одном случае тюрьма и дворец совмещаются. Это происходит во дворце Сенатора, куда приводят узников, а мать Роллисона стоит на коленях перед убийцей сына. Сенатора от просительницы отвлекает юная красавица, которая зовет его танцевать.
Моралитетный характер этой части «Дзядов» проявляется в развязке. Гром, который поражает Доктора, – это не явление природы, не «бег натуры», как хотелось бы думать Сенатору, а кара свыше, воплощенный вопль матери Роллисона. Этот гром среди ясного неба, считает В. Вейнтрауб, раздается по всем правилам. Неожиданно становится темно, начинается страшная гроза, и Доктор умирает под раскаты страшного хохота: «Ktos na ulicy (smiejac sie). Cha – Cha – Cha – diabli wzieli» [Mickiewicz, 1955, 250] – «Прохожий (на улице, смеясь). Ха, дьявол с ним!» [Мицкевич, 1952, 238]. Кара настигла Доктора, несмотря на громоотвод, что кажется совершенно непонятным в эпоху преклонения перед электричеством. Так вторжением внешних сил завершается жизнь одного из грешников, которые в моралите могут появляться и после смерти. Так происходит и у Мицкевича.
В последней сцене III части «Дзядов» выступают Доктор и Байков. Они – устрашающие мертвецы с длинными руками и горящими глазницами. Их рвут на части черные псы, а их тела, разорванные этими адскими созданиями, оживают вновь и вновь. Как известно, расчленение считалось одной из самых страшных казней, ибо препятствовало выходу души из тела, которая в результате погибала вместе с ним. Казнь эту повторяют в «Дзядах» бесчисленное множество раз. Заметим, что аналогично описаны адские муки в романе Ф. М. Клингера «Жизнь Фауста, его деяния…». Безобразные тела мертвецов у Мицкевича кишат пресмыкающимися, жабами. Эти картины ужасов смерти отнюдь не метафизичны, а предельно наглядны, что всегда характерно и для моралите, где подробно описывались гниющие тела грешников. Они также выводились на сцену, как у Георгия Конисского в моралите «Воскресение мертвых». Мертвецы ссорятся друг с другом и даже готовы мстить один другому. Один из них поддается тут же развеивающимся женским чарам.
Появляются в «Дзядах» и непременные персонажи моралите, черти. В сцене импровизации Конрада обступают духи слева и справа, сражающиеся между собой. Злые духи, подобно чертям из моралите, уже готовы оседлать его душу: «Wsiasc musze / Na dusze /Jak na kon» [Mickiewicz, 1955, 165] – «Одним прыжком / На душу верхом / И вскачь, вскачь, / Напролом!» [Мицкевич, 1952, 164]. Они препираются между собой, поддевают друг друга рогами, кривляются и ругаются. Прячутся, едва завидев священника. Появляются черти и рядом с Сенатором. Они пугают его адом, пытаются утащить туда его душу, чтобы поджарить, играют с ним, как кошка с мышью. Вельзевул, действуя в традициях народного религиозного театра, не велит продолжать жестокие забавы – вдруг Сенатор испугается и захочет исправиться, что чертям совсем не на руку.
Черт, которого выгоняет из души Густава-Конрада священник Петр, также ведет себя, как подобает комическому черту. Он представляется простачком среди чертей: «Wszak ja diabel prosty» [Mickiewicz, 1955, 177] – «Я черт в мизерном чине» [Мицкевич, 1952, 174]. Он беспрестанно кривляется, притворяется, что не может говорить, так как болен и хрипит, но тут же поет и танцует. Он постоянно путает языки, говорит по-польски, по-французски, по-немецки, по-английски. Отрицательные персонажи, а также представители иного мира, носители зла обычно изъясняются ломаным языком, что должно пугать, как все непонятное. Отчасти разноязычие черта может быть объяснено распространенными поверьями, о которых поэт мог слышать. Считалось, что душой человека овладевает не один черт, а несколько, и каждый из них говорит на своем языке и имеет свое имя. Священник Петр поэтому называет его стоязыкой змеей. Черт сам выкрикивает множество своих имен и так подводит итог их списку: Legio sum. Он ведет себя, как «обезьяна Бога», недостойный его подражатель, «трикстер и полишинель неба и земли» [Панченко, 1984, 79]. Сражение с монахом он проигрывает, Конрад приходит в себя и выздоравливает.
Мицкевич представляет эти традиционные фигуры моралите в соответствии с присущей им природой. С одной стороны, они таят в себе опасность, с другой – это комические персонажи. Обязательная амбивалентность фигуры черта соблюдается Мицкевичем, внесшим свой «вклад» в дьяволиаду романтизма. Рядом с Мефистофелем Гете, персонажами готических романов («Влюбленный дьявол» Ж. Казот), господином в сером А. Шамиссо располагаются и черти из «Дзядов». Они остаются в их привычном облике, не антропоморфизированы и ведут себя, следуя правилам, предписанным моралите.
Если образы преследователей и гонимого юношества тяготеют к моралите, то другие мотивы III части «Дзядов» имеют смысловые аналогии с мистериями – рождественской и пасхальной. С помощью мистериальных реминисценций Мицкевич достигает сложного и многозначного решения своей основной темы, поддерживаемой указаниями на реальное время действия. Петр пророчествует о рождении спасителя народа, что имеет соответствия с рождественской мистерией: «Patrz! – ha! – to dziecie uszlo – rosnie – to obronca! / Wskrzesiciel narodu!» [Mickiewicz, 1955, 190] – «Смотри, дитя спаслось, – растет / Народа дивный избавитель» [Мицкевич, 1952, 185]. Пророчество о рождении Христа входило в развернутую мистерию, выполняло в ней функцию пролога. На сцене появлялись ветхозаветные пророки, очень часто это были Валаам и Даниил. Они предвещали рождение Спасителя. Часто эпизод пророков разрастался до самостоятельной пьесы под названием «Пророки» [Резанов, 1910,56 – 132].
Пророчество Петра отнесено к празднику Рождества, к сочельнику. Сочельник, собирающий на трапезу узников Базилианского монастыря, вносит дополнительное и чрезвычайно существенное значение в сюжет «Дзядов» в целом. Трапеза в тюрьме – знак единения, она объединяет узников и стражника. Идеи обновления жизни, которые несет Рождество – Христос родится в яслях, на соломе и первые часы своей земной жизни проводит среди животных – оказываются смыслообразующими для этого эпизода. Сейчас узники унижены, но скоро будут возвеличены историей. Сквозь призму евангельских событий, через темы праздника Рождества поэт описывает современное положение родины и один частный эпизод ее истории, тем самым поднимая его до ранга священных событий, чему служат не только развернутые сюжетные ходы, но и упоминания о времени действия. Мицкевич по всей поэме расставляет знаки, приметы будущего. Они вписываются в концепцию польского мессианизма, развивавшего идею мученичества родины как необходимой жертвы во имя будущей свободы. Есть в III части и другие мистериальные аллюзии: ангелы поют рождественские коленды, пересказывают содержание рождественских мистерий.
Мицкевич не ограничился сколками рождественской мистерии. В его замысле явно просвечивает соотнесенность III части «Дзядов» с полным циклом церковного календаря. Не только рождение Спасителя, но и его муки, смерть и воскресение стали семантической параллелью польской истории. В католической традиции Рождество занимает более значительное место, чем Пасха, и рождественская мистерия более развита, чем пасхальная. Но поэт-романтик обратился и к пасхальной мистерии, причем таким образом, что сумел осмыслить и поэтически оформить представления о движении польской истории, о будущем значении Польши в жизни Европы.
Сочетание рождественских и пасхальных мотивов образует цикл: рождение – умирание – воскресение, который, по замыслу поэта, соотнесен не только с судьбой ее главного героя, но также с народом и с родиной. Пасхальные мотивы возникают в монологе Яна Соболевского, организующем семантическую структуру первой сцены «Дзядов». Он рассказывает об отправлении в ссылку арестантов, фиксируя внимание слушателей на том, как упал один из них, Василевский: «Niesiony, jak siup sterczai i jak z krzyia zdjкte / Rкce miai nad barkami ioinierza rozpiкte» [Mickiewicz, 1955, 147] – «Несомый, он торчал, как столб, и, как снятые с креста, руки его были раскинуты над плечами солдата». Так, непрямо, вводится центральный христианский символ, крест. Через тему распятия намечается главная идея III части «Дзядов» – принесение жертвы во имя родины.
Напомним, что иногда в польских мистериях на первый план выносилась тема мученичества Христа, символически передаваемая через устойчивый мотив пяти ран Христовых. Известно, что «в постановках он визуализировался на знаменах, перстнях, в констелляции пяти звезд, в изображениях живительных источников» [Kadulska, 1997, 11]. Героическая смерть полковника Соболевского, брата Яна, пораженного пятью пулями, имеет соответствие с этим мотивом, основанное на символике числа.
Видение Петра (пятая сцена) – это ключ не только к III части «Дзядов», но и к истории, о которой пишет Мицкевич, делая ее своим невидимым героем. Видение Петра – это поэтическое воплощение идей мессианизма. Среди жертв нового Ирода он узрел будущего спасителя отчизны. Страдания родины позволяют уподобить ее Иисусу Христу. Она видится Петру окровавленной, в терновом венце. Ее влечет на суд Европа. Суд этот оказывается судом Понтия Пилата. Галл, как и он, умывает руки, а толпа кричит: распни его, распни. Картина, возникающая в воображении Петра, вторит Страстям Христовым. Крик Галла: «Oto narоd wolny, niepodlegly!» [Mickiewicz, 1955, 190] – «Вот народ, узревший свет свободы» [Мицкевич, 1952, 186] – ассоциируется с надписью на кресте: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Лк. 23, 38). Петру представляется путь Христа на Голгофу, которому вторит Польша: Krzyz ma dlugie, na cala Europe ramiona» [Mickiewicz, 1955, 190] – «В длину Европы всей тот крест раскинул плечи» [Мицкевич, 1952, 186]. Петр также слышит плач, но не Богородицы, оплакивающей смерть Спасителя, а Свободы, которая рыдает по Польше.
Поэт настойчиво сближает Видение Петра с пасхальным сюжетом. Петру чудятся муки Спасителя на кресте как страдания его народа. Уже сказал Иисус: жажду [По. 19. 28]. – Польшу напоили желчью и уксусом Борус и Ракус, т. е. австриец и немец. Солдат Москаль, как когда-то один из воинов, пронзил ребро страждущего копьем. Про этого солдата, кстати, Мицкевич мимоходом заметил, что он один исправится, и Бог ему простит. Как считает Ю. Клейнер, здесь над ненавистью к угнетателям побеждает понимание русской души и вера в будущее, которое изменит историческую роль России [Kleiner, 1948, 380]. Вот народ-Христос сказал последние слова: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» – Народ погиб, но Видение Петра на этом не заканчивается.
Мицкевич выстраивает полную параллель пасхальному сюжету. Теперь Петру видится чудесное воскресение. Как воскрес Иисус Христос, так воскреснут родина и народ. Польша в белых одеждах, под пение ангелов возносится в небо. Ее образ совпадает с образом таинственного мужа, ведомого ангелом, мужа с тремя ликами, который стоит на трех коронах, а сам без короны. Заметим, что в одной польской школьной пьесе король стоит на пяти коронах, а сам также без короны. Имя таинственного мужа – сорок четыре, вызвавшее много толкований – каббалистических, биографических (под числом 44 угадывали то Мицкевича, то Товяньского). Их делали и в духе учения Сен-Мартена. Как справедливо заметил В. Вейнтрауб, это число есть сакральный титул. В нем «не скрыта никакая информация, которую нельзя было бы не почерпнуть из текста Видения» [Weintraub, 1982, 246]. Это олицетворенный в числе спаситель Польши.
Видение Петра, подобно барочной мистерии, строится на принципе отражения. Он внутренним оком видит развертывающиеся перед ним евангельские события, совмещая их с событиями историческими. Так происходит соприкосновение смыслов истории и Евангелия. Они проникают друг в друга и сливаются. Так история сакрализуется. Мицкевич здесь прибегает к известному приему префигурации, только перевертывая его. Если ранее, в эпоху барокко, реальные исторические эпизоды служили для передачи евангельских смыслов, то теперь происходит обратное – в муках Христа поэту видятся страдания народа. Теперь евангельский сюжет служит историческому, наполняя его высоким значением. Исторический сюжет насыщается реалиями будущего в пророческом видении ссылки филоматов: «Patrz! Po drogach leci / Tium wozуw – Jako chmury wiatrami pкdzone. <…> Ach, Panie! to nasze dzieci, / Tam na pуinoc – Panie, Panie!» [Mickiewicz, 1955, 189] – «Возки, возки по ним / Летят, как облака под ветром грозовым. / На север, в холод, в бездорожье. <…>Там наши дети, Боже, Боже!» [Мицкевич, 1952, 185].
Знаменательно, что пасхальное Видение священника Петра, как и встреча узников, происходит на Рождество. Идея Богочеловека, человека-народа, рождения и всеискупляющей смерти сливаются. Пасхальные мотивы еще раз возникают в связи с Петром, в эпизоде, где он сам оказывается носителем евангельских значений. Не случайно Ст. Кольбушевский увидел в этом персонаже символ церкви [Kolbuszewski, 1930, 48].
В VIII сцене происходит знаменательная встреча Петра с Сенатором. Здесь Сенатор усиливает Иродовы приметы, приобретая черты всех гонителей Христа. Петр помещен в ситуацию, явно варьирующую вечный сюжет. Поэтому его фигура вырастает, стягивая воедино мессианистские мотивы. Он не только спаситель Густава / Конрада, избавляющий его от безумия, не только заступник страдающей матери юного узника. Он сам претерпевает мучения, и в его облике проступают черты Спасителя, а его мучения перекликаются с муками Христа. Петр как бы идет вслед за Спасителем. Так возрождается концепция Imitatio Christi. Патриотическая тема сплетается с религиозной, а религиозные значения наполняются новым, историческим смыслом.
Петр переживает суд. Сенатор заставляет Петра пить вино. «Masz rumu kieliszek. / Nie pije» [Mickiewicz, 1955, 229] – «Вот рюмка рома, пей! / Нет, я не пью» [Мицкевич, 1952, 220–221]. Напомним: «И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял» [Мк. 15. 23]. Петр не отвечает на вопросы Сенатора. Он молчит, как молчал Христос перед Понтием Пилатом. Пеликан ударяет Петра по лицу. Так издевались над Иисусом: «И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам» [Мк. 14. 65]. Речь Петра, обращенная к Сенатору, полна евангельских реминисценций: «Господи, прости ему, он не знает, что сделал» – «Panie, odpusc mu, Panie; on nie wie, со zrobil» [Mickiewicz, 1955, 232]. Он обращается к Сенатору на ты, чем вызывает негодование преследователей. Как Христос, он говорит притчами. Петр полон презрения, но не гнева. Добавим, что Сенатор называет Доктора и Пеликана свидетелями, характеристики которых соотносят их с евангельскими лжесвидетелями.
Таким образом, сакральные значения, которые поэт придал событийям давней юности, повлекли за собой обращение к священному тексту, а также к религиозным драматическим жанрам. Мистериальные эпизоды перебиваются романтическими монологами, которые вмещают в себя свернутые мистериальные сюжеты – пасхальный и рождественский.
Есть еще одна тема, во многом определяющая единство «Дзядов» и связанная с комплексом мистериальных мотивов. Это тема матери-заступницы, которой оказывается мать узника Роллисона. Слепая и старая, обращается она с мольбами к Сенатору, пытаясь спасти сына. Ее стенания контрастируют с весельем сенаторского бала. В ее образе явно просвечивает священный образ Богородицы, рыдающей около креста. Этот эпизод мог входить в мистерии или отделяться, образуя так называемые плачи Марии (plankty). Образ Богородицы появляется уже в прологе. Ее тема усиливается с рассказом о поляке, которого защитила Дева Мария. Капрал повествует о своем чудесном спасении – за него заступилась Богородица. Богородице молится Ева. Богородица заступается за Конрада, просит архангелов о милосердии к нему. Мать в «Дзядах» – земная Богородица. Она защищает не только своего сына, но всю Польшу. Как известно, Дева Мария – ее покровительница. Мать Роллисона заставляет вспомнить несчастную мать из II части «Дзядов», которую выбрасывает за порог дома Злой барин. Также ее выставляет за порог Сенатор. Тема матери присутствует и в IV части «Дзядов».
Видение Петра, сон Сенатора, а также рассеянные по всей III части ключевые слова, соотносящие ее с Евангелием, имена Понтия Пилата, Ирода создают метафизическое художественное пространство, в котором действуют реальные персонажи. Они выстраивают новую аксиологию польской истории. Сакрализации исторических событий Мицкевич достигает эпиграфом, предпосланным III части. Из 10 главы Евангелия от Матфея он выбрал слова Иисуса, обращенные к Апостолам: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками» (Мф. 10. 17–18). «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10. 22). Поэт опустил 19, 20 и 21 стих, в которых речь идет о слове: «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10. 20). Возможно, что в этом намеренном пропуске кроется замысел поэта приблизить поэму к апостольскому слову, хотя он и не указал на это прямо.
Таким образом, скрытый намек на апостольское слово, божественная история, определяющая очертания современной польской истории, история человеческой души, рассказанная в жанре моралите, раскрывает смыслы III части «Дзядов». Они поддерживаются также мотивом сна, сквозным в этой части поэмы. Этот мотив лишает события конкретных очертаний, что позволяет поэту сделать множество сюжетных сбивов.
Сон был для романтиков «театром души». Ему придавалось огромное значение. Романтики как бы разделяли убеждение Тертуллиана в том, что Бог ежедневно показывает человеку его начало и конец, протягивает руку, чтобы усилить его веру примерами и словами с тайными значениями. «A sen? – ach, ten нwiat cichy, giuchy, tajemniczy, / Їycie duszy, czyi nie jest warte badaс ludzi! Ktoн jego miejsce zmierzy, Kto jego czas zliczy!» [Mickiewicz, 1955, 129–130] – «А сон? – Безмолвный мир, таинственная сфера, / Жизнь духа – вот предмет, достойный мудреца!» [Мицкевич, 1952, 133]. Сон был не только посланием Бога, но и антитезой обыденной реальности. Невидимыми нитями он соединял душу человека с миром духа, индивидуума – с космосом. «Это особенное, более свободное, произвольное соединение мира духовности с миром косности, это состояние, когда целую ночь распахнуты врата по всему горизонту действительности, хотя никто не знает, что за неведомые существа пролетают сквозь них» [Жан-Поль, 1981, 123, 124]. Романтики явно подходили к идее бессознательного, верили в то, что во сне художник может уловить свои замыслы. Сам Мицкевич часто записывал свои сны. Сон для романтиков – это первая ступень искусства, на которой появляются художественные наброски.
Зачастую сон наделяется огромным смыслом, так как он есть реализация внутреннего мира человека, проекция мук совести и страданий души. В поэме Мицкевича сон объединяет два мира. Спит Узник в Прологе, и его сон определяет связь с высшими силами – небесными и силами адскими. Он же излагает концепцию сна, построенную на топосе: жизнь есть сон. Узник отрицает мнение мудрецов, что сон – это воспоминание, игра воображения. Для него сон – это мука, непосильный труд, сама жизнь. Таков первый сон в III части «Дзядов», раскрывающий представление о зиянии между жизнью и смертью, о борьбе добра и зла. Видит благоухающий, легкий и сладкий сон Ева в четвертой сцене. Он построен на природных символах. Видение Петра – сновидение-экстаз, сон-явь, сон-предсказание. О сне Сенатора мы говорили отдельно. Теперь заметим, что иногда сны персонажей переплетаются с реальностью. Увидев Петра у Сенатора, Конрад полагает, что тот ему является во сне.
Очевидно, что и в «реальных» сценах проводятся основные линии смысловой структуры «Дзядов». Пронизанные иронией тюремные сцены манифестируют внутреннюю свободу узников, которую они не утратили в заключении. Как сказал бы Жан-Поль, ирония и смех ведут их в царство свободы. Они свидетельствуют о романтическом духе III части, «для которого никакая художественная форма не может быть вполне соответствующей и только для того создается, чтобы свободный дух человека мог преодолеть ее и подняться над ней» [Жирмунский, 1914, 150]. Ирония и смех существуют в противопоставлении с трагическим началом; им пронизана эта часть поэмы, в которой явственно проступают сакральные смыслы истории.
Ее сакрализация происходит и в «He-Божественной Комедии» Красиньского. Она – романтический суд над историей. Ц. К. Норвид однажды сказал, что если Шекспир имеет право сказать, что знает зло, Кальдерой – что знает добро, то Красиньский с полным правом может утверждать, что знает историю. Он нащупывал связи между прошлым и будущим, между историей и жизнью одного человека. Все его творчество пронизано философией истории, которая явно сливается с религиозными чувствами поэта: «Вся мудрость человеческая заключена в истории. Все предназначения рода человеческого отражаются в ней. <…> Там мысль Бога о людях и мысль людей о Боге, связанные воедино» (цит по: Qanion, 1962, 127]).
Красиньский, как и Мицкевич, разделял мессианистские идеи, увлекался милленаризмом, о чем свидетельствует его «He-Божественная Комедия», которую не раз называли христианской трагедией. Сходен с ней по смыслу прозаический отрывок «Век, в котором ты живешь» и многие другие его произведения. Красиньский, как пишет М. Янион, всегда предполагал, что путь к всемирному благоденствию осеняется верой. Он знал, что всякий бунт не оправдан, что над историей не должно совершаться насилие, ибо ее начертал Бог и человек не в силах менять ее ход. Эти взгляды разделяли многие философы. Так, А. Чешковский в трактате «Отче наш» писал о том, что жертва жертв уже принесена, Христос умер за человечество на кресте, и муки невинных не принесут желаемого освобождения. Кровь не есть печать Бога. К всеобщему счастью нужно идти другим путем.