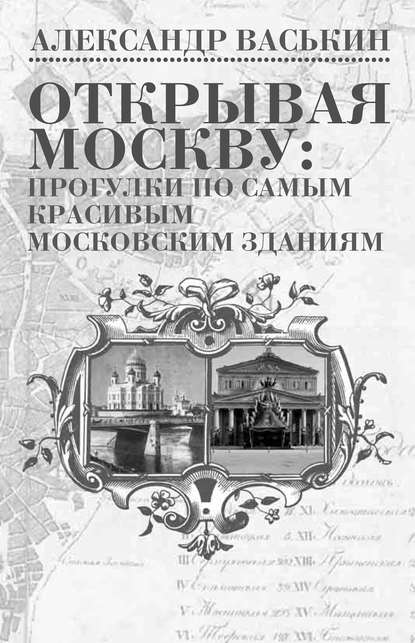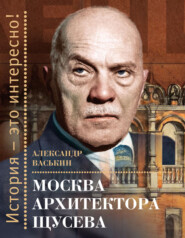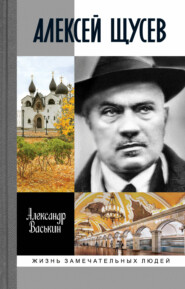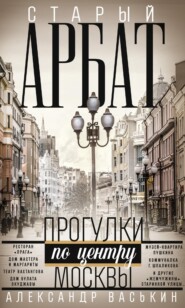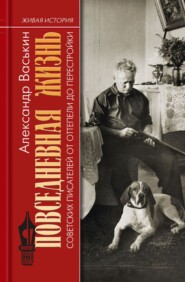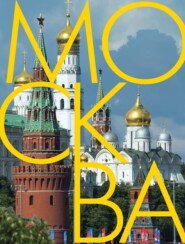По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Открывая Москву: прогулки по самым красивым московским зданиям
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Осенью 1943 года в Бетховенском зале заседала правительственная комиссия во главе с маршалом Климентом Ворошиловым. Маршал и его коллеги занимались тем, что с утра до вечера прослушивали все присланные варианты текстов и музыки. Но ни один из гимнов не устроил комиссию. После очередного прослушивания оглашалось примерно такое заключение: «Предоставленные варианты пока не отвечают необходимым требованиям. Продолжайте работу, дорогие товарищи!»
И надо же случиться такому счастью – среди почти сотни вариантов гимнов (их хватило на целую книгу) внимание товарища Сталина привлекло именно стихотворение Михалкова и Урекляна. Мы не будем давать эстетическую оценку их произведению, тем более что время нынче на дворе стоит совсем другое. И переносить современные оценки на прошлое – дело довольно непростое, да и неблагодарное. Но тем не менее когда читаешь другие варианты гимнов, то выбор Сталина не кажется таким уж субъективным.
Сталин распорядился разослать текст Михалкова и Урекляна всем советским композиторам, незамедлительно откликнувшимся на новое указание вождя. Да и не откликнуться было нельзя, даже опасно. Музыку гимна сочиняли все – Прокофьев, Шостакович, Хачатурян и многие другие.
И вот наступило 26 октября 1943 года. В десять часов вечера состоялось очередное прослушивание музыки, теперь уже в зрительном зале Большого театра. Михалкова и Урекляна усадили в пустом зале. Сталин привычно занял место в боковой правительственной ложе. На сцене – Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии под руководством А. В. Александрова. И началось хоровое исполнение государственных гимнов.
Закончился своеобразный концерт за полночь. Но и он оказался не последним. Вскоре должно было последовать продолжение, поскольку главному зрителю правительственной ложи будущий советский гимн показался каким-то куцым. Не было там ничего про Красную Армию. Сталин позвонил Михалкову и попросил дописать еще один куплет. Два дня сидели авторы за столом, и, наконец, сочинили. Но и этот вариант не стал окончательным. Поэты никак не могли сочинить то, что нужно было товарищу Сталину.
Последние слова гимна дописывались авторами уже в Кремле, в присутствии Сталина и при горячем участии его соратников. Размышляя над одной из строк, вождь обратился к ним:
– Каких захватчиков? Подлых? Как вы думаете, товарищи?
– Правильно, товарищ Сталин! Подлых! – согласился Берия.
Далее обратимся к рассказу самого Михалкова. «Наступил день окончательного утверждения Гимна. В пустом зале Большого театра сидели оба автора текста. В правительственной ложе – члены правительства и Политбюро.
В исполнении симфонического оркестра Большого театра под управлением А. Ш. Мелик-Пашаева, военного духового оркестра под управлением генерал-майора С. А. Чернецкого, Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии под управлением А. В. Александрова один за другим звучат для сравнения гимны иностранных держав, исполняется старый русский гимн “Боже, царя храни!”, гимны Д. Д. Шостаковича и А. И. Хачатуряна на слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. Наконец, на музыку “Гимна партии большевиков” звучит отдельный вариант нашего текста с новым припевом. Этот вариант и утверждается правительством.
Это наш с моим другом Габо (так Урекляна называл Михалков. – А.В.) звездный час. Нас приглашают в гостиную правительственной ложи. Здесь руководители партии и правительства. Кроме тех, с кем мы уже встречались за последнее время, присутствуют В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, Н. С. Хрущев. Здесь же М. Б. Храпченко, председатель Комитета по делам искусств, дирижеры А. Ш. Мелик-Пашаев, С. А. Чернецкий и А. В. Александров, композитор Д. Д. Шостакович.
В гостиной накрыт праздничный стол. Сталин поднял тост…
Мы с Регистаном вели себя свободно, если не сказать развязно – выпитое вино оказывало свое действие. Мы настолько забылись, где и с кем находимся, что это явно потешало Сталина и неодобрительно воспринималось всеми присутствующими, особенно, как я заметил, сидящим в конце стола М. Б. Храпченко, который так и не притронулся к еде.
Мой же неуемный друг Габо настолько освоился с ситуацией, настолько расчувствовался, что вдруг сказал мне во всеуслышание:
– Давай разыграем нашу сценку…
Сталин и все гости посмотрели на нас с интересом. Решив, что теперь нам как бы все можно, я вышел из-за стола в прихожую – для сценки требовалась офицерская фуражка. Там, в прихожей, я схватил первую попавшуюся. Генерал Власик и другие охранники хотели было меня остановить, но не успели, хотя кто-то из них успел выкрикнуть:
– Куда вы? Это фуражка Сталина!
Но я, весь в эйфории успеха, раскрепощенный с помощью изрядного количества тостов, уже, согласно нехитрому сценарию, заглядывал из-за двери прихожей в комнату, где все сидели за столом.
А изюминка нашего с Габо маленького актерского экзерсиса, который мы проделывали не раз в дружеском кругу фронтовых корреспондентов, состояла в том, что будто бы где-то в Подмосковье, на даче упала бомба и вызвали команду противовоздушной обороны. Приехал офицер, то есть я в сталинской фуражке. Трусливый офицер, который боялся шагу ступить по участку, где лежала бомба. И потому спрашивал у населения, поглядывая на опасный предмет издалека:
– Здесь упала бомба?
– Здесь, – отвечают.
– Посмотрите, есть на бомбе какой-нибудь знак!
– Да вы сами сходите и посмотрите…
– Не могу, – ответствует вояка, – все мои подчиненные уже подорвались, я один остался.
– А как же теперь быть-то? – закручинилось гражданское население в лице Габо.
– Так вон же девочка стоит! – оживлялся я в роли смышленого вояки. – Девочка, а девочка, сходи посмотри на бомбочку, какая она есть.
– Как можно! Ребенок же! Вдруг бомба взорвется! И девочка погибнет! – продолжает Габо.
Но я, чуть заикаясь, но весьма бодро отзываюсь:
– Ну и что? Война без жертв не бывает!
…Я и до сих пор не могу понять, как мы с Габо решились так шутить! И почему потом нам это никак не аукнулось?
Но Сталин хохотал над нашим представлением буквально до слез. В тон ему посмеивались и другие. Но до слез смеялся только он один…
Теперь-то мне думается: не над нами ли, распоясавшимися не в меру, смеялся в тот вечер этот могущественный человек? Не над нашей ли прорвавшейся дуростью?..
Однако, видимо, что-то же до меня дошло и возникла в душе смутная необходимость как-то скрасить “буйство” нашей с Габо фантазии… Но как? Дело, как говорится, сделано…
А вечер с тостами все продолжается, и Сталин к нам по-прежнему относится доброжелательно, и вообще ведет себя как дружелюбный, гостеприимный хозяин! Более того, когда мы прощались – он неожиданно поклонился нам, театрально, по-рыцарски, махнув рукой…
А когда мы с Габо остались наедине, он не без тревоги прошептал:
– По-моему, Сережа, мы с тобой перебрали! С этой сценкой… с этой фуражкой!
Но что теперь? Сделанного не воротишь, решили: что будет, то будет…
И пошли спать. А наутро раздался звонок. Звонил председатель Комитета искусств М. Б. Храпченко. Спрашиваю его не очень бойко:
– Ну как там… Михаил Борисович?
Помолчал. Хмыкнул. Отозвался:
– Как… Вы ходили по острию ножа…
Счастливы были мы с Габо, что стали авторами Государственного Гимна? Очень. Не передать словами как. И сегодня я за себя и за умершего своего друга говорю: “Да, были счастливы”».
Шутовская сценка, разыгранная поэтами государственного гимна, была показана ими в гостиной, располагавшейся за правительственной ложей. Здесь, как правило, устраивались банкеты для Сталина и его спутников, накрывался большой стол. Порою приглашали и наиболее отличившихся артистов, наливая им бокалы коньяка и грузинского вина.
Так случилось 13 апреля 1950 года, когда в Большом театре давали «Хованщину». На спектакль приехало почти все Политбюро, своеобразное заседание, начавшееся в Кремле, продолжилось за столом в гостиной. Вместе со Сталиным приехали Маленков, Хрущев, Берия, Булганин, Микоян, Вышинский. «Будем хорошо вас награждать, – обратился к исполнителям главных ролей вождь, – дирижера Голованова, режиссера Баратова, художника Федоровского, балетмейстера Кореня, хормейстера Шорина. Спасибо вам за “Хованщину”!»
К Николаю Семеновичу Голованову Сталин относился сочувственно, назначив его главным дирижером Большого театра в 1948 году. «А все-таки Голованов – убежденный антисемит!» – высказался он в присутствии профессора Дмитрия Рогаль-Левицкого, приглашенного вождем в свою ложу во время одного из прослушиваний гимна. Профессор слыл отличным оркестрантом и сделал окончательную инструментовку гимна.
А было время, когда о «головановщине» Сталин выражался как о явлении «антисоветского порядка». В письме к В. Н. Билль-Белоцерковскому от 2 февраля 1929 года он писал: «Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу».
Голованов работал дирижером в Большом еще с 1915 года, пережил царя, Временное правительство и Ленина, однако начиная со второй половины 1920-х годов стал подвергаться нападкам и травле. Тогда в партийной прессе стало часто употребляться слово «головановщина»: «Нужно открыть окна и двери Большого театра, иначе мы задохнемся в атмосфере головановщины. Театр должен стать нашим, рабочим, не на словах, а на деле. Без нашего контроля над производством не бывать театру советским. Нас упрекают в том, что мы ведем кампанию против одного лица. Но мы знаем, что, если нужно что-нибудь уничтожить, следует бить по самому чувствительному месту. Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли. Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства является одно лицо – Голованов», – писала «Комсомольская правда» в июне 1928 года.
В чем же состояло преступление Голованова? Оказывается, он, консерватор и поклонник классики, протаскивал «в советский театр старые, буржуазные нравы и методы работы», не хотел ставить так называемую новую советскую классику. В итоге в 1928 году дирижера выгнали из Большого театра. Дирижер Кирилл Кондрашин отмечал, что Голованова выгнали за антисемитизм и религиозность.
Затем, в 1936 году, его вернули в театр. Потом опять попросили на выход. Третье пришествие состоялось в том самом 1948 году, когда вышло знаменитое постановление о борьбе с формализмом в музыке. И было это назначение в духе времени и очень символичным. За пять лет художественного руководства театром он в качестве дирижера будто по сталинскому заказу поставил такие оперы, как «Борис Годунов», «Садко», «Хованщина». Николай Голованов ненадолго пережил Сталина (он скончался через полгода после вождя, в августе 1953 года).
Свой последний юбилей – 70-летие – Сталин также отметил в Большом театре, что говорит о многом. Тогда он занял место на сцене, в президиуме, рядом с прибывшим в Москву Мао Цзэдуном. Состоялся торжественный концерт с участием лучших артистов, в том числе и Большого театра.