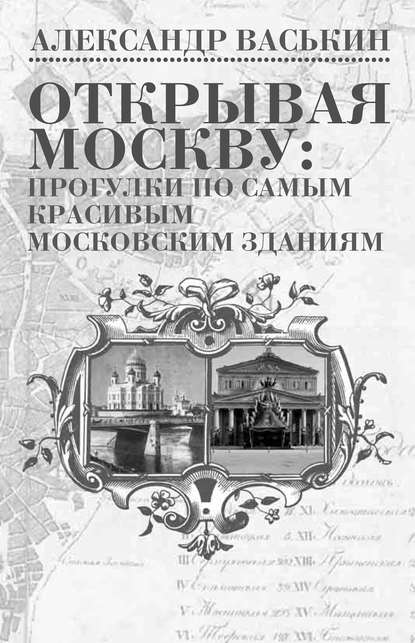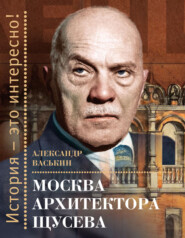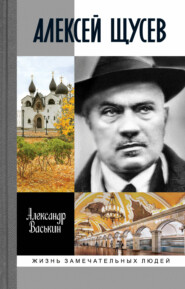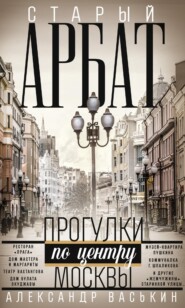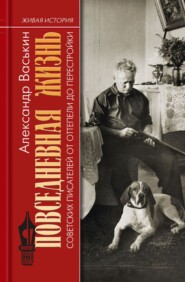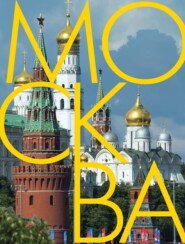По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Открывая Москву: прогулки по самым красивым московским зданиям
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бог искусств Аполлон не только встречал зрителей театра, взгромоздившись на квадригу, он присутствовал и в зрительном зале, наблюдая за тем, как заполняется зал, с потолка. Художники во главе с академиком Алексеем Титовым создали красочный плафон с соответствующим названием – «Аполлон и музы».
Жаль, что со временем красота муз померкла. Дело в том, что в центре композиции Кавос устроил нечто вроде кондиционера, через который в зал поступал свежий воздух, а уходил грязный, насыщенный копотью и дымом от свечей и масляных ламп. Это вытяжное отверстие вскоре испортило окружающие его росписи плафона, на котором стала оседать копоть и впитываться влага. Уже через несколько лет живопись потребовала реставрации. К коронации Николая II плафон был переписан в популярном стиле модерн.
Угроза полной утраты потолочной росписи нависла над плафоном к 1940 году. Причиной вновь стало изменение микроклимата вследствие новой, приточно-вытяжной вентиляции, установленной в театре в 1930-х годах. Выход нашли быстро – заменить старые росписи новыми, для чего объявили конкурс на тему «Апофеоз искусств народов СССР». Война перечеркнула этот замысел. В самые тяжелые для Москвы дни поздней осени и зимы 1941 года проходила реставрация плафона. Можно сказать, что искусствовед и живописец Игорь Грабарь, художник Павел Корин, иконописец по призванию, и его брат реставратор Александр Корин совершили подвиг, восстановив роспись. По несколько раз в день реставраторы спускались одни в бомбоубежище, чтобы затем вновь подняться на верхотуру. Именно в это время Москва подверглась жестокой бомбежке немецкими самолетами; одна из бомб угодила в Большой театр, разрушив фасад здания.
Благодаря художникам новая реставрация понадобилась только через семнадцать лет. В конце пятидесятых годов в театре установили кондиционеры, тем самым устранив главную причину, по которой живопись плафона приходила в негодность. В это время Павла Корина вновь пригласили в Большой театр провести повторное обновление потолочной живописи.
Замаскированный Большой театр во время войны
Рассказав о плафоне, украсившем потолок театра, уделим место и полу. Мы привыкли видеть в театральном вестибюле паркет. А ведь когда-то, как и в лучших оперных театрах Европы (например, «Ла Скала»), пол театральных вестибюлей устилала венецианская мозаика. Еще венецианские дожи строили для себя палаццо с мозаичными полами, что считалось верхом роскоши. Мозаика, именно в Венеции достигшая своего расцвета, обладала всеми качествами произведения искусства. Разнообразие оттенков составляло богатую цветовую гамму, созданную осколками мрамора, гранита, цветного стекла.
Когда же паркет заменил мозаику? В мемуарах известного московского адвоката Николая Давыдова, опубликованных еще в 1914 году, читаем: «Вспоминаю ту разницу, сравнительно с настоящим Большого театра, что полы в коридорах были мозаичные из мелкого камня». Значит, произошло это еще до 1917 года. Скорее всего, причиной замены мозаики на паркет послужила необходимость определенной статьи расходов на уход за мозаичным полом.
Интересную штуку придумали и с полом зрительного зала, создав для него механизм, благодаря которому пол менял свой наклон. Если, например, шел спектакль, то пол чуть-чуть наклоняли вперед к сцене, чтобы зрители задних рядов лучше видели происходящее. А когда устраивались балы, то пол мог приобретать полностью горизонтальное положение. Выполненный из дерева, пол выполнял и другую функцию – резонатора звука.
Больше пожаров на Театральной площади не случалось. Разве что горели некоторые премьеры, в переносном, конечно, смысле. Дело в том, что имевшаяся в Большом театре императорская ложа заполнялась царской семьей редко, как правило, лишь в дни коронации новых российских самодержцев, приезжавших для этого в Москву. Все государственное внимание обращено было к столичному Мариинскому театру. Большой театр финансировался по остаточному принципу.
Во время малопопулярных спектаклей не всегда заполнялся и партер. Как-то еще до отмены крепостного права одному из московских начальников пришла в голову оригинальная мысль: прикупить тысячи две крепостных, приписать их к театру, обложив подушной повинностью – обязанностью по вечерам ходить в театр.
По меткому выражению искусствоведа В. Зарубина, долгие годы Большой театр оставался пасынком Дирекции императорских театров. Оркестром руководили нередко люди посредственные, по своему дурному вкусу перекраивавшие партитуру; теноров заставляли петь басовые партии, а баритонов – партии теноров и так далее. Декорации и костюмы не обновлялись десятилетиями (особенно это было видно во время исполнения оперы «Жизнь за царя», когда актеры выходили чуть ли не в лохмотьях). А в 1882 году балетную труппу Большого и вовсе сократили в два раза, как провинциальную.
Трудно в такое поверить, но Большой театр был для петербургских артистов чем-то вроде ссылки. Иногда солисты Мариинского театра приезжали в Москву, чтобы хоть как-то повысить сборы Большого. Именоваться оперным артистом Мариинского было куда почетнее, чем служить солистом Большого театра.
Лишь в 1898 году с приходом в московскую контору Дирекции императорских театров Владимира Теляковского ситуация стала меняться. Главной находкой, конечно, стало приглашение в Большой Шаляпина из оперы Мамонтова.
«Императорские театры посещались плохо, особенно Большой, а в этом последнем – особенно балет. Сборы падали в опере до 600–700 рублей, а балетные представления видали и по 350–500 рублей сбору, что составляло едва четверть полного.
Публика, посещавшая императорские театры, была самая разнообразная. Судя по сборам, можно видеть, что балетоманов было мало, в особенности когда балет шел по средам. Большинство публики было случайное. То же самое можно сказать в значительной мере и об опере. С 1898 года, с моего приезда в Москву, на оперные представления Большого театра были открыты два абонемента, которые вначале были объявлены на двадцать представлений. Разбирались они довольно туго, но со следующего года, в особенности со времени поступления в труппу Шаляпина, абонементы стали заполняться, и вскоре пришлось увеличить не только количество абонементов, но и уменьшить число представлений до десяти, чтобы удовлетворить по возможности желающих абонироваться.
То же самое произошло и с балетом, на представления которого был открыт сначала один абонемент, а потом вскоре два.
Вообще за три года моего пребывания в Москве в качестве управляющего театрами картина оперных и балетных спектаклей совершенно изменилась. В опере и балете завелась своя специальная публика абонентов, которая стала посещать театры и вне абонементов. Сборы по опере, давшие в 1897 году 232 125 рублей, дали уже в 1899 году 319 002 рубля, а балет с 50 999 рублей поднялся на 87733 рубля, не считая еще 45 011 рублей, которые дала касса предварительной продажи. Средний сбор за балетный спектакль поднялся с 1062 рублей на 1655 рублей. В 1913 году опера выручала уже 533 830 рублей, а балет – 156 273 рубля, при среднем сборе за спектакль около 3000 рублей», – писал Теляковский.
Если говорить о художественной стороне вопроса, то последние десятилетия XIX века связаны в Большом театре с первыми постановками опер Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина и, конечно, Чайковского. Здесь в марте 1881 года состоялась премьера «Евгения Онегина». И хотя самый большой успех у зрителей снискали куплеты Трике, а декорации набрали из старых спектаклей, на Петра Ильича все-таки надели лавровый венок. А в рецензиях предлагалось переименовать оперу в «Месье Трике» – такой восторг вызвала партия этого странного персонажа в ярком парике и туфлях на высоком каблуке.
Крупным событием в жизни театра стала и дирижерская деятельность Сергея Рахманинова в 1904–1906 годах. В это время афиши по-прежнему украшали имена Шаляпина, Собинова, Неждановой и других талантливых певцов. Рахманинов и Шаляпин дружили. «В бытность Рахманинова капельмейстером Большого театра Шаляпин очень с ним считался. Приходя на репетиции в Большой театр, Рахманинов обыкновенно осведомлялся: «А что, «дуролом» здесь?» «Дуроломом» именовался Шаляпин, который на рахманиновские репетиции приходил, однако, вовремя», – писал Теляковский.
«Собинов, – продолжает Теляковский, – с первого же года своего поступления, благодаря чарующему голосу своему и благородной манере держаться на сцене, при хороших внешних данных, завоевал симпатии публики, которые неизменно росли с каждым появлением его в новой опере. Успех его шел параллельно успеху Ф. Шаляпина, и время окончания его контракта всегда вызывало беспокойство дирекции. Будучи от природы человеком добрым и совсем не алчным, он тем не менее в условиях требуемого гонорара был не очень податлив, и разговоры о возобновлении нового контракта были не из легких. Им руководило не столько желание сорвать побольше денег, сколько вопрос самолюбия. Высшего оклада против всех других артистов оперных Петербурга и Москвы он достиг довольно скоро: только Ф. Шаляпин получал больше, и этот вопрос его волновал. И если А. Собинов следил за возрастающим окладом Шаляпина, то и этот последний, в свою очередь, очень интересовался окладом Собинова, и сколько бы ни прибавлять Собинову, Шаляпин неизменно просил больше. Потерять же того или другого артиста было невозможно. Оставалось изыскивать способы обоих удовлетворять, но, однако, ни тот, ни другой вполне довольны своими окладами не были никогда и немалые суммы зарабатывали на стороне. В особенности много стал последнее время зарабатывать Шаляпин за границей.
Об успехах Ф. Шаляпина и Л. Собинова в Москве скоро стало известно в Петербурге, и уже в первом году контракта Ф. Шаляпин был приглашен на гастроли в Мариинский театр, в тот самый, где еще недавно о нем не только никто не говорил, но который не удержал его в своей труппе, отпустив за ненадобностью в оперу Мамонтова».
К началу двадцатого века в Большом театре сложилась любопытная иерархия спектаклей. Обычно, помимо оперы, раз в три дня по абонементам давали балет, переживавший в то время долгожданное возрождение. Абонемент № 1 был наиболее дорогим и предназначался для соответствующей публики – банкиров и фабрикантов, тузов российской промышленности, модных адвокатов, богатых купчишек, балетоманов, «золотой молодежи», живущей, кажется, во все времена. Не прийти в такой день в театр было нельзя. И неважно, что занавес уже поднялся и свет погас, так как главное – показаться, а уйти можно и в антракте.
Это был выход в свет. Балам, на которых за сто лет до этого блистало московское дворянство, разжиревшая буржуазная прослойка нашла замену в виде партера Большого театра по средам на балете. Лучшие люди, так называемая элита, собирались, чтобы продемонстрировать бриллианты, меха, наряды, а также содержанок и любовников. Но вот на аплодисменты они были весьма скуповаты.
На более бедную публику был рассчитан воскресный абонемент № 2 – интеллигенция, чиновники мелкой и средней руки, студенты и прочие не стеснялись выражать свои чувства, рукоплескали от души, как можно громче, приветствуя своих театральных кумиров.
А иногда в театр добрые капельдинеры могли пустить и бесплатно – на галерку. Так однажды на самый высокий ярус Большого театра попал восьмилетний мальчик. Он пришел, чтобы впервые услышать оперу (родители решили отучить его от храма – очень ему там нравилось – свечи, одеяния, церемонии; а дело-то происходило в 1920 году!). Затем мальчик стал ходить в оперу каждый день. А потом, в 1942 году, он был принят в театр режиссером и служил ему больше полувека. Звали его Борис Покровский.
Вообще же публика в Большой театр ходила самая разнообразная. Как отмечал Теляковский, в московских императорских театрах появлялись иногда довольно курьезные посетители. Когда я, придя в первый раз на представление в Большой театр, захотел сесть на мое казенное кресло, то, к изумлению моему, заметил, что ручки кресла соединены медной палочкой, которую шедший за мной капельдинер стал удалять. На вопрос мой, зачем кресла запирают, полицмейстер театра объяснил, что такой порядок в Москве уже давно заведен для всех административных кресел, ибо часто москвичи не любят разбираться в номерах и садятся на казенные кресла, и если такой москвич хорошо выпил, то уж своего места никак не оставит иначе как со скандалом на весь театр.
Бывали случаи, что даже и на запертые таким медным прутом кресла садились и старались прут согнуть ногами, чтобы не мешал сидеть.
Таковы уж своевольные москвичи, и с такого рода озорством приходилось считаться. Всякий скандал мог окончиться буйством, избиением капельдинера и составлением протокола за нарушение тишины и спокойствия в общественном месте.
Для цивилизованного Петербурга это было малопонятным; но мало ли что в Петербурге, этом окне в Европу, иначе понимается – на то он и иностранный город и с иностранным именем. В Петербурге вообще мало принято было ездить в театр выпивши, а в Москве – состояние это в подобном случае не считалось неприличным: таковы уж были издавна обычаи в Первопрестольной.
Вообще в этих столицах на многое вкусы были различные.
В Москве публика и аплодирует своеобразно, особенно если поет «милашка тенор» или танцует излюбленная балерина. Махали не только платками, но и простынями и дамскими накидками в верхних ярусах, и если в 1850 году известный тогда редактор «Московских ведомостей», чиновник канцелярии московского губернатора Хлопов после представления балета «Эсмеральда» сидел вместо кучера в карете, увозившей из Большого театра знаменитую балерину Фанни Эльслер (за что, правда, и был уволен и место свое по редактированию «Московских ведомостей» был принужден уступить известному Каткову), то пятьдесят лет спустя один из студентов Московского университета в Большом театре, увлекшись аплодисментами и маханием дамской кофтой балерине Рославлевой, упал из ложи второго яруса в партер, причем сломал по дороге бронзовое бра и кресло. Но этому счастливцу-энтузиасту, тоже московского производства, повезло в конце того же века больше, чем Хлопову: он ниоткуда уволен не был и остался жив и здоров. Когда прибежали взволнованные полицмейстер и доктор, то, к удивлению своему, констатировали только факт разрушения казенного имущества; что касается студента, то он, отделавшись сравнительно легкими ушибами, хладнокровно заявил о своем желании снова вернуться наверх, на свое место, дабы продолжать смотреть следующий акт балета, обещая быть в дальнейшем более осторожным с казенной бронзой и мебелью.
Непременными спутниками Большого театра сто лет назад (да и сейчас) были перекупщики билетов – барышники. Полиция с ними обыкновенно боролась, но чаще всего побеждали барышники. На спектакли с участием Собинова, Шаляпина драли втридорога. Стоило только подойти поближе к театру, как барышник предлагал потенциальному зрителю свои услуги. Если человек соглашался, то второй барышник пулей мчался в ресторан Вильде за Большим театром, где на случай облавы собирались и держали билеты перекупщики. Городовые тоже оставались не в обиде.
Теляковский поведал такой случай. «Один купец, окончив свои дела, вероятно, не без посещения ресторана “Эрмитаж” или Большого Московского трактира, купил билет на балет “Дон Кихот”. В то время Шаляпин пел в Москве оперу Массне того же названия. Купец был уверен, что услышит “Дон Кихота” с Шаляпиным. Просидев первое действие балета в первом ряду и немного отрезвясь, он стал беспокоиться, что все Шаляпин не появляется. Тогда он сначала строго запросил капельдинера, а потом пошел делать скандал у кассы, что его надули. Дело это пришлось разбирать полицмейстеру театров Переяславцеву, ибо купец ссылался на кассиршу, которая будто бы сказала ему, что Шаляпин поет. Оказалось, что билет у него куплен был не в кассе, а у барышника, который, вероятно, учел его ненормальное состояние и на вопрос, поет ли в балете Шаляпин, ответил, что, конечно, поет, и получил баснословные деньги за кресло».
Однажды Шаляпин решил проучить спекулянтов. Узнав, что все билеты на его бенефис раскуплены барышниками в один момент, певец придумал напечатать в газетах объявление о том, что билеты на его спектакль можно получить у него на квартире. Желающих оказалось много, и все они пришли к нему в дом. Но Шаляпин был доволен, так как те, кого он хотел видеть в зале – представители небогатой московской интеллигенции, попали на его бенефис. Только газетчики его огорчили, написав: «Шаляпин открыл лавочку!»
Самый известный русский певец был солистом Большого в 1899–1922 годах. Переманить Шаляпина в театр удалось Теляковскому, проведшему что-то вроде секретной операции. «Большим событием в опере Большого театра было поступление в 1899 году в труппу Ф. И. Шаляпина. Событие это – большого значения не только для Большого театра, но и для всех императорских театров Москвы и Петербурга вообще, ибо смотреть и слушать Шаляпина ходила не только публика, но и все артисты оперы, драмы и балета, до французских артистов Михайловского театра включительно.
Существуют люди, одно появление которых сразу понижает настроение собравшейся компании; пошлость вступает в свои права, и все присутствующие невольно заражаются этим настроением вновь появившегося. Бывает и наоборот: появление выдающегося человека заставляет иногда замолчать расходившихся брехунов, и все начинают прислушиваться к тому, что скажет вновь появившийся.
Так было с московскими театрами, когда среди них появился Шаляпин. К нему сразу стали прислушиваться и артисты, и оркестр, и хор, и художники, и режиссеры, и другие служащие в театрах. Он стал влиять на всех окружающих не только как талантливый певец и артист, но и как человек с художественным чутьем, любящий и понимающий все художественные вопросы, театра касающиеся.
Его можно любить или не любить, ему можно завидовать, его можно критиковать, но не обращать на него внимания и не говорить о нем было одинаково невозможно как поклонникам, так и врагам.
Когда я впервые услыхал Шаляпина в опере Мамонтова, мне сразу стало ясно, что его немедленно надо пригласить в императорскую оперу. Затем, однако, я выяснил, что он уже пел в Мариинском театре, пел на маленьком содержании и не был признан за выдающегося певца. По контракту ему платили всего 3600 рублей в год. У Мамонтова же он получал 6000 рублей. Значит, к нам если пойдет, то за гораздо большее вознаграждение. Хотя я и был управляющим конторой московских театров, но у меня были еще две инстанции начальства, помимо министра: директор театров И. А. Всеволожский и управляющий делами дирекции В. П. Погожев, особенно вникавший тогда в московские дела. Заключить крупный долголетний контракт, да еще с певцом, не признанным моим же начальством в Петербурге, было рискованно. Мамонтов Шаляпина ценил и любил – и я понимал, что без боя он его не уступит.
Говорить с Шаляпиным надо было секретно, не доводя этого и до сведения дирекции. Взвесив все это и обсудив с В. А. Нелидовым создавшееся положение, я решил действовать помимо дирекции, а главное, скоро, оправдываясь, если это надо будет, своей неопытностью.
Дипломатическая секретная миссия переговоров с Шаляпиным относительно его приглашения обратно на императорскую, на этот раз московскую сцену была поручена мною дипломату по рождению В. А. Нелидову, который, как я уже говорил, в это время состоял моим чиновником особых поручений. Он к тому же был большим поклонником Шаляпина.
Я ему объяснил всю важность возлагаемого на него поручения, просил миссию эту держать в строжайшем секрете, к Шаляпину на квартиру не ездить, а, случайно уговорившись, встретиться с ним в ресторане “Славянского базара”, угостить соответственным завтраком и оттуда прямо приехать ко мне на квартиру, когда разойдутся служащие в театральной конторе чиновники.
12 декабря 1898 года Шаляпин с Нелидовым после соответствующего завтрака с вином явились ко мне в кабинет, и после долгих переговоров Шаляпин наконец подписал контракт на три года, на сумму в 9, 10 и 11 тысяч в год. 24 декабря контракт этот был утвержден директором Всеволожским, причем мне было сказано, что “нельзя басу платить такое большое содержание”, на что я ответил, что пригласили мы не баса, а выдающегося артиста.
В дирекции приглашением Шаляпина остались недовольны, это было ясно. Но не все ли равно, контракт нельзя было не утвердить, ибо я тогда обратился бы к министру, который несомненно бы меня поддержал. Это в дирекции знали, контракт с Шаляпиным был директором утвержден немедленно.
Шаляпин продолжил петь в опере Мамонтова: в Большом театре он выступил лишь в конце сентября 1899 года в “Фаусте”. Его контракт с оперой Мамонтова кончался 23 сентября 1899 года.
24 сентября состоялся первый спектакль с участием Шаляпина в опере “Фауст”. Фауста пел Донской, Маргариту – Маркова. 27 сентября “Фауст” был повторен, с Шаляпиным и Собиновым. Успех Шаляпина превзошел всякие ожидания. Съехалась, как говорится, вся Москва. У всех было радостное и приподнятое настроение. Грустил один Власов – артист, исполнявший не без успеха роль Мефистофеля многие годы и еще так недавно говоривший о Шаляпине:
– Ну, еще посмотрим, как у него хватит голоса для Большого театра; это не Солодовниковский театр, тут надо знать акустику и те места на сцене, где стоять, а у Шаляпина голос невелик.
Так говорил бас Власов. Но оказалось, что где бы Шаляпин на сцене ни стоял, как бы мало ни знал акустику Большого театра, но стоило ему появиться на сцене, как все про Власова и его пение и знание сцены Большого театра сразу и навсегда забыли, и бывшие его поклонники и поклонницы ему изменили и кричали только:
– Шаляпина, Шаляпина!!!
С этих пор, то есть с конца сентября, Шаляпин стал ко мне заходить и днем, и вечером, и после театра. Видал я его часто в течение всей восемнадцатилетней моей службы. Приезжал он и летом ко мне в имение и вместе с К. Коровиным гостил по нескольку дней; видал я его и за границей во время его гастролей в Милане и Париже. Говорили мы с ним немало и об опере, и о театре, и об искусстве вообще. Все эти разговоры имели важные для театра последствия, ибо Шаляпин был не только талантливым артистом, но и умным человеком».
Жаль, что со временем красота муз померкла. Дело в том, что в центре композиции Кавос устроил нечто вроде кондиционера, через который в зал поступал свежий воздух, а уходил грязный, насыщенный копотью и дымом от свечей и масляных ламп. Это вытяжное отверстие вскоре испортило окружающие его росписи плафона, на котором стала оседать копоть и впитываться влага. Уже через несколько лет живопись потребовала реставрации. К коронации Николая II плафон был переписан в популярном стиле модерн.
Угроза полной утраты потолочной росписи нависла над плафоном к 1940 году. Причиной вновь стало изменение микроклимата вследствие новой, приточно-вытяжной вентиляции, установленной в театре в 1930-х годах. Выход нашли быстро – заменить старые росписи новыми, для чего объявили конкурс на тему «Апофеоз искусств народов СССР». Война перечеркнула этот замысел. В самые тяжелые для Москвы дни поздней осени и зимы 1941 года проходила реставрация плафона. Можно сказать, что искусствовед и живописец Игорь Грабарь, художник Павел Корин, иконописец по призванию, и его брат реставратор Александр Корин совершили подвиг, восстановив роспись. По несколько раз в день реставраторы спускались одни в бомбоубежище, чтобы затем вновь подняться на верхотуру. Именно в это время Москва подверглась жестокой бомбежке немецкими самолетами; одна из бомб угодила в Большой театр, разрушив фасад здания.
Благодаря художникам новая реставрация понадобилась только через семнадцать лет. В конце пятидесятых годов в театре установили кондиционеры, тем самым устранив главную причину, по которой живопись плафона приходила в негодность. В это время Павла Корина вновь пригласили в Большой театр провести повторное обновление потолочной живописи.
Замаскированный Большой театр во время войны
Рассказав о плафоне, украсившем потолок театра, уделим место и полу. Мы привыкли видеть в театральном вестибюле паркет. А ведь когда-то, как и в лучших оперных театрах Европы (например, «Ла Скала»), пол театральных вестибюлей устилала венецианская мозаика. Еще венецианские дожи строили для себя палаццо с мозаичными полами, что считалось верхом роскоши. Мозаика, именно в Венеции достигшая своего расцвета, обладала всеми качествами произведения искусства. Разнообразие оттенков составляло богатую цветовую гамму, созданную осколками мрамора, гранита, цветного стекла.
Когда же паркет заменил мозаику? В мемуарах известного московского адвоката Николая Давыдова, опубликованных еще в 1914 году, читаем: «Вспоминаю ту разницу, сравнительно с настоящим Большого театра, что полы в коридорах были мозаичные из мелкого камня». Значит, произошло это еще до 1917 года. Скорее всего, причиной замены мозаики на паркет послужила необходимость определенной статьи расходов на уход за мозаичным полом.
Интересную штуку придумали и с полом зрительного зала, создав для него механизм, благодаря которому пол менял свой наклон. Если, например, шел спектакль, то пол чуть-чуть наклоняли вперед к сцене, чтобы зрители задних рядов лучше видели происходящее. А когда устраивались балы, то пол мог приобретать полностью горизонтальное положение. Выполненный из дерева, пол выполнял и другую функцию – резонатора звука.
Больше пожаров на Театральной площади не случалось. Разве что горели некоторые премьеры, в переносном, конечно, смысле. Дело в том, что имевшаяся в Большом театре императорская ложа заполнялась царской семьей редко, как правило, лишь в дни коронации новых российских самодержцев, приезжавших для этого в Москву. Все государственное внимание обращено было к столичному Мариинскому театру. Большой театр финансировался по остаточному принципу.
Во время малопопулярных спектаклей не всегда заполнялся и партер. Как-то еще до отмены крепостного права одному из московских начальников пришла в голову оригинальная мысль: прикупить тысячи две крепостных, приписать их к театру, обложив подушной повинностью – обязанностью по вечерам ходить в театр.
По меткому выражению искусствоведа В. Зарубина, долгие годы Большой театр оставался пасынком Дирекции императорских театров. Оркестром руководили нередко люди посредственные, по своему дурному вкусу перекраивавшие партитуру; теноров заставляли петь басовые партии, а баритонов – партии теноров и так далее. Декорации и костюмы не обновлялись десятилетиями (особенно это было видно во время исполнения оперы «Жизнь за царя», когда актеры выходили чуть ли не в лохмотьях). А в 1882 году балетную труппу Большого и вовсе сократили в два раза, как провинциальную.
Трудно в такое поверить, но Большой театр был для петербургских артистов чем-то вроде ссылки. Иногда солисты Мариинского театра приезжали в Москву, чтобы хоть как-то повысить сборы Большого. Именоваться оперным артистом Мариинского было куда почетнее, чем служить солистом Большого театра.
Лишь в 1898 году с приходом в московскую контору Дирекции императорских театров Владимира Теляковского ситуация стала меняться. Главной находкой, конечно, стало приглашение в Большой Шаляпина из оперы Мамонтова.
«Императорские театры посещались плохо, особенно Большой, а в этом последнем – особенно балет. Сборы падали в опере до 600–700 рублей, а балетные представления видали и по 350–500 рублей сбору, что составляло едва четверть полного.
Публика, посещавшая императорские театры, была самая разнообразная. Судя по сборам, можно видеть, что балетоманов было мало, в особенности когда балет шел по средам. Большинство публики было случайное. То же самое можно сказать в значительной мере и об опере. С 1898 года, с моего приезда в Москву, на оперные представления Большого театра были открыты два абонемента, которые вначале были объявлены на двадцать представлений. Разбирались они довольно туго, но со следующего года, в особенности со времени поступления в труппу Шаляпина, абонементы стали заполняться, и вскоре пришлось увеличить не только количество абонементов, но и уменьшить число представлений до десяти, чтобы удовлетворить по возможности желающих абонироваться.
То же самое произошло и с балетом, на представления которого был открыт сначала один абонемент, а потом вскоре два.
Вообще за три года моего пребывания в Москве в качестве управляющего театрами картина оперных и балетных спектаклей совершенно изменилась. В опере и балете завелась своя специальная публика абонентов, которая стала посещать театры и вне абонементов. Сборы по опере, давшие в 1897 году 232 125 рублей, дали уже в 1899 году 319 002 рубля, а балет с 50 999 рублей поднялся на 87733 рубля, не считая еще 45 011 рублей, которые дала касса предварительной продажи. Средний сбор за балетный спектакль поднялся с 1062 рублей на 1655 рублей. В 1913 году опера выручала уже 533 830 рублей, а балет – 156 273 рубля, при среднем сборе за спектакль около 3000 рублей», – писал Теляковский.
Если говорить о художественной стороне вопроса, то последние десятилетия XIX века связаны в Большом театре с первыми постановками опер Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина и, конечно, Чайковского. Здесь в марте 1881 года состоялась премьера «Евгения Онегина». И хотя самый большой успех у зрителей снискали куплеты Трике, а декорации набрали из старых спектаклей, на Петра Ильича все-таки надели лавровый венок. А в рецензиях предлагалось переименовать оперу в «Месье Трике» – такой восторг вызвала партия этого странного персонажа в ярком парике и туфлях на высоком каблуке.
Крупным событием в жизни театра стала и дирижерская деятельность Сергея Рахманинова в 1904–1906 годах. В это время афиши по-прежнему украшали имена Шаляпина, Собинова, Неждановой и других талантливых певцов. Рахманинов и Шаляпин дружили. «В бытность Рахманинова капельмейстером Большого театра Шаляпин очень с ним считался. Приходя на репетиции в Большой театр, Рахманинов обыкновенно осведомлялся: «А что, «дуролом» здесь?» «Дуроломом» именовался Шаляпин, который на рахманиновские репетиции приходил, однако, вовремя», – писал Теляковский.
«Собинов, – продолжает Теляковский, – с первого же года своего поступления, благодаря чарующему голосу своему и благородной манере держаться на сцене, при хороших внешних данных, завоевал симпатии публики, которые неизменно росли с каждым появлением его в новой опере. Успех его шел параллельно успеху Ф. Шаляпина, и время окончания его контракта всегда вызывало беспокойство дирекции. Будучи от природы человеком добрым и совсем не алчным, он тем не менее в условиях требуемого гонорара был не очень податлив, и разговоры о возобновлении нового контракта были не из легких. Им руководило не столько желание сорвать побольше денег, сколько вопрос самолюбия. Высшего оклада против всех других артистов оперных Петербурга и Москвы он достиг довольно скоро: только Ф. Шаляпин получал больше, и этот вопрос его волновал. И если А. Собинов следил за возрастающим окладом Шаляпина, то и этот последний, в свою очередь, очень интересовался окладом Собинова, и сколько бы ни прибавлять Собинову, Шаляпин неизменно просил больше. Потерять же того или другого артиста было невозможно. Оставалось изыскивать способы обоих удовлетворять, но, однако, ни тот, ни другой вполне довольны своими окладами не были никогда и немалые суммы зарабатывали на стороне. В особенности много стал последнее время зарабатывать Шаляпин за границей.
Об успехах Ф. Шаляпина и Л. Собинова в Москве скоро стало известно в Петербурге, и уже в первом году контракта Ф. Шаляпин был приглашен на гастроли в Мариинский театр, в тот самый, где еще недавно о нем не только никто не говорил, но который не удержал его в своей труппе, отпустив за ненадобностью в оперу Мамонтова».
К началу двадцатого века в Большом театре сложилась любопытная иерархия спектаклей. Обычно, помимо оперы, раз в три дня по абонементам давали балет, переживавший в то время долгожданное возрождение. Абонемент № 1 был наиболее дорогим и предназначался для соответствующей публики – банкиров и фабрикантов, тузов российской промышленности, модных адвокатов, богатых купчишек, балетоманов, «золотой молодежи», живущей, кажется, во все времена. Не прийти в такой день в театр было нельзя. И неважно, что занавес уже поднялся и свет погас, так как главное – показаться, а уйти можно и в антракте.
Это был выход в свет. Балам, на которых за сто лет до этого блистало московское дворянство, разжиревшая буржуазная прослойка нашла замену в виде партера Большого театра по средам на балете. Лучшие люди, так называемая элита, собирались, чтобы продемонстрировать бриллианты, меха, наряды, а также содержанок и любовников. Но вот на аплодисменты они были весьма скуповаты.
На более бедную публику был рассчитан воскресный абонемент № 2 – интеллигенция, чиновники мелкой и средней руки, студенты и прочие не стеснялись выражать свои чувства, рукоплескали от души, как можно громче, приветствуя своих театральных кумиров.
А иногда в театр добрые капельдинеры могли пустить и бесплатно – на галерку. Так однажды на самый высокий ярус Большого театра попал восьмилетний мальчик. Он пришел, чтобы впервые услышать оперу (родители решили отучить его от храма – очень ему там нравилось – свечи, одеяния, церемонии; а дело-то происходило в 1920 году!). Затем мальчик стал ходить в оперу каждый день. А потом, в 1942 году, он был принят в театр режиссером и служил ему больше полувека. Звали его Борис Покровский.
Вообще же публика в Большой театр ходила самая разнообразная. Как отмечал Теляковский, в московских императорских театрах появлялись иногда довольно курьезные посетители. Когда я, придя в первый раз на представление в Большой театр, захотел сесть на мое казенное кресло, то, к изумлению моему, заметил, что ручки кресла соединены медной палочкой, которую шедший за мной капельдинер стал удалять. На вопрос мой, зачем кресла запирают, полицмейстер театра объяснил, что такой порядок в Москве уже давно заведен для всех административных кресел, ибо часто москвичи не любят разбираться в номерах и садятся на казенные кресла, и если такой москвич хорошо выпил, то уж своего места никак не оставит иначе как со скандалом на весь театр.
Бывали случаи, что даже и на запертые таким медным прутом кресла садились и старались прут согнуть ногами, чтобы не мешал сидеть.
Таковы уж своевольные москвичи, и с такого рода озорством приходилось считаться. Всякий скандал мог окончиться буйством, избиением капельдинера и составлением протокола за нарушение тишины и спокойствия в общественном месте.
Для цивилизованного Петербурга это было малопонятным; но мало ли что в Петербурге, этом окне в Европу, иначе понимается – на то он и иностранный город и с иностранным именем. В Петербурге вообще мало принято было ездить в театр выпивши, а в Москве – состояние это в подобном случае не считалось неприличным: таковы уж были издавна обычаи в Первопрестольной.
Вообще в этих столицах на многое вкусы были различные.
В Москве публика и аплодирует своеобразно, особенно если поет «милашка тенор» или танцует излюбленная балерина. Махали не только платками, но и простынями и дамскими накидками в верхних ярусах, и если в 1850 году известный тогда редактор «Московских ведомостей», чиновник канцелярии московского губернатора Хлопов после представления балета «Эсмеральда» сидел вместо кучера в карете, увозившей из Большого театра знаменитую балерину Фанни Эльслер (за что, правда, и был уволен и место свое по редактированию «Московских ведомостей» был принужден уступить известному Каткову), то пятьдесят лет спустя один из студентов Московского университета в Большом театре, увлекшись аплодисментами и маханием дамской кофтой балерине Рославлевой, упал из ложи второго яруса в партер, причем сломал по дороге бронзовое бра и кресло. Но этому счастливцу-энтузиасту, тоже московского производства, повезло в конце того же века больше, чем Хлопову: он ниоткуда уволен не был и остался жив и здоров. Когда прибежали взволнованные полицмейстер и доктор, то, к удивлению своему, констатировали только факт разрушения казенного имущества; что касается студента, то он, отделавшись сравнительно легкими ушибами, хладнокровно заявил о своем желании снова вернуться наверх, на свое место, дабы продолжать смотреть следующий акт балета, обещая быть в дальнейшем более осторожным с казенной бронзой и мебелью.
Непременными спутниками Большого театра сто лет назад (да и сейчас) были перекупщики билетов – барышники. Полиция с ними обыкновенно боролась, но чаще всего побеждали барышники. На спектакли с участием Собинова, Шаляпина драли втридорога. Стоило только подойти поближе к театру, как барышник предлагал потенциальному зрителю свои услуги. Если человек соглашался, то второй барышник пулей мчался в ресторан Вильде за Большим театром, где на случай облавы собирались и держали билеты перекупщики. Городовые тоже оставались не в обиде.
Теляковский поведал такой случай. «Один купец, окончив свои дела, вероятно, не без посещения ресторана “Эрмитаж” или Большого Московского трактира, купил билет на балет “Дон Кихот”. В то время Шаляпин пел в Москве оперу Массне того же названия. Купец был уверен, что услышит “Дон Кихота” с Шаляпиным. Просидев первое действие балета в первом ряду и немного отрезвясь, он стал беспокоиться, что все Шаляпин не появляется. Тогда он сначала строго запросил капельдинера, а потом пошел делать скандал у кассы, что его надули. Дело это пришлось разбирать полицмейстеру театров Переяславцеву, ибо купец ссылался на кассиршу, которая будто бы сказала ему, что Шаляпин поет. Оказалось, что билет у него куплен был не в кассе, а у барышника, который, вероятно, учел его ненормальное состояние и на вопрос, поет ли в балете Шаляпин, ответил, что, конечно, поет, и получил баснословные деньги за кресло».
Однажды Шаляпин решил проучить спекулянтов. Узнав, что все билеты на его бенефис раскуплены барышниками в один момент, певец придумал напечатать в газетах объявление о том, что билеты на его спектакль можно получить у него на квартире. Желающих оказалось много, и все они пришли к нему в дом. Но Шаляпин был доволен, так как те, кого он хотел видеть в зале – представители небогатой московской интеллигенции, попали на его бенефис. Только газетчики его огорчили, написав: «Шаляпин открыл лавочку!»
Самый известный русский певец был солистом Большого в 1899–1922 годах. Переманить Шаляпина в театр удалось Теляковскому, проведшему что-то вроде секретной операции. «Большим событием в опере Большого театра было поступление в 1899 году в труппу Ф. И. Шаляпина. Событие это – большого значения не только для Большого театра, но и для всех императорских театров Москвы и Петербурга вообще, ибо смотреть и слушать Шаляпина ходила не только публика, но и все артисты оперы, драмы и балета, до французских артистов Михайловского театра включительно.
Существуют люди, одно появление которых сразу понижает настроение собравшейся компании; пошлость вступает в свои права, и все присутствующие невольно заражаются этим настроением вновь появившегося. Бывает и наоборот: появление выдающегося человека заставляет иногда замолчать расходившихся брехунов, и все начинают прислушиваться к тому, что скажет вновь появившийся.
Так было с московскими театрами, когда среди них появился Шаляпин. К нему сразу стали прислушиваться и артисты, и оркестр, и хор, и художники, и режиссеры, и другие служащие в театрах. Он стал влиять на всех окружающих не только как талантливый певец и артист, но и как человек с художественным чутьем, любящий и понимающий все художественные вопросы, театра касающиеся.
Его можно любить или не любить, ему можно завидовать, его можно критиковать, но не обращать на него внимания и не говорить о нем было одинаково невозможно как поклонникам, так и врагам.
Когда я впервые услыхал Шаляпина в опере Мамонтова, мне сразу стало ясно, что его немедленно надо пригласить в императорскую оперу. Затем, однако, я выяснил, что он уже пел в Мариинском театре, пел на маленьком содержании и не был признан за выдающегося певца. По контракту ему платили всего 3600 рублей в год. У Мамонтова же он получал 6000 рублей. Значит, к нам если пойдет, то за гораздо большее вознаграждение. Хотя я и был управляющим конторой московских театров, но у меня были еще две инстанции начальства, помимо министра: директор театров И. А. Всеволожский и управляющий делами дирекции В. П. Погожев, особенно вникавший тогда в московские дела. Заключить крупный долголетний контракт, да еще с певцом, не признанным моим же начальством в Петербурге, было рискованно. Мамонтов Шаляпина ценил и любил – и я понимал, что без боя он его не уступит.
Говорить с Шаляпиным надо было секретно, не доводя этого и до сведения дирекции. Взвесив все это и обсудив с В. А. Нелидовым создавшееся положение, я решил действовать помимо дирекции, а главное, скоро, оправдываясь, если это надо будет, своей неопытностью.
Дипломатическая секретная миссия переговоров с Шаляпиным относительно его приглашения обратно на императорскую, на этот раз московскую сцену была поручена мною дипломату по рождению В. А. Нелидову, который, как я уже говорил, в это время состоял моим чиновником особых поручений. Он к тому же был большим поклонником Шаляпина.
Я ему объяснил всю важность возлагаемого на него поручения, просил миссию эту держать в строжайшем секрете, к Шаляпину на квартиру не ездить, а, случайно уговорившись, встретиться с ним в ресторане “Славянского базара”, угостить соответственным завтраком и оттуда прямо приехать ко мне на квартиру, когда разойдутся служащие в театральной конторе чиновники.
12 декабря 1898 года Шаляпин с Нелидовым после соответствующего завтрака с вином явились ко мне в кабинет, и после долгих переговоров Шаляпин наконец подписал контракт на три года, на сумму в 9, 10 и 11 тысяч в год. 24 декабря контракт этот был утвержден директором Всеволожским, причем мне было сказано, что “нельзя басу платить такое большое содержание”, на что я ответил, что пригласили мы не баса, а выдающегося артиста.
В дирекции приглашением Шаляпина остались недовольны, это было ясно. Но не все ли равно, контракт нельзя было не утвердить, ибо я тогда обратился бы к министру, который несомненно бы меня поддержал. Это в дирекции знали, контракт с Шаляпиным был директором утвержден немедленно.
Шаляпин продолжил петь в опере Мамонтова: в Большом театре он выступил лишь в конце сентября 1899 года в “Фаусте”. Его контракт с оперой Мамонтова кончался 23 сентября 1899 года.
24 сентября состоялся первый спектакль с участием Шаляпина в опере “Фауст”. Фауста пел Донской, Маргариту – Маркова. 27 сентября “Фауст” был повторен, с Шаляпиным и Собиновым. Успех Шаляпина превзошел всякие ожидания. Съехалась, как говорится, вся Москва. У всех было радостное и приподнятое настроение. Грустил один Власов – артист, исполнявший не без успеха роль Мефистофеля многие годы и еще так недавно говоривший о Шаляпине:
– Ну, еще посмотрим, как у него хватит голоса для Большого театра; это не Солодовниковский театр, тут надо знать акустику и те места на сцене, где стоять, а у Шаляпина голос невелик.
Так говорил бас Власов. Но оказалось, что где бы Шаляпин на сцене ни стоял, как бы мало ни знал акустику Большого театра, но стоило ему появиться на сцене, как все про Власова и его пение и знание сцены Большого театра сразу и навсегда забыли, и бывшие его поклонники и поклонницы ему изменили и кричали только:
– Шаляпина, Шаляпина!!!
С этих пор, то есть с конца сентября, Шаляпин стал ко мне заходить и днем, и вечером, и после театра. Видал я его часто в течение всей восемнадцатилетней моей службы. Приезжал он и летом ко мне в имение и вместе с К. Коровиным гостил по нескольку дней; видал я его и за границей во время его гастролей в Милане и Париже. Говорили мы с ним немало и об опере, и о театре, и об искусстве вообще. Все эти разговоры имели важные для театра последствия, ибо Шаляпин был не только талантливым артистом, но и умным человеком».