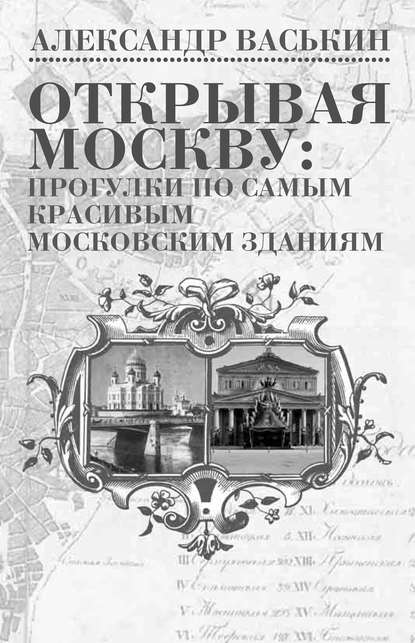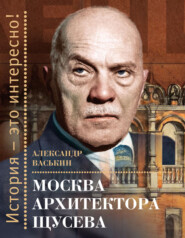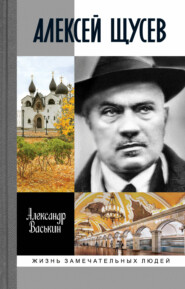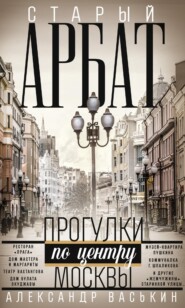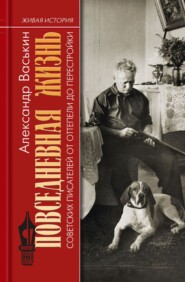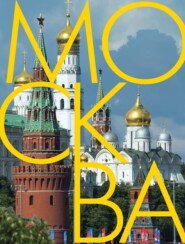По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Открывая Москву: прогулки по самым красивым московским зданиям
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любил ли Сталин музыку? Нет. Он любил именно Большой театр, его пышность, помпезность; там он чувствовал себя императором. Он любил покровительствовать театру, артистам – ведь это были его крепостные артисты, и ему нравилось быть добрым к ним, по-царски награждать отличившихся. Вот только в царскую – центральную – ложу Сталин не садился. Царь не боялся сидеть перед народом, а этот боялся и прятался за тряпкой. В его аванложе (артисты ее называли предбанником) на столе всегда стояла большая ваза с крутыми яйцами – он их ел в антрактах. Как при Сталине, так и теперь, когда на спектакле присутствуют члены правительства, в оркестровой яме рядом с оркестрантами сидят кагэбэшники – в штатском, разумеется.
Были у него в театре любимые артисты. Очень он любил Максима Дормидонтовича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере Глинки “Жизнь за царя”. В советское время она называется “Иван Сусанин”. Он часто ходил на эту оперу – наверное, воображал себя царем, и приятно ему было смотреть, как русский мужик за него жизнь отдает. Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили – с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными, мощными голосами не просто пели, а вещали, мизансцены были статичны, исполнители мало двигались – все было более “значительно”, чем требовало того искусство. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. И не в том дело, хорош у него был вкус или плох, но, когда Сталин умер, театр потерял ориентир, его начало швырять из стороны в сторону, он стал попадать в зависимость от вкусов множества случайных людей.
Любимицами Сталина были сопрано Наталия Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова – обе красивые, статные; они часто пели на банкетах. Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать в их обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их – как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер:
– Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы.
Думаю, что этим не слишком “изящным” замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни. Но ведь батюшка-барин. С крепостной девкой разговаривает.
Замечательный дирижер С. А. Самосуд, многие годы проработавший в Большом театре, рассказывал мне, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти в аванложу, как Сталин без лишних слов заявил ему:
– Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль… без бемолей! Самуил Абрамович онемел, растерялся – может, это шутка?! Но нет – члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, поддакивают:
– Да-да, обратите внимание – без бемолей…
Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, – наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами…
Самосуд ответил только:
– Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание.
Интересная история была с оперой “Евгений Онегин”. Действие последней картины происходит ранним утром, и Татьяна – по Пушкину – должна быть в утреннем туалете:
Княгиня перед ним одна
Сидит неубрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.
Так оно и было, пока не пришел однажды на спектакль Сталин. Увидев на Татьяне легкое утреннее платье – и Онегина перед нею, – он воскликнул:
– Как женщина может появиться перед мужчиной в таком виде?! С тех пор – и до сего дня! – Татьяна в этой сцене одета в вишневое бархатное платье и причесана, как для визита.
На Пушкина в данном случае ему было наплевать. Одеть – и кончено! Хоть в шубу!
Но все же для Большого театра он был “добрым царем”. Любил пригласить артистов к себе на пьянку, и бывший протодьякон Михайлов в таких случаях громовым голосом пел ему “Многая лета”.
Репрессии и чистки 1937 года почти не коснулись Большого театра, во всяком случае его ведущих артистов. Это был театр Сталина. Но он допускал в него и простых смертных с улицы и, наверное, гордился своим великодушием – считал себя покровителем прекрасных искусств.
Почему он любил бывать именно в опере? Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера, с ее историческими сюжетами и пышными костюмами, давала пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая “Бориса Годунова”, мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное царское облачение и сжимал в руках скипетр и державу.
Когда Сталин присутствовал на спектакле, все артисты очень волновались, старались петь и играть как можно лучше – произвести впечатление: ведь от того, как понравишься Сталину, зависела вся дальнейшая жизнь. В особых случаях великий вождь мог вызвать артиста к себе в ложу, и удостоить чести лицезреть себя, и даже несколько слов подарить. Артисты от волнения – от величия момента! – совершенно немели, и Сталину приятно было видеть, какое он производит впечатление на этих больших, талантливых певцов, только что так естественно и правдиво изображавших на сцене царей и героев, а перед ним распластавшихся от одного его слова или взгляда, ожидающих подачки, любую кость готовых подхватить с его стола. И хотя он давно привык к холуйству окружающих его, но особой сладостью было холуйство людей, отмеченных Божьим даром, людей искусства. Их унижения, заискивания еще больше убеждали его в том, что он не простой смертный, а божество.
Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гадали, что же скрыто за сказанным и за “недоговоренностью”. А он просто плохо владел русским языком и речью. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных, и применял их по обстоятельствам.
На всех портретах, во всех скульптурах, в любых изображениях он выглядит этаким богатырем, и даже видевшие его в жизни, стоявшие рядом с ним верили, что этот низенький человек – гораздо выше и больше, чем им кажется. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи, ходили медленно, будто придавленные собственной “богатырской” тяжестью. (Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи.) Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей: стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму: всем этим избам в натуральную величину, в которых спокойно можно было жить; соборам, построенным на сцене, как на городской площади, – с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны, – это интереснейшее свидетельство эпохи – как и несколько высотных зданий-монстров, оставленных Сталиным на память о себе “благодарным” потомкам.
Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в правоте его, в правомерности его действий, и, когда началось знаменитое “дело врачей-убийц”, все удивлялись (во всяком случае, вслух), что раньше сами не распознали в этих хорошо знакомых им, артистам, кремлевских врачах врагов народа.
Шли последние недели правления злого гения. Последний оперный спектакль, на котором он был в Большом театре, – “Пиковая дама” Чайковского. Артист, исполнявший партию Елецкого, П. Селиванов, выйдя во втором акте петь знаменитую арию и увидев близко от себя сидевшего в ложе Сталина, от волнения и страха потерял голос. Что делать? Оркестр сыграл вступление, и… он заговорил: “Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить…” – да так всю арию до конца в сопровождении оркестра и проговорил! Что с ним творилось – конечно, и вообразить невозможно, удивительно, как он не умер тут же на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова, тот прибежал ни жив ни мертв, трясется… Сталин спрашивает:
– Скажите, кто поет сегодня князя Елецкого?
– Артист Селиванов, товарищ Сталин.
– А какое звание имеет артист Селиванов?
– Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…
Сталин выдержал паузу, потом сказал:
– Добрый русский народ!..
И засмеялся – сострил!.. Пронесло!
Счастливый Анисимов выскочил из “предбанника”. На другой день вся Москва повторяла в умилении и восторге “гениальную” остроту вождя и учителя. А мы, артисты, были переполнены чувством любви и благодарности за великую доброту и человечность нашего Хозяина. Ведь мог бы выгнать из театра провинившегося, а он изволил только засмеяться, наш благодетель!.. Да, велика была вера в его высокую избранность, его исключительность, и когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватила всех. Ведь тридцать лет вся страна слышала только – Сталин, Сталин, Сталин!..
“Если ты, встретив трудности, вдруг усомнишься в своих силах – подумай о нем, о Сталине, и ты обретешь нужную уверенность. Если ты почувствовал усталость в час, когда ее не должно быть, – подумай о нем, о Сталине, и усталость уйдет от тебя… Если ты замыслил нечто большое – подумай о нем, о Сталине, – и работа пойдет споро… Если ты ищешь верное решение – подумай о нем, о Сталине, и найдешь это решение”. “Правда” от 17 февраля 1950 года.
На войне умирали “за родину, за Сталина”, вдруг умер ОН – который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас.
Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с опухшими от слез лицами толпятся на улицах… Как в опере “Борис Годунов”, голодный народ голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?..
По улицам Москвы из репродукторов катились волны душераздирающих траурных мелодий…
Всех сопрано Большого театра в срочном порядке вызвали на репетицию, чтобы петь “Грезы” Шумана в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Пели мы без слов, с закрытыми ртами – “мычали”. После репетиции всех повели в Колонный зал, а меня не взяли – отдел кадров отсеял: новенькая, только полгода в театре. Видно, доверия мне не было. И мычать пошло проверенное стадо.
В эти же дни, когда страна замерла и все застыло в ожидании страшных событий, кто-то, проходя по коридору в театре, бросил: – Сергей Прокофьев умер…
Весть пролетела по театру и повисла в воздухе как нереальность: кто умер? Не мог еще кто-то посметь умереть. Умер только один Сталин, и все чувства народа, все горе утраты должно принадлежать только ему.
Сергей Прокофьев умер в тот же день, что и Сталин, – 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя.
Московские улицы были перекрыты, движение транспорта остановлено. Невозможно было достать машину, и огромных трудов стоило перевезти гроб с телом Прокофьева из его квартиры в проезде Художественного театра в крошечный зал в полуподвальном помещении Дома композиторов на Миусской улице для гражданской панихиды.
Все цветочные оранжереи и магазины были опустошены для вождя и учителя всех времен и народов. Не удалось купить хоть немного цветов на гроб великого русского композитора. В газетах не нашлось места для некролога. Все принадлежало только Сталину – даже прах затравленного им Прокофьева. И пока сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу, на Миусской улице, в мрачном, сыром полуподвале, было почти пусто – только те из близких и друзей, кто жил неподалеку или сумел прорваться сквозь кордоны заграждений. А Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана…
Со смертью великого покровителя кончилась целая эпоха в истории Большого театра. Ушел гений, ушло божество, и после него пришли просто люди…»
Воспоминания Галины Вишневской помогают нам создать колоритную картину жизни Большого театра в сталинское время. Она же поведала и некоторые подробности работы с кадрами. «Если встать на площади Свердлова лицом к Большому театру, то слева окажется небольшое, ничем не примечательное здание. Здесь помещается отдел кадров Большого театра – чистилище, через которое проходит каждый, кто возмечтал связать свою судьбу с великодержавным правительственным театром, здесь трудятся в поте лица своего сотрудники КГБ. Возглавляет отдел крупный чин, но на работе он всегда в штатском. Он замурован в кабинете с тяжелой дверью, обитой ватой и черной клеенкой, чтобы ничего оттуда не могло просочиться наружу. Он сидит, будто в сейфе с самыми редкостными драгоценностями – с “личными делами” артистов Большого театра. И будь ты хоть самым великим, самым гениальным в мире артистом – ты не выйдешь на сцену Большого театра без разрешения из этого скромненького зданьица.
Большой театр служит не только искусству, он служит прежде всего правительству. Здесь частые гости – государственные деятели, а артисты “удостоены чести” выступать на правительственных приемах и банкетах. Так что главная задача отдела кадров Большого театра – обеспечить стопроцентную безопасность драгоценных жизней членов правительства. Сколько талантливых артистов застряло в заградительных сетях, расставленных усердными охранниками в штатском!»
Но были и исключения. Того же Ивана Петрова взяли в театр несмотря на арест его родителей. А когда его мать после возвращения из тюрьмы нарушила запрет на въезд в Москву (как и многим, ей было велено жить исключительно за 101-м километром), Петров заявил об уходе из театра в случае, если ее не пропишут. Ему пошли навстречу.
В Большом театре проходило и прослушивание гимнов Советского Союза в 1943 году. Тут надо отметить, что к сочинению текстов и музыки гимнов подошли довольно серьезно, пригласив к этому делу если не всех желающих поэтов и композиторов, то многих. Но вот Сергея Михалкова как раз и не позвали (детский поэт!). Он же сам проявил инициативу и вместе со своим приятелем Габриэлем Урекляном (тот писал под псевдонимом Г. Эль-Регистан) сочинил текст и послал его Шостаковичу. Причем, как говорил сам Михалков, он в основном сочинял, а его коллега редактировал, «подбирая формулировки».
Были у него в театре любимые артисты. Очень он любил Максима Дормидонтовича Михайлова в роли Ивана Сусанина в опере Глинки “Жизнь за царя”. В советское время она называется “Иван Сусанин”. Он часто ходил на эту оперу – наверное, воображал себя царем, и приятно ему было смотреть, как русский мужик за него жизнь отдает. Он вообще любил монументальные спектакли. В расчете на него их и ставили – с преувеличенной величавостью, с ненужной грандиозностью и размахом, короче, со всеми признаками гигантомании. И артисты со сцены огромными, мощными голосами не просто пели, а вещали, мизансцены были статичны, исполнители мало двигались – все было более “значительно”, чем требовало того искусство. Театр ориентировался на личный вкус Сталина. И не в том дело, хорош у него был вкус или плох, но, когда Сталин умер, театр потерял ориентир, его начало швырять из стороны в сторону, он стал попадать в зависимость от вкусов множества случайных людей.
Любимицами Сталина были сопрано Наталия Шпиллер и меццо-сопрано Вера Давыдова – обе красивые, статные; они часто пели на банкетах. Сталину приятно было покровительствовать таким горделивым, полным достоинства русским женщинам. Бывать в их обществе, произносить тосты, поучать или отечески журить их – как государь. Но все его симпатии не избавляли никого от его самодурства. Однажды на банкете в Кремле, где пели обе соперничавшие между собой красавицы, Сталин после концерта во всеуслышание сказал Давыдовой, указывая пальцем на Шпиллер:
– Вот у кого вам надо учиться петь. У вас нет школы.
Думаю, что этим не слишком “изящным” замечанием он отнял у Давыдовой несколько лет жизни. Но ведь батюшка-барин. С крепостной девкой разговаривает.
Замечательный дирижер С. А. Самосуд, многие годы проработавший в Большом театре, рассказывал мне, как однажды он дирижировал оперным спектаклем, на котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин. Не успел он войти в аванложу, как Сталин без лишних слов заявил ему:
– Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль… без бемолей! Самуил Абрамович онемел, растерялся – может, это шутка?! Но нет – члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, поддакивают:
– Да-да, обратите внимание – без бемолей…
Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, – наверняка понимавшие, что выглядят при этом идиотами…
Самосуд ответил только:
– Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно обратим внимание.
Интересная история была с оперой “Евгений Онегин”. Действие последней картины происходит ранним утром, и Татьяна – по Пушкину – должна быть в утреннем туалете:
Княгиня перед ним одна
Сидит неубрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.
Так оно и было, пока не пришел однажды на спектакль Сталин. Увидев на Татьяне легкое утреннее платье – и Онегина перед нею, – он воскликнул:
– Как женщина может появиться перед мужчиной в таком виде?! С тех пор – и до сего дня! – Татьяна в этой сцене одета в вишневое бархатное платье и причесана, как для визита.
На Пушкина в данном случае ему было наплевать. Одеть – и кончено! Хоть в шубу!
Но все же для Большого театра он был “добрым царем”. Любил пригласить артистов к себе на пьянку, и бывший протодьякон Михайлов в таких случаях громовым голосом пел ему “Многая лета”.
Репрессии и чистки 1937 года почти не коснулись Большого театра, во всяком случае его ведущих артистов. Это был театр Сталина. Но он допускал в него и простых смертных с улицы и, наверное, гордился своим великодушием – считал себя покровителем прекрасных искусств.
Почему он любил бывать именно в опере? Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера, с ее историческими сюжетами и пышными костюмами, давала пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая “Бориса Годунова”, мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное царское облачение и сжимал в руках скипетр и державу.
Когда Сталин присутствовал на спектакле, все артисты очень волновались, старались петь и играть как можно лучше – произвести впечатление: ведь от того, как понравишься Сталину, зависела вся дальнейшая жизнь. В особых случаях великий вождь мог вызвать артиста к себе в ложу, и удостоить чести лицезреть себя, и даже несколько слов подарить. Артисты от волнения – от величия момента! – совершенно немели, и Сталину приятно было видеть, какое он производит впечатление на этих больших, талантливых певцов, только что так естественно и правдиво изображавших на сцене царей и героев, а перед ним распластавшихся от одного его слова или взгляда, ожидающих подачки, любую кость готовых подхватить с его стола. И хотя он давно привык к холуйству окружающих его, но особой сладостью было холуйство людей, отмеченных Божьим даром, людей искусства. Их унижения, заискивания еще больше убеждали его в том, что он не простой смертный, а божество.
Говорил он очень медленно, тихо и мало. От этого каждое его слово, взгляд, жест приобретали особую значительность и тайный смысл, которых на самом деле они не имели, но артисты потом долгое время вспоминали их и гадали, что же скрыто за сказанным и за “недоговоренностью”. А он просто плохо владел русским языком и речью. Вероятно, он, как актер, уже давно набрал целый арсенал выразительных средств, безотказно действовавших на приближенных, и применял их по обстоятельствам.
На всех портретах, во всех скульптурах, в любых изображениях он выглядит этаким богатырем, и даже видевшие его в жизни, стоявшие рядом с ним верили, что этот низенький человек – гораздо выше и больше, чем им кажется. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи, ходили медленно, будто придавленные собственной “богатырской” тяжестью. (Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи.) Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей: стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму: всем этим избам в натуральную величину, в которых спокойно можно было жить; соборам, построенным на сцене, как на городской площади, – с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны, – это интереснейшее свидетельство эпохи – как и несколько высотных зданий-монстров, оставленных Сталиным на память о себе “благодарным” потомкам.
Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в правоте его, в правомерности его действий, и, когда началось знаменитое “дело врачей-убийц”, все удивлялись (во всяком случае, вслух), что раньше сами не распознали в этих хорошо знакомых им, артистам, кремлевских врачах врагов народа.
Шли последние недели правления злого гения. Последний оперный спектакль, на котором он был в Большом театре, – “Пиковая дама” Чайковского. Артист, исполнявший партию Елецкого, П. Селиванов, выйдя во втором акте петь знаменитую арию и увидев близко от себя сидевшего в ложе Сталина, от волнения и страха потерял голос. Что делать? Оркестр сыграл вступление, и… он заговорил: “Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить…” – да так всю арию до конца в сопровождении оркестра и проговорил! Что с ним творилось – конечно, и вообразить невозможно, удивительно, как он не умер тут же на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова, тот прибежал ни жив ни мертв, трясется… Сталин спрашивает:
– Скажите, кто поет сегодня князя Елецкого?
– Артист Селиванов, товарищ Сталин.
– А какое звание имеет артист Селиванов?
– Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…
Сталин выдержал паузу, потом сказал:
– Добрый русский народ!..
И засмеялся – сострил!.. Пронесло!
Счастливый Анисимов выскочил из “предбанника”. На другой день вся Москва повторяла в умилении и восторге “гениальную” остроту вождя и учителя. А мы, артисты, были переполнены чувством любви и благодарности за великую доброту и человечность нашего Хозяина. Ведь мог бы выгнать из театра провинившегося, а он изволил только засмеяться, наш благодетель!.. Да, велика была вера в его высокую избранность, его исключительность, и когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватила всех. Ведь тридцать лет вся страна слышала только – Сталин, Сталин, Сталин!..
“Если ты, встретив трудности, вдруг усомнишься в своих силах – подумай о нем, о Сталине, и ты обретешь нужную уверенность. Если ты почувствовал усталость в час, когда ее не должно быть, – подумай о нем, о Сталине, и усталость уйдет от тебя… Если ты замыслил нечто большое – подумай о нем, о Сталине, – и работа пойдет споро… Если ты ищешь верное решение – подумай о нем, о Сталине, и найдешь это решение”. “Правда” от 17 февраля 1950 года.
На войне умирали “за родину, за Сталина”, вдруг умер ОН – который, казалось бы, должен жить вечно и думать за нас, решать за нас.
Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство… Но вот он умер, и рабы рыдают, с опухшими от слез лицами толпятся на улицах… Как в опере “Борис Годунов”, голодный народ голосит:
На кого ты нас покидаешь, отец наш?
На кого ты нас оставляешь, родимый?..
По улицам Москвы из репродукторов катились волны душераздирающих траурных мелодий…
Всех сопрано Большого театра в срочном порядке вызвали на репетицию, чтобы петь “Грезы” Шумана в Колонном зале Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Пели мы без слов, с закрытыми ртами – “мычали”. После репетиции всех повели в Колонный зал, а меня не взяли – отдел кадров отсеял: новенькая, только полгода в театре. Видно, доверия мне не было. И мычать пошло проверенное стадо.
В эти же дни, когда страна замерла и все застыло в ожидании страшных событий, кто-то, проходя по коридору в театре, бросил: – Сергей Прокофьев умер…
Весть пролетела по театру и повисла в воздухе как нереальность: кто умер? Не мог еще кто-то посметь умереть. Умер только один Сталин, и все чувства народа, все горе утраты должно принадлежать только ему.
Сергей Прокофьев умер в тот же день, что и Сталин, – 5 марта 1953 года. Не дано ему было узнать благой вести о смерти своего мучителя.
Московские улицы были перекрыты, движение транспорта остановлено. Невозможно было достать машину, и огромных трудов стоило перевезти гроб с телом Прокофьева из его квартиры в проезде Художественного театра в крошечный зал в полуподвальном помещении Дома композиторов на Миусской улице для гражданской панихиды.
Все цветочные оранжереи и магазины были опустошены для вождя и учителя всех времен и народов. Не удалось купить хоть немного цветов на гроб великого русского композитора. В газетах не нашлось места для некролога. Все принадлежало только Сталину – даже прах затравленного им Прокофьева. И пока сотни тысяч людей, часто насмерть давя друг друга, рвались к Колонному залу Дома союзов, чтобы в последний раз поклониться сверхчеловеку-душегубу, на Миусской улице, в мрачном, сыром полуподвале, было почти пусто – только те из близких и друзей, кто жил неподалеку или сумел прорваться сквозь кордоны заграждений. А Москва в истерике и слезах хоронила великого тирана…
Со смертью великого покровителя кончилась целая эпоха в истории Большого театра. Ушел гений, ушло божество, и после него пришли просто люди…»
Воспоминания Галины Вишневской помогают нам создать колоритную картину жизни Большого театра в сталинское время. Она же поведала и некоторые подробности работы с кадрами. «Если встать на площади Свердлова лицом к Большому театру, то слева окажется небольшое, ничем не примечательное здание. Здесь помещается отдел кадров Большого театра – чистилище, через которое проходит каждый, кто возмечтал связать свою судьбу с великодержавным правительственным театром, здесь трудятся в поте лица своего сотрудники КГБ. Возглавляет отдел крупный чин, но на работе он всегда в штатском. Он замурован в кабинете с тяжелой дверью, обитой ватой и черной клеенкой, чтобы ничего оттуда не могло просочиться наружу. Он сидит, будто в сейфе с самыми редкостными драгоценностями – с “личными делами” артистов Большого театра. И будь ты хоть самым великим, самым гениальным в мире артистом – ты не выйдешь на сцену Большого театра без разрешения из этого скромненького зданьица.
Большой театр служит не только искусству, он служит прежде всего правительству. Здесь частые гости – государственные деятели, а артисты “удостоены чести” выступать на правительственных приемах и банкетах. Так что главная задача отдела кадров Большого театра – обеспечить стопроцентную безопасность драгоценных жизней членов правительства. Сколько талантливых артистов застряло в заградительных сетях, расставленных усердными охранниками в штатском!»
Но были и исключения. Того же Ивана Петрова взяли в театр несмотря на арест его родителей. А когда его мать после возвращения из тюрьмы нарушила запрет на въезд в Москву (как и многим, ей было велено жить исключительно за 101-м километром), Петров заявил об уходе из театра в случае, если ее не пропишут. Ему пошли навстречу.
В Большом театре проходило и прослушивание гимнов Советского Союза в 1943 году. Тут надо отметить, что к сочинению текстов и музыки гимнов подошли довольно серьезно, пригласив к этому делу если не всех желающих поэтов и композиторов, то многих. Но вот Сергея Михалкова как раз и не позвали (детский поэт!). Он же сам проявил инициативу и вместе со своим приятелем Габриэлем Урекляном (тот писал под псевдонимом Г. Эль-Регистан) сочинил текст и послал его Шостаковичу. Причем, как говорил сам Михалков, он в основном сочинял, а его коллега редактировал, «подбирая формулировки».