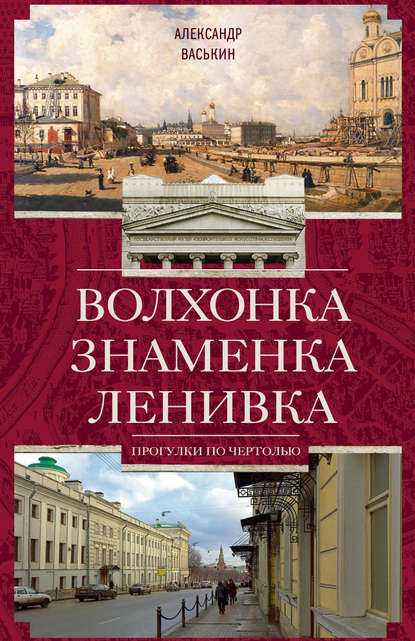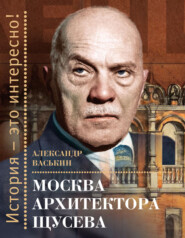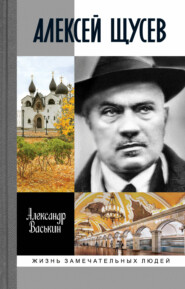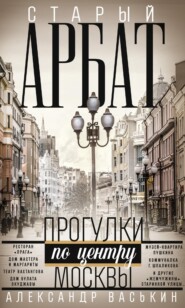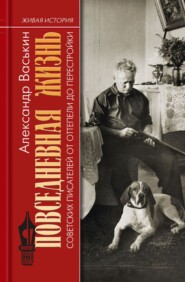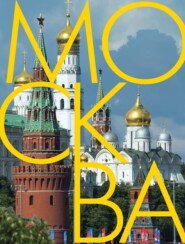По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Летом 1890 г. Общество искусства и литературы переехало в небольшое помещение на Поварской улице, а в 1891 г. после пожара спектакли были перенесены в помещение Немецкого клуба на Софийке (ныне Пушечная улица, Центральный дом работников искусств). Здесь 8 февраля 1891 г. состоялась премьера «Плодов просвещения» Л.Н. Толстого – в спектакле четко определился социальный характер режиссерского замысла Станиславского.
В 1898 г. основная часть труппы перешла в основанный Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московский общедоступный художественный театр, в его составе были М.П. Лилина, М.Ф. Андреева, В.В. Лужский, А.Р. Артем, Г.С. Бурджалов, А.А. Санин, художник В.А. Симов, гример-художник Я.И. Гремиславский, машинист сцены И.И. Титов. После ухода из общества Станиславского и значительной части актеров драматический кружок возглавил Н.Н. Арбатов.
В 1920-х гг. в этом доме собиралось уже другое общество с рычащей аббревиатурой – АХРР – Ассоциация художников революционной России.
Ассоциация зародилась в 1922 г. по инициативе бывших членов Товарищества передвижных выставок Н.А. Касаткина, В.В. Журавлева и других, а также молодых и никому не известных тогда реалистов. Председателем АХРР стал бывший глава передвижников П.А. Радимов, секретарем – Е.А. Кацман.
Ахровцы стали настоящими апологетами социалистического реализма, его предвестниками. В отличие от собиравшихся здесь до них членов Общества искусства и литературы они не задавались целью содействовать развитию изящных вкусов, а даже наоборот: «Мы дадим действительную картину событий, а не абстрактные измышления, дискредитирующие нашу революцию перед лицом мирового пролетариата», – писали воинственные реалисты. Они обратились в ЦК РКП(б), заявив, что предоставляют себя в полное распоряжение революции, и потребовали указать им, как надо работать. Что вскоре и было сделано, причем указали им не только как работать, но и их место.
Поэт Илья Сельвинский так отзывался в своем дневнике от 6 июня 1936 г. об ахровцах: «При сравнении социалистической культуры с буржуазной я всегда предпочту первую, но при сравнении буржуазной культуры с бескультурьем антибуржуазного характера – я не в силах принять второго. Буржуазный Гоген или Дебюсси все же ближе мне, чем наш ахровец Радимов».
Ассоциация художников революционной России существовала до тех пор, пока 23 апреля 1932 г. не вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературнохудожественных организаций», по которому различные группировки художников упразднялись и создавались городские, областные и республиканские союзы художников, объединенные в 1938 г. в большой Союз советских художников.
Улица Волхонка, дом 9. «Тоша» и «Ильюханция». «Служили два друга»: Ленский и Южин
Дом построен в 1880 г. на месте бывшей усадьбы Нарышкиных, архитектор А.А. Никифоров.
Бывшей усадьбой Нарышкиных владели в XIX в. Николай Гаврилович Рюмин (1793–1870), тайный советник, камергер высочайшего двора, откупщик и богатей, и его жена Елена Федоровна Рюмина, урожденная Кандалинцева (1800–1874).
Волхонка, дом 9
«Из грязи в князи» – это про Николая Рюмина. Его отец, рязанский миллионер Гаврила Васильевич Рюмин (1751–1827), в начале своей карьеры торговал пирогами на рязанском базаре. Обладая природной сметливостью, быстро пошел в гору. В Рязани ему принадлежали полотняный и винный заводы, два десятка винных лавок. Ему одному выпала честь принимать у себя царя Александра I, проезжавшего через Рязань в 1812 и 1820 гг. За верную службу Отечеству Гаврила Рюмин был пожалован правами потомственного дворянина и дворянским гербом.
Его младший сын Николай Рюмин пошел еще дальше, преумножив состояние отца. Славился Николай Гаврилович и своей щедростью. Рязань была полна приношениями и дарами Рюмина-младшего. В домах, пожертвованных им городу, помещались дворянский пансион, мужская и женская гимназии, а сад в его владении стал любимым местом отдыха горожан.
Полученные Рюминым чины, ордена и звания – это тоже следствие достигнутого финансового положения, позволившего ему упрочить сложившуюся фамильную традицию благотворительности и меценатства. Вот почему Рюминых помнят не только в Москве (в старой столице Рюмин сделал много больших церковных вкладов), Рязани, но и в Швейцарии. Жители Цюриха в качестве признательности назвали одну из улиц города в честь мецената Рюмина.
Не было бы Николая Рюмина – не было бы и Морозовых. Крепостной Савва Васильевич Морозов, с которого принято вести историю рода Морозовых, в 1820 г. выкупился именно у Николая Гавриловича Рюмина.
Москвичам запомнились устраиваемые Рюминым балы. Е.А. Драшусова вспоминала:
«В давно минувшие добрые времена Москва отличалась гостеприимством и веселостью. Приятно слушать рассказы о старинных русских домах, где всех ласково, приветливо принимали, где не думали о том, чтобы удивлять роскошью, не изобретали изысканных тонких обедов, разорительных балов с разными затеями, где льется шампанское, напивается молодежь, что прежде было неслыханно.
Тогда заботились только о том, чтобы всего было вдоволь. Радушие хозяев привлекало посетителей, тогда легче завязывались дружеские связи, тогда было у кого встречаться, собираться запросто, когда не представлялось какого-нибудь общественного увеселения или светского бала, тогда не сидели все по своим углам, не зевали и не жаловались на тоскищу (современное выражение)… тогда молодые люди не искали развлечения у цыганок, у девиц хора, в обществе своих и чужих любовниц. Роскошь убила гостеприимство точно так же, как неудачная погоня за наукой и напускной либерализм уничтожили в женщинах любезность, приветливость и сердечность. Когда мы поселились в Москве, существовали еще гостеприимные дома, давались веселые праздники, и у многих сохранились еще традиции русского радушия и хлебосольства.
Исчислять московские гостиные было бы слишком долго – скажу только о беспрестанных праздниках и приемах
Рюминых. Последние были мои наидавнейшие знакомые. Николай Гаврилович Рюмин нажил огромное состояние откупами. Говорят, он имел миллион дохода. Он прежде жил в семействе в Рязани, где еще его отец положил в самой скромной должности целовальника начало его колоссального богатства. Потом они переехали в Москву, поселились на Воздвиженке в прелестном доме, который периодически реставрировался и украшался и в котором в продолжение многих лет веселили Москву.
Я бывала на балах у Рюминых молодой девушкой. И теперь, после долгого отсутствия из Москвы, нашла у них прежнее гостеприимство и прежнее веселье. Кроме больших балов и разного рода праздников, которые они давали в продолжение года, у них танцевали каждую неделю, кажется, по четвергам, каждый день у них кто-нибудь обедал из близких знакомых. Сверх того, они по воскресеньям давали большие обеды и вечером принимали. В воскресенье вечером у них преимущественно играли в карты. Я говорила, что московское общество обязано было бы поднести адрес Рюминым с выражением благодарности за их неутомимое желание доставлять удовольствие бесчисленным знакомым».
Узнаем мы из мемуаров Драшусовой и судьбу самого Николая Рюмина: «Можно ли было ожидать, что и такое громадное состояние пошатнется? Всегда находятся люди, которые умеют эксплуатировать богачей и наживаться на их счет. Н.Г. Рюмин много проиграл в карты, много прожил, много потерял на разных предприятиях. Казалось бы, для чего при таком богатстве пускаться в спекуляции? Неужели из желания еще больше разбогатеть? Как бы то ни было, но после его смерти дела оказались совершенно расстроенными. Вдова продолжала жить в великолепном своем доме, где сохранилась наружная прежняя обстановка, для чего прибегали к большим усилиям. Со смертью Елены Федоровны все рухнуло, и из колоссального состояния осталось очень немного».
У Рюминых было пять дочерей: Прасковья, Любовь, Вера, Екатерина и Мария: «Несмотря на светскую тщеславную жизнь, беспрерывные развлечения и суету, девицы Рюмины были вполне хорошо воспитаны, религиозны, с серьезным направлением и вовсе не увлекались светом».
О Рюмине стоило рассказать здесь не только в связи с его местом жительства. А еще и по той причине, что благодаря и ему в том числе стоят дома на Волхонке и на других старых московских улочках. Стоят и будут еще стоять, настолько крепки кирпичи, сложившиеся в стены. Николай Гаврилович Рюмин был владельцем кирпичного производства в подмосковном Кучине. Его завод на реке Пехорке (ныне г. Железнодорожный) был одним из крупнейших поставщиков кирпича в Москву.
Велико было мастерство русских архитекторов и строителей, но и мастера-кирпичники заслуживают должного уважения. К качеству кирпича во все времена предъявлялись в России серьезные требования. Он должен был быть крепок, плотен, мелкослоен и при изломе стекловиден, что означало хорошую помесь глины и удачный обжиг. Положенный в воду, он не должен был размокать и увеличиваться в весе.
И на производстве кирпичей работали не разнорабочие, а специалисты, мастера своего дела. Рабочие, которые рыли глину и возили ее на тачках, назывались копачами. Другие рабочие – порядовщики – готовили глину и работали с сырцом. Сушники смотрели за просушкой кирпича, правили его дощечками и наблюдали за приостановкой и откидкой.
Самым ценным кирпичом считался подпятный кирпич – он приминался в деревянных станках пятками рабочих и был прочнее выработанных другим способом, так как масса глины делалась круче и уминалась в формы плотнее. Столовый кирпич вырабатывался на столе, глина набивалась в форму рукою. Машинный кирпич делался в металлических формах и был менее прочен по сравнению с другими.
Мастера-обжигалы укладывали сырец в печь. В продолжение четырех, пяти и даже десяти суток поддерживался слабый огонь. Этот период обжига назывался на парах, то есть в это время выгонялся пар из сырца. После чего на двое-трое суток разводился сильный, ровный огонь, который поднимался до самого верха печи. Кирпич при этом раскалялся докрасна, как железо в кузнице. Эта операция называлась взваром. Потом печи давали остывать в течение пяти суток и начинали выгрузку кирпича.
После обжига кирпич выходил нескольких сортов: железняк, полужелезняк, красный, алый, полуалый и печной. Особо ценился красный и алый кирпич. Вывозили кирпич в Москву на лошадях. Принято было на заводах накладывать до тысячи кирпичей на шесть лошадиных повозок. На многие версты растягивались лошадиные караваны с кирпичами…
Через много лет после Рюмина по этому адресу жил замечательный художник Илья Семенович Остроухов (1858–1929). Родился он в самом что ни на есть купеческом сердце Москвы – в Замоскворечье. Зажиточная семья желала видеть в нем продолжателя своего дела и направила учиться в Московскую практическую академию коммерческих наук. А он учился навыкам рисования у Репина и Чистякова. В итоге дебют двадцативосьмилетнего художника состоялся на 14-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1886 г.
Павел Третьяков обратил внимание на подававшего большие надежды Остроухова, начав покупать его полотна для своей галереи – «Ранняя весна», «Золотая осень» и, конечно, «Сиверко», которое он ставил в ряд лучших пейзажей своей коллекции. Но и сам Остроухов стал собирать картины, поначалу это были подарки коллег. В 1881 г. Василий Поленов преподнес Илье Семеновичу этюд «Лодочка», что и стало первым полотном в его коллекции.
Постепенно любовь к живописи стала соперничать с пламенной страстью к собирательству, чему способствовала женитьба на Н.П. Боткиной, дочери богатого чаеторговца. К концу XIX в. слава Остроухова-коллекционера в Москве намного превосходит известность Остроухова-художника.
В 1905 г. Остроухов по праву был избран попечителем Третьяковской галереи. Критик А. Эфрос отмечал: «Старая Москва звала его просто Ильей Семеновичем, без фамилии, словно никакой фамилии у него не было. Это – особая, исконная российская честь, означавшая, что другого человека с таким именем-отчеством не существует, а этого, единственного, должен знать всякий. Он делил в собирательстве это отличие только с «Павлом Михайловичем» Третьяковым; он – второй после него и последний».
После 1917 г. коллекция Остроухова была национализирована, а сам он занял почетную должность пожизненного заведующего Музея иконописи и живописи в Москве.
Однажды с Ильей Семеновичем произошел такой случай. Он продал за 300 рублей своему дальнему родственнику и собирателю картин Д.И. Щукину большое полотно, на котором была явственно различима подпись Терборха. Это была странная аллегория в жанре пейзажа, в которой не просматривалась ни одна из черт, характерных для творческой манеры этого художника. Однако Остроухов настаивал, что это Терборх. Картина оставалась в коллекции Щукина около года, и он все более сомневался в авторстве знаменитого голландца. Наконец, отправляясь в Берлин, Дмитрий Иванович захватил эту вещь с собой и продал ее уже за 600 рублей. Каково же было огорчение Щукина, когда в одном из западноевропейских журналов по искусству он прочел, что его картину приобрел директор Гаагского музея Бредиус, а после реставрации под фальшивой подписью Терборха была обнаружена подлинная подпись Вермера Дельфтского! Картина называлась «Аллегория веры» и оценивалась экспертами в 400 тысяч марок. Вот так Илья Семенович Остроухов не распознал великого художника.
В 1906 г. сюда же переехал и жил в течение нескольких лет художник Валентин Александрович Серов (1865–1911). У Серова и Остроухова была совместная мастерская. Еще в их «холостые» годы, как пишет дочь Серова Ольга Валентиновна, «Серов и Остроухов сильно дружили… На всем протяжении двадцатишестилетней дружбы Ильей Семеновичем проявлено к папе огромное внимание, любовь и забота».
В 1950 г. в СССР были впервые изданы «Воспоминания о русских художниках» Всеволода Мамонтова, сына Саввы Мамонтова. Всеволод Мамонтов работал в ту пору хранителем музея-усадьбы «Абрамцево». Автор близко знал многих выдающихся русских художников, входящих в круг Абрамцевского кружка. Мамонтов сообщает интересный факт: Валентина Александровича Серова в семье Мамонтовых звали Антоном: «Когда родилось это имя – Антон, я не помню. В доме нашем Серов появился «Тошей», и затем уже Тошу перекрестили Антошей – Антоном. Любопытно подчеркнуть, что сам Серов никогда не протестовал против этого нового имени и как будто даже любил его, по крайней мере, в память его одного из своих сыновей назвал Антоном».
Илью Семеновича Остроухова, как вспоминает В.С. Мамонтов, звали в Абрамцеве Ильюханция. В 1880-х гг. Остроухов был постоянным гостем в Абрамцеве и своим человеком в семье Мамонтовых. В то время «он не имел положительно ничего общего с тем тучным, преисполненным важности и самоуверенности общепризнанным авторитетом в вопросах живописи, каким он, покинув пост директора Третьяковской галереи, доживал свой век при музее своего имени в Трубниковском переулке в Москве. Мне, коротко знавшему Илью Семеновича с молодых его лет, казалось невероятным, чтобы так радикально мог измениться человек», – вспоминал Всеволод Мамонтов в 1951 г.
Валентин Серов вырос в музыкальной семье. Его отцом был композитор Александр Николаевич Серов, известный своими операми «Юдифь» и «Вражья сила», а мать – первая в России профессиональный композитор-женщина, Валентина Семеновна Бергман. Оперы Серовых ставились в Большом театре. Удивительно, что у двух композиторов родился будущий художник.
Федор Иванович Шаляпин вспоминал:
«Я готовил к одному из сезонов роль Олоферна в «Юдифи» Серова. Художественно-декоративную часть этой постановки вел мой несравненный друг и знаменитый наш художник Валентин Александрович Серов, сын композитора. Мы с ним часто вели беседы о предстоящей работе. Серов с увлечением рассказывал мне о духе и жизни древней Ассирии. А меня волновал вопрос, как представить мне Олоферна на сцене? Обыкновенно его у нас изображали каким-то волосатым размашистым чудовищем. Ассирийская бутафория плохо скрывала пустое безличие персонажа, в котором не чувствовалось ни малейшего дыхания древности. Это бывал просто страшный манекен, напившийся пьяным. А я желал дать не только живой, но и характерный образ древнего ассирийского сатрапа. Разумеется, это легче желать, чем осуществить. Как поймать эту давно погасшую жизнь, как уловить ее неуловимый трепет? И вот однажды в студии Серова, рассматривая фотографии памятников старинного искусства Египта, Ассирии, Индии, я наткнулся на альбом, в котором я увидел снимки барельефов, каменные изображения царей и полководцев, то сидящих на троне, то скачущих на колесницах, в одиночку, вдвоем, втроем. Меня поразило у всех этих людей профильное движение рук и ног – всегда в одном и том же направлении. Ломаная линия рук с двумя углами в локтевом сгибе и у кисти наступательно заострена вперед. Ни одного в сторону раскинутого движения!
В этих каменных позах чувствовалось великое спокойствие, царственная медлительность и в то же время сильная динамичность. Не дурно было бы – подумал я – изобразить Олоферна вот таким, в этих типических движениях, каменным и страшным. Конечно, не так, вероятно, жили люди той эпохи в действительности; едва ли они так ходили по своим дворцам и в лагерях; это, очевидно, прием стилизации. Но ведь стилизация – это не сплошная выдумка, есть же в ней что-нибудь от действительности, рассуждал я дальше. Мысль эта меня увлекала, и я спросил Серова, что подумал бы он о моей странной фантазии?
Серов как-то радостно встрепенулся, подумал и сказал: – Ах, это бы было очень хорошо. Очень хорошо!.. Однако поберегись. Как бы не вышло смешно…
Мысль эта не давала мне покоя. Я носился с нею с утра до вечера. Идя по улице, я делал профильные движения взад и вперед руками и убеждал себя, что я прав. Но легко ли будет, возможно ли будет мне при такой структуре фигуры Олоферна заключать Юдифь в объятия?.. Я попробовал – шедшая мне навстречу по тротуару барышня испуганно отшатнулась и громко сказала:
– Какой нахал!..
Я очнулся, рассмеялся и радостно подумал: «Можно…»
Серов казался суровым, угрюмым и молчаливым. Вы бы подумали, глядя на него, что ему неохота разговаривать с людьми. Да, пожалуй, с виду он такой. Но посмотрели бы вы этого удивительного «сухого» человека, когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне направляется на рыбную ловлю. Какой это сердечный весельчак и как значительно-остроумно каждое его замечание. Целые дни проводили мы на воде, а вечером забирались на ночлег в нашу простую рыбацкую хату. Коровин лежит на какой-то богемной кровати, так устроенной, что ее пружины обязательно должны вонзиться в ребра спящего на ней великомученика. У постели на тумбочке горит огарок свечи, воткнутый в бутылку, а у ног Коровина, опершись о стену, стоит крестьянин Василий Князев, симпатичнейший бродяга, и рассуждает с Коровиным о том, какая рыба дурашливее и какая хитрее… Серов слушает эту рыбную диссертацию, добродушно посмеивается и с огромным темпераментом быстро заносит на полотно эту картинку, полную живого юмора и правды.
Серов оставил после себя огромную галерею портретов наших современников и в этих портретах рассказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет – почти биография. Не знаю, жив ли и где теперь мой портрет его работы, находившийся в Художественном кружке в Москве? Сколько было пережито мною хороших минут в обществе Серова! Часто после работы мы часами блуждали с ним по Москве и беседовали, наблюдая жизнь столицы. Запомнился мне, между прочим, курьезный случай. Он рисовал углем мой портрет. Закончив работу, он предложил мне погулять. Это было в пасхальную ночь, и часов в двенадцать мы пробрались в храм Христа Спасителя, теперь уже не существующий. В эту заутреню мы оказались большими безбожниками, несмотря на все духовное величие службы. «Отравленные» театром, мы увлечены были не самой заутреней, а странным ее «мизансценом». Посредине храма был поставлен какой-то четырехугольный помост, на каждый угол которого подымались облаченные в ризы дьяконы с большими свечами в руках и громогласно, огромными трубными голосами, потряхивая гривами волос, один за другим провозглашали молитвы. А облаченный архиерей маленького роста с седенькой небольшой головкой, смешно торчавшей из пышного облачения, взбирался на помост с явным старческим усилием, поддерживаемый священниками. Нам отчетливо казалось, что оттуда, откуда торчит маленькая головка архиерея, идет и кадильный дым. Не говоря ни слова друг другу, мы переглянулись. А потом увидели: недалеко от нас какой-то рабочий человек, одетый во все новое и хорошо причесанный с маслом, держал в руках зажженную свечку и страшно увлекался зрелищем того, как у впереди него стоящего солдата горит сзади на шинели ворс, «религиозно» им же поджигаемый… Мы снова переглянулись и поняли, что в эту святую ночь мы не молельщики…»
В 1890-х гг. здесь жил «отец русской урологии» Федор Иванович Синицын (1835–1907), профессор медицины Московского университета по кафедрам хирургической патологии и мочеполовых болезней. С именем ученого связана борьба за выделение урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием в университете. Синицын владел выдающимся даром лектора. Его выступления вызывали огромный интерес коллег и студентов, проходили при переполненных аудиториях без перерыва, по два с половиной часа. Ему принадлежит ряд научных работ, среди которых «Переливание крови у людей», «Письмо об успехах хирургии в Германии», «Оценка промежкостного и высокого сечения при камнях мочевого пузыря», «Врожденное уродство стопы».
В 80-х гг. XIX в. в доме жил артист А.П. Ленский (1847–1908), «гениальный педагог» и «гениальный мастер сцены» (по словам В.Э. Мейерхольда). Ленский – это псевдоним, а настоящая его фамилия по матери – Вервициотти. Почему по матери – потому что он был внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина от гастролировавшей по России итальянской певицы Ольги Вервициотти. И естественно, что фамилию отца он взять не мог (вот как интересно получается – и у Живокини были итальянские корни).