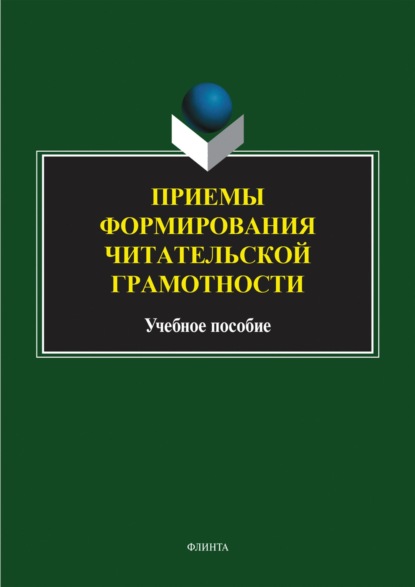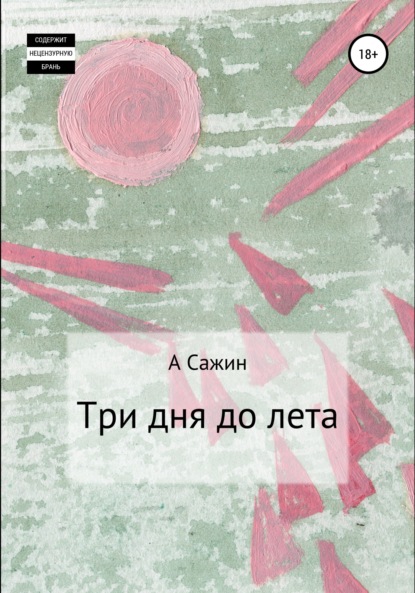По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три дня до лета
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Три дня до лета
А Сажин
«Там, где страх, места нет любви».История о персонаже без определённого места в современном мире. «Я – как побитая бездомная собака» – выпалил он очередной знакомой с цифрового кладбища Тиндера. И пошел на работу… За стекло, туда, где жизнь – это тень на перфорированном потолке офиса. А цель еще более неосязаема. Знакомо?Но всему приходит конец. Не буду лукавить, не будет сюрпризом, что меня нет. «Я умер. Не так давно, но это неважно» – говорит он своей очередной знакомой из Тиндера.И на закате идет раздавать газеты в многотысячном ЖК «Цветной Город», повторяя: «благослави тех, кто видит во мне человека». Вдруг женщины с детьми на самокатах заулыбались. Ведь иногда конец – это начало истории.
А Сажин
Три дня до лета
Часть 1
1 Вкустер
Рой мух касался лица, как будто я мертв. На лужах не было следов, а только ровная безразличная гладь, когда мы шли с Яной, взявшись за руки. Светило лицемерное солнце и тут же скрывалось, и был вроде даже снег и тут же исчезал. И это начало лета. Заговорил истошный ветер и сдул этот день, проревев историю про какой-то инопланетный закат. Я не верил в эту историю, это было больше похоже на какое-то магическое заклинание. Потом я пах дрожью, несся в своем старом авто между погостами по виадуку из Купчино в Рыбацкое, который парил хмурой сумеречной вязью и судорожно же кончал в девятиэтажки. Там, в Рыбацком жила моя Рита, точнее – в прошлом моя. А Яна из Купчино источала сладкий виноград, и это не шутка! Ее действительно звали Яна, и она действительно пахла виноградом, как я в этом убедился, проведя с ней этот магический вечер. Столбы освещения казались мне очень коротконогими, нелепо нагими, мне хотелось их одеть и обнять. Когда я обнимал Яну из Купчино пятнадцать минут назад, она вымолвила – все хорошо! И повторила – Все хорошо! Я вдохнул сладкий виноград ее волос и, задрав голову навстречу строительному крану, нависшему над нами, сказал – все прекрасно! Дрожь пронизывала меня, и я оказался на Шлиссельбургском, у дома, где на первом этаже точки из красного кирпича жила моя Рита. Я встал под подросшую ель и наблюдал, как Рита готовит ужин. Она умелыми руками резала мясо, она боялась смерти, она была немного ошалелая, и вдруг задернула штору, поморщившись на размякший уличный мрак. Наши глаза встретились, но вселенский страх, который стянул наши мышцы и разум, не позволил никак отреагировать. Время морщинистой сукой стало лапать меня, заставляя ей отлизать, положив руку мне на затылок, плотно прижавшись промежностью, сдвинув свои еще пока подтянутые ляжки. У меня не было выбора. Я поддался, но все эти затянувшиеся секунды думал о доброй улыбке Яны, о ее словах, что все хорошо, о ее объятиях. Она своей добротой наполнила концентрат чувств и нежности внутри меня, который я так долго скапливал и таил в себе, сбив в маленькую плотную горошинку, не давая им выхода. И все вырвалось и разбросалось! Я падок на доброту. Не могу ничего с этим поделать. Сразу тянусь как недоверчивое животное, вдруг учуявшее ласку. Я чувствами как маленький ребеночек, привыкаю, подпускаю потихоньку, смотрю в глаза, сканирую любовь и всю вот эту хуйню. Яна обняла меня пятнадцать минут назад, сказала – Все хорошо, потом повторила – Все хорошо! Я ей ответил – Все прекрасно! Я смотрел на нависший кран, а потом услышал ее слова: «Андрей, давай потрахаемся, проведем пару ночей. Ты вкусно пахнешь, но между нами не может быть ничего серьезного». Добрая улыбка почему-то превратилась в похотливый морщинистый оскал, я ужаснулся, хоть и не был прочь потрахаться. И задрожал, и ничего не смог с этим поделать. Я вспомнил про мою прекрасную Риту и помчался в Рыбацкое.
На следующее утро я получил сообщение:
«Более бессмысленное, чего может ожидать или бояться человек, – это конец жизни. Есть закономерности, но также велик процент фатальных случайностей. Можно представить, что каждый атом, из которого мы сейчас состоим уже был когда-то в составе живого существа – оно также боялось смерти.» Я подумал, что смерть пахнет виноградом, что несчастье пахнет виноградом, и стал собираться на работу. По пути я размышлял, что чтобы научиться любить на этих болотистых равнинах, нужно научиться летать, минуя пыльные бури с пустынных далеких земель, что нужно взорваться, вспыхнуть искрометным салютом над чернеющим сквером, рассказать первой встречной все свои тайны, и, взяв ее за теплую как будто уже родную руку, без сожаления отпустить навсегда. Потом одинокой пустынной ночью, возвращаясь бухим домой, услышать рев авто дальнобойщика, и зверем закричать в унисон, что не боишься смерти, что веришь в любовь.
2 Ода Рите
Уже довольно давно я расстался с Ритой. Мы долго встречались, и было как будто все неплохо. Но как-то на скамейке в Таврическом саду напротив памятника Чайковскому я ей сказал: «Мне кажется, из меня ничего не получится» Вот так. И тут же почему-то дал ей прочитать свой рассказ, который недавно написал. Рассказ? – спросите вы. Да. Я не понимал, что со мной произошло тогда. На меня как будто нахлынула Волна и подняла на свой бурлящий гребень и ударила головой об потолок моей комнаты, и я с трясущимися руками начал писать рассказ. Не я как будто писал, а кто-то выше с высоких облаков, но моими руками. Потом Волна скинула меня прочь, и я закончил. И я упал на свою кровать без сил и уснул тут же. Ах да, рассказ назывался «Ода Рите». Как вы поняли, я посвятил его своей девушке. Кому же еще?
Я редко говорил, что люблю ее и всегда это получалось как-то искусственно, как будто неправда, как будто неискренне. И с каждым дуновением и приливом чувств я зарывался вместе с ними глубоко, прямо туда, где мои усталые подошвы топтали землю. Я хотел ей однажды сказать, что не умею любить. Это было в Зеленогорске на колесе обозрения, когда наша кабинка воспарила над хвойным лесом, и показалось серое молчаливое море. Лето подходило к концу. Но я не знал, как это произнести. Я будто бы сомневался и пытался понять, так ли это на самом деле, может, все-таки найти в себе что-то. Если бы я знал, что искать… Пытался найти в себе что-то живое, но всегда подходя поближе, терялся, мямлил, говорил, запинаясь в сторону, как будто у меня воняет изо рта мертвечиной. Я почти был в этом уверен. Я боялся, что эта вонь достигнет ее красивого лица вместе со словами о любви, коснется ее удлинённого носика как у рыжей игривой колли и пышной львиной шевелюры. Мое сердце покрывало коростами неуверенность и недосказанность, и росла дистанция. Все близилось к концу. Но рассказ не об этом, он как раз о любви, о такой, которая моя, о любви, которую я умею. Итак.
Ода Рите.
Что для вас колесо обозрения? Вертящаяся хуйня. Что для вас любой другой объект? Да ничего, если он никак ни с чем важным в вашей жизни не связан.
Мы с Яной спускались в открытой люльке фуникулера. Перед нами распластался ночной мерцающий Геленджик, сползающий в море. Позади на черной горе бесшумно кружило и светилось колесо обозрения. Бесшумно для вас. Для меня же оно скрежетало и прожигало бедное мое темечко, вырываясь из моих усталых глазниц, вычерчивая кислотными лучами цвета прошлой жизни наш с Яной поцелуй. Томный южный поцелуй. Ее же глаза были закрыты, веки пробивала манящая дрожь, а длинные ресницы врывались в ночь. Поцеловаться предложил я, так как такой момент, так как такой вид и романтично, и потом пожалею упущенное. Но пожалел я по-другому. Об этом и мой сказ.
Дело в том, что моя Рита любила колесо обозрения. Не конкретное, а вообще…
Здесь я был бы рад закончить и навсегда замолчать, но скажу еще пару слов. Я томился и отсутствовал. Я не видел своего тела, своих рук, причину этого я не мог разгадать. То ли высшее счастье, то ли желание умереть. Вибрирующая песня восходящих потоков вторила моему затаившемуся отчаянию, теребила обессиленные рецепторы. Морской минеральный воздух лечит – повторял я себе, любуясь видами. Мучительные воспоминания возникали как острые укусы, но тут же перетекали в алкогольные онемения в членах. Вспомнились северные ели, поддевающие наш с Ритой кружащий медленный полет в Зеленогорске. Щемит. Я сказал бы, что щемит, если у меня сейчас было бы тело. Глубокий вдох, глубокий глоток, вновь южный поцелуй и дрожащие веки. Имена путаются в одно. Известен ли вам предел, где должен остановиться человек, цепляющийся за свою жизнь? Если моя жизнь умеет издавать животные звуки, то это плачущий кит. Я всем это говорю, но никто почему-то не воспринимает всерьез. Так вот. Фуникулер позади. Мы шли с Яной за ручку, спускались уже по тротуару к нашей комнате. Нас обгоняли приоры, из открытых окон которых ревел отборный хаус-реп. Одной рукой я держал ее руку, пальцем второй герметизировал свое ближнее к дороге ухо, третья же шевелилась, думая об обнаженной Яне, которая обязательно случится через несколько южных минут, а четвертая тащила полупустую бутылку лимончеллы. Дикие улочки русского юга украшали заборы из профлиста всех оттенков. – Почему здесь нет пальм?! Где сраные пальмы!?! – пьяным хором возмущались мы. Достигнув улицы Чапаева, я скрипнул калиткой, вошел во двор. Моему взору предстало райское хурмичное дерево. Наполированные будто воском плоды преломляли ни то лунный свет, ни то свет колеса обозрения на горе. Я попытался сфотографировать хурмичную радугу на свой телефон, но у меня ничего не вышло. Тысячи невидимых рук непослушно дрожали. Тем временем Яна кормила местных котиков, так как в ее сумке всегда есть пару вискасов. Я ждал, пошатываясь.
– Яяяяннааа!!!! Яяяянннаааа!!
Завыли собаки. Воздух приятно стыл. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и замер. Закончив ритуал, я вновь услышал скрип колеса на горе, но послал его на хуй, мое тело стало губкой, оно впитало южную мудрую тишину, и даже вой собак был тишиной, и даже сранные коты и вискасы, и хурмичная радуга не трогали меня. Совсем. Вдруг как по щелчку плач моей жизни стал ничем, а вой собак – сладкой мелодией цвета лимончеллы. – Я хотел бы сделать это в невесомости! Я хотел бы сделать это в невесомости!!! – кричал я, забегая по ступенькам в нашу комнату на небесах. Вселенная услышала меня и выключила гравитацию.
В комнате было темно. Шумел холодильник Саратов. Ее волосы пахли морем и виноградом, ее тело пахло морем и виноградом. Я же пах Ритой, а голова крутилась ебанным колесом обозрения. Я не знаю, что такое любовь, – сказал я ей, тщетно обмякнув на ее стройные загорелые изгибы. Я не знаю, что такое любовь. Она уснула.
Ночь показывала звезды. Коты во дворе сражались за остатки вискаса. Там на горе была чернь, работники парка аттракционов выключили свет и видели южные сны. Я карабкался вверх, хватаясь за камни и кусты можжевельника кровавой рукой.
Я слышал, как плачет моя ошалелая Рита, уткнувшись своим прекрасным лицом в стекло кабинки. Как они могли забыть про нее? Как?!?
Над кривой геленджикской сосной парил безучастный лунный свет. С моря поднималась облачность. Я так устал, я так устал… Художник, родной, зачем тебе эти бесконечные морские дали? Обернись…
Конец.
Рита закончила читать и спросила: «А кто такая Яна?» Я сказал, что она ничего не понимает. А потом мы расстались. Это было довольно давно, и мне ее очень не хватает. Вышло так, что не понимал я, даже не осознавал, что встречу Яну наяву, а Рита тогда это почувствовала, несчастье с запахом винограда.
3 Шиномонтаж
Ржевка – это такой район в Петербурге, в часе ходьбы от метро Ладожская. Спальное гетто. Сейчас я живу уже в другом районе города, работаю бухгалтером, но Ладожская как будто не отпускает меня, ее дикость и нелюдимость конечно же стали частью меня. Since 1996, когда моего отца уволили в запас в звании подполковника. Последние годы с 1991 по 1996 он служил на Дальнем Востоке, и мы с мамой тоже мотали срок в этом таежном крае, и в середине девяностых окончательно поселились в славном городе Санкт-Петербурге. Как я уже сказал, Ладожская – это дикое место, но тогда так было почти везде, мне запомнились, например, нескончаемые «стрелки» между школами, между районами, между различными субкультурами. Я не принимал в них никакого участия, так как был совсем мал, а просто бегал с новыми друзьями перед толпой и зачем-то прятался в парадных, залетая по пролету наверх к окну и наблюдая, как бисер тел течет мимо по рванным тротуарам из крупнозернистого асфальта. Тогда я завел дневник, впервые возжелав зафиксировать события, которые своим напором сбили меня с ног – завел в первый и последний раз. Там была единственная запись: «Сегодня лисоманы дрались с реперами, подкатил козелок и забрал народ». В целом было интересно, я попал в цивилизацию, в бетонные джунгли из джунглей натуральных, где, чтобы позвонить другу, надо было поднять трубку армейского телефона из пахнущего бакелита и попросить оператора соединить тебя с квартирой номер №.
Так вот, сейчас на дворе 2015 год.
Наступили долгожданные выходные взрослой жизни, ведь мне как-никак стукнуло уже 30 лет, и я поехал проведать маму, живущую в родном доме на углу Энтузиастов и Коммуны. На КАДе взорвалось колесо. Все мои пожитки, которые я вез в багажнике старого авто, на асфальте, чтобы достать домкрат и запаску. Но это не помогает – теперь в пороге автомобиля огромная ржавая дырка от домкрата. Даже две, ведь родители учили доводить дело до конца, но не три, так как Россия научила, что можно и забить хуй. Океан и танцующие нефритовые сопки. Я люблю мечтать. Я очень хочу во Владивосток. Но теперь вместо скалистых берегов острова Русский – обочина КАДа, вместо стремительно взлетающего ввысь самолета – 30 км/ч по кромке шумного шоссе. Вместо заката над Тихим океаном – проткнутое сажевое небо на задворках, с рассыпанными из черной грозовой дыры окурками, словно мазками кисти мастера. Шиномонтаж – какое волнующее слово. Это слово заставляет задуматься. Задуматься о чудесах. Задуматься о прекрасном будущем, когда оно утекает из-под ног и стонет огромным печальным китом. Я бы сказал, что шиномонтаж и окурок – слова синонимы. Их нельзя не любить, я почему-то в этом уверен. Два печальных брата, с грустными потухшими глазами. Я задумался о чудесах и о том, как я докатился до такой жизни, которая как будто не моя, а черновик долбоеба с Ладожской. Меня осенило прозрение, когда автослесарь сказал, что у меня не работают задние тормоза. Он грустно это сказал, как будто бы пожалел меня, и я забыл свой страх, увидев в его лице греющее сочувствие. Дыхание немного сбилось, и я понял, что в тот недалекий день я действительно поставил на себе крест. Было дело, я увидел красивую собаченку, суетливо бегущую по двору. Хозяев рядом как будто не было. Но я не был уверен. Что собака без хозяина? Ничто. Что человек без веры? Без веры в себя и чудеса. Тоже ничто. Не человек. Я пошел дальше, оглядываясь, куда она побежит. Был долгий день, и мне хотелось ссать, по этой причине мои шаги были стремительны, а мысли только о диких зеленых насаждениях в нескольких кварталах, и о собаке я быстро забыл. На следующее утро мне встретилось объявление о пропаже питомца. Было несколько моментов. Первый – пропажу привязывали к другой станции метро, а второй – мне казалось, что собака точно не та. Но почему же, когда я вышел из дома на бесцельную дневную прогулку, я отправился в другой район, где давеча видел эту собаченку? Ответа нет. Я просто пошел в ту сторону. По пути заглянул в пару мест, офигел от цены ксерокса за лист, думая, что он будет стоит рублей 5 максимум, ведь недавно стоил 3 (недавно, как я потом посчитал – это 10 лет назад). Спросил у продавца ксерокопий, открыток и прочих утилитарных мелочей, реальные ли это люди на фотографиях для памятников, увидев красивую молодую девушку на керамическом изображении.
– А вы с какой целью интересуетесь?
«Смерть – имманентная трансцендентность природы» – было написано на заборе по пути. Рядом: «метафизический ХУЙ». Далее было трогательное «Малыш, проснись», где «н» было исправлено на «р». Я задумался о смысле и о любви, потом промолвил:
– да просто захотелось узнать.
Почему-то взгрустнулось, и я нырнул в ТЦ Бонус на Косыгина, где в прошлом году мы с Ритой купили путевку в Турцию. Но на этот раз зашел, не за путевкой, а за ряженкой в продуктовый отдел. В общем, я потерял много времени и подумал, что нахрен этот соседний район, ведь собака скорее всего не та… В ту же самую секунду мою голову наточенной стрелой пронзила мысль: я в такой жопе, потому что Я НЕ ВЕРЮ. Эта банальная идея настолько меня поразила и обрела невиданные ранее оттенки, что дряхлая ива с орущими под ней алкашами почудилась мне раскидистым платаном, в тени которого Гиппократ дарил свои откровения ученикам. И я пошел в соседний район к той собаченке. Теперь это был поход за верой, поход за обретением надежды, которую я потерял уже не помню когда. Я шел довольно долго, и было время все обдумать. Я, как водится в такие моменты, включил легкий джаз. Когда я искал в своей фонотеке нужный альбом, размышлял, какой саундтрек больше подойдет для похода за верой – Стен Гетз, Ширинг или Cannibal Corpse, – ступил в собачье дерьмо, и сразу же меня бортанул бык. – Ладно, пусть это будет Бэйкер, – подумал я.
Так вот, времени у меня было достаточно, и, казалось бы, что за задача? Просто дойти до того места, где я давеча видел собаченку – делов то. Там я вновь обрету веру. Я приободрился. Шаг был легкий и уверенный, ладони слегка влажные от возбуждения и нетерпения. Даже выглянуло солнышко, освещая хмурые морщинки жителей окраины, вышедших подышать пьяным воскресным воздухом. Но внезапный блестящий проникновенный пассаж трубы старого философа-самоубийцы Бэйкера дал мне новое откровение: не достаточно просто прийти туда! Нужно поверить, что эта собаченка там будет. Только так и никак иначе. Она должна там быть – ты понимаешь? Должна там бегать своими когтистыми мохнатыми лапками и фыркать своим длинным носиком. Она должна там быть реальнее всего самого реального, что ты видел в своей печальной стонущей огромным китом жизни. Только так ты вновь обретешь веру, ведь если человек верит – все возможно. Это проверка на вшивость, братан, и ебись с этой мыслью, как хочешь – изливал мне старый философ-самоубийца Бэйкер своей бессмертной трубой – и у тебя, похоже, проблемы. Заморосил дождик, ноги заметно потяжелели, а асфальт стал густой непролазной чащей. Переезд снова закрыли, и я шел вдоль вереницы грязных ожидающих автомобилей, которые вскоре оглушат меня своим истошно-нетерпеливым воем. Какая тут вера, когда так… добрести бы… Собаки там не было. И теперь у двух печальных братьев появилась не менее печальная сестра – моя жизнь. Шиномонтаж, окурки и я.
4 Тропический цветок
Да, я не верю в себя. Но задумывался ли я об этом раньше? Не знаю.
Вот как-то я пересекал мост. Я люблю пересекать мосты, наблюдая, как справа на юго-западе города взлетают самолеты. Эта картина всегда вызывает трепет как впервые услышанная песня любимой в будущем группы. Лайнер грузно, но верно поднимается, кажется, совсем над куполом Иссакия, следуя к нестрогим, как на полотнах импрессионистов, рядам кранов порта и серых крыш Васильевского острова, и далее, и далее, пока совсем не исчезает за облаками. И однажды я удивился тревоге, проткнувшей меня в тот момент, когда самолет скрылся. Я ощутил отсутствие и, как понял позже, заметно ускорил шаг, как будто пытаясь его догнать. Я придумал свой полет, завтра я обязательно его осуществлю. Поднимаясь по эскалатору, уже почти на поверхности, я закрою глаза, глубоко вдохну и, выдохнув, отпущу теплую воздушную массу, поддерживающую мою спину и полечу назад в пропасть. Я буду деревянной кеглей, лакированной безразличием, разбрасывать в сторону спящих пассажиров, мое лицо сравняется с шеей, с плечами, оно не будет ничего обозначать – никаких гримас, они ни к чему. Пассажиры, резко тянущиеся за свои телефоны, чтобы написать, что опоздают сегодня на работу, или, может, и вовсе не придут, так как на них летит огромная лакированная кегля, не успеют, они тоже задеревенеют от ужаса и покроются лаком безразличия, пульсирующим светильниками метро, и отпустят все. Уже не важно. Уже случилось.
Знаете?.. Сказать честно? Порой, мне думается, что у меня есть ровно столько, чтобы не сойти с ума. Ага. Не больше, не меньше. Я запутался. Я хочу найти себя, найти своё место, и у меня категорически это не получается. Сорняк в кривом огороде у железной дороги, по которой проносятся ржавые электрички Санкт-Петербург – Калище, никогда не сможет стать красивым тропическим цветком. Тропический цветок на болотах – вечный поиск. Вечный поиск – каждый новый день как будто первый шаг к верной жизни, но сейчас мне кажется, что это просто вечное бегство. Нескончаемое ничего, затерявшееся среди нефритовых сопок и бетонных заборов далекого Дальнего Востока.
Я сказал тогда это Яне из Купчино, когда мы обнимались, когда она предложила потрахаться. Я ничего лучше не придумал, точнее – я даже и не думал – слова сами потекли из моего рта: «Я иногда мечтаю, что мое бездумное существование рождает высокое и вечное». Не больше не меньше. Яна точно этого не ожидала. Она промолчала, но мне показалась, что ее объятия стали крепче. «Знаешь? Я – одинокая невысказанная неловкая мечта!» – продолжил я, пялясь на нависший над нами строительный кран. Молчание в ответ и еще более крепкие объятия. Облака заскользили быстрее, стремясь сменить сцену, они плакали, им было тоже неловко, они мутной лужицей покрывали асфальт.
5 Она
Как я уже выше говорил, я – бухгалтер. Работа так себе. Бумажки, цифры и скрепки. Отчеты, калькуляторы и нескончаемые печеньки на алтаре отдельной полки шкафа с папками всех цветов пыльной радуги. И она. Тоже бухгалтер. Мне как-то сказали, что меня взяли сюда благодаря ей. Ее зовут Ира. Она мне очень нравится, особенно её темные воздушные кудри, глубокий пронзающий тебя взгляд. И то, что она очень добрая и справедливая. Доброта – самое важное в людях. Хуй поспоришь. Я часто пытаюсь отвлечься и не думать о ней. И у меня даже иногда получается, но, когда я прихожу в офис после выходных и вижу её улыбку, все увикендные потуги разлетаются щепками.
Я живу один. Да, мне бывает довольно одиноко, но кто я такой, чтобы жаловаться? Как-то проезжая по Большому проспекту Петроградской стороны, я остановился на красный свет светофора напротив магазина Вкустер. В окне на кассе я увидел Иру, она была с мужем, счастливая, брала вино и что-то еще. Я ловил ее взгляд, чтобы она посмотрела в окно, чтобы наши глаза пересеклись, чтобы помахать ей. Сзади стали сигналить – зеленый горел уже 10 секунд. Я поехал. Я почему-то расклеился, но решил, что я – кремень. Похуй на все. Ночью мне снились странные беспокойные сны, финалом которых были объятия. В жизни таких не бывает, по крайней мере не было у меня. Если можно было бы разлучиться на сто лет с любимым человеком, первой своей юношеской любовью, зародившейся на закате под весенним цветом сирени, тут же провести ночь в благоухающей майской неге, а на заре расстаться, расстаться на сто лет, и все сто лет носить ее фотографию в кармане у сердца, предвкушая встречу, и жить ею каждую минуту, то объятия были бы, наверное, такие. Жаркие и мокрые. Тесная влага склеивала наши лица. Во сне я обнимал Иру. Я очнулся. Умылся и пошел на работу. Сирень отцвела, но я ее чувствовал, нарвал букет и убегал от разъяренной бабки из дворов хрущей, смеялся, что опаздываю на работу, смеялся, что бабка не догонит, смеялся, что как будто сломался от ночных несуществующих объятий, представил, что они были, что сон – воспоминания, и если очень постараться, то можно все повторить наяву, и начать писать новый черновик, не такой серый, не черной ручкой, ведь есть еще цветные карандаши, рассветы и закаты и вечная пахнущая весна.
Ира ничего не знала. Я вообще на работе ни с кем не говорю. Прихожу, открываю 1С, загружаю soundcloud и начиню фигачить. Удовольствия, конечно, мне это не приносит. Как-то вышло, что я здесь. Зачем-то закончил экономический, понимал, что что-то не то – не мое, но не хватило смелости бросить. Да и страх армии, да и слова родителей, что дело бросать на полпути нельзя. Потом долго искал работу и вот я тут.
Вообще, мне нравилась музыка, и я пытался её сочинять и даже купил синтезатор, но дальше mix1, который я скинул когда-то моему другу, это не зашло. В детстве я так же мечтал быть барабанщиком, и даже пару раз играл со своими школьными друзьями в заплесневелых точках Леннаучфильма, но это ни во что не переросло. В общем, всё, к чему я прикасался, лопалось, как мыльный пузырь. То есть сначала он был такой большой, сверкал в лучах солнца разными красками и парил как воздушный шар на рекламе телевизора начала 90-х, но стоило прикоснуться… Недавно у меня появился новый мыльный пузырь – я хочу написать книгу. Купить водолазку и отрастить неряшливое каре. Хочу, чтобы друзья подарили мне на день рождения путевку в Лаос на год и сказали: «ты должен написать книгу, ибо нехуй». Я был бы им очень благодарен. Но у меня нет друзей, которые могли бы так сделать. И что бы я написал? Я не люблю говорить. Большинство слов мне кажутся лишними, а вечно пиздящие балаболы выводят меня из себя.
День подходил к концу. Луч солнца ворвался в офис неожиданным, но приятным гостем и, проскользнув по панельному перфорированному потолку, ярко осветил все мои мечты, окружившие монитор пыльного серого монитора. Какие они красивые, пусть такими и останутся, лучше их не трогать.
Когда я стою у большого зеркала после ванной, то смущаюсь своей бычьей шеи и рыхлому телу на слишком тонких для такой шеи ногах. Ноги могли бы сделать и подлиннее, говорю я и скоро накидываю свободные штаны с футболкой, пряча как будто не свое тело. Так привычнее. Я бы не сказал, что во мне есть что-то необычное. Простой парень невысокого роста, немного в теле, но не сильно. На Ладожской таких много. А она, Ира, всегда здоровается и прощается со мной отдельно, называя моё имя. Да, у нее темные кудри. Что-то из детства. Определенно, её волосы как у моей первой учительницы, не помню, к сожалению, как её звали. Это очень красиво. Она стройная, с широкими бедрами и тонкими руками, очень женственная.
6 На крыше
Я лежал дома на кровати в комнате с открытым, но занавешенным окном – светило яркое солнце и через трафарет ткани чертило узоры на стене. Редко бывает так, что ты просто лежишь и смотришь на эти узоры, и тебе больше ничего не нужно, ни телефона, ни телевизора, ни гундящего заумного подкаста. Играет Nthng – Oralage по кругу, в окно льется легкий шум с улицы. Всё очень гармонично и по кайфу. Я чувствую, как сердце подстраивается под бочку трека и отстукивает свой ритм на каждый второй удар. Или мне так кажется – да это не важно. Легкие синтезаторные пады трека уносят меня за тысячи километров. Может, к южному бирюзовому морю, а, может, к скалистой безжизненной пустыне, где плавно плывет одинокий караван к своему оазису для ночлега.
Я пригласил Иру прогуляться вчера на обеде, но она сказала, что не стоит. Я её понимаю. Она замужем, у нее ребенок и вообще все хорошо. Семейная идиллия. Нет, она жалуется иногда на мужа на работе, в шутку. Типа стало меньше внимания, и не встретил ее после работы. А я бы встретил, точно! На самом деле, я просто хотел немного с ней пообщаться, и, может, показать ей свои любимые места около работы. Я не хотел говорить ничего личного. Я даже пытался обижаться, что она отказала, но стоило услышать ее голос, немного низкий и от этого бархатистый и успокаивающий, я понял, что обижаться нелепо, и я смущенно улыбнувшись – больше глазами, продолжил подгонять расходы под нужную сумму налога на прибыль – такая бухгалтерская суета показалась мне в тот момент приятной.
Узоры на стене комнаты зашевелились калейдоскопом от дуновения ветра. Я собрался и поехал в центр. Сидел на пляже Петропавловки с закрытыми глазами и ловил волны, представляя, что на морском берегу. Проходили разные люди. Говорили друг с другом, а я порой врывался в их разговор: «я просто хочу быть частью чего-то важного, или быть для кого-то важным. Быть чьим-то оазисом в пустыне». Люди устало отворачивались и не слышали меня. Ну и ладно, вообще-то я не настаивал. Кто-то из прохожих сказал: «Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что на ней зацветут лилии и вознаградят его труды».
А Сажин
«Там, где страх, места нет любви».История о персонаже без определённого места в современном мире. «Я – как побитая бездомная собака» – выпалил он очередной знакомой с цифрового кладбища Тиндера. И пошел на работу… За стекло, туда, где жизнь – это тень на перфорированном потолке офиса. А цель еще более неосязаема. Знакомо?Но всему приходит конец. Не буду лукавить, не будет сюрпризом, что меня нет. «Я умер. Не так давно, но это неважно» – говорит он своей очередной знакомой из Тиндера.И на закате идет раздавать газеты в многотысячном ЖК «Цветной Город», повторяя: «благослави тех, кто видит во мне человека». Вдруг женщины с детьми на самокатах заулыбались. Ведь иногда конец – это начало истории.
А Сажин
Три дня до лета
Часть 1
1 Вкустер
Рой мух касался лица, как будто я мертв. На лужах не было следов, а только ровная безразличная гладь, когда мы шли с Яной, взявшись за руки. Светило лицемерное солнце и тут же скрывалось, и был вроде даже снег и тут же исчезал. И это начало лета. Заговорил истошный ветер и сдул этот день, проревев историю про какой-то инопланетный закат. Я не верил в эту историю, это было больше похоже на какое-то магическое заклинание. Потом я пах дрожью, несся в своем старом авто между погостами по виадуку из Купчино в Рыбацкое, который парил хмурой сумеречной вязью и судорожно же кончал в девятиэтажки. Там, в Рыбацком жила моя Рита, точнее – в прошлом моя. А Яна из Купчино источала сладкий виноград, и это не шутка! Ее действительно звали Яна, и она действительно пахла виноградом, как я в этом убедился, проведя с ней этот магический вечер. Столбы освещения казались мне очень коротконогими, нелепо нагими, мне хотелось их одеть и обнять. Когда я обнимал Яну из Купчино пятнадцать минут назад, она вымолвила – все хорошо! И повторила – Все хорошо! Я вдохнул сладкий виноград ее волос и, задрав голову навстречу строительному крану, нависшему над нами, сказал – все прекрасно! Дрожь пронизывала меня, и я оказался на Шлиссельбургском, у дома, где на первом этаже точки из красного кирпича жила моя Рита. Я встал под подросшую ель и наблюдал, как Рита готовит ужин. Она умелыми руками резала мясо, она боялась смерти, она была немного ошалелая, и вдруг задернула штору, поморщившись на размякший уличный мрак. Наши глаза встретились, но вселенский страх, который стянул наши мышцы и разум, не позволил никак отреагировать. Время морщинистой сукой стало лапать меня, заставляя ей отлизать, положив руку мне на затылок, плотно прижавшись промежностью, сдвинув свои еще пока подтянутые ляжки. У меня не было выбора. Я поддался, но все эти затянувшиеся секунды думал о доброй улыбке Яны, о ее словах, что все хорошо, о ее объятиях. Она своей добротой наполнила концентрат чувств и нежности внутри меня, который я так долго скапливал и таил в себе, сбив в маленькую плотную горошинку, не давая им выхода. И все вырвалось и разбросалось! Я падок на доброту. Не могу ничего с этим поделать. Сразу тянусь как недоверчивое животное, вдруг учуявшее ласку. Я чувствами как маленький ребеночек, привыкаю, подпускаю потихоньку, смотрю в глаза, сканирую любовь и всю вот эту хуйню. Яна обняла меня пятнадцать минут назад, сказала – Все хорошо, потом повторила – Все хорошо! Я ей ответил – Все прекрасно! Я смотрел на нависший кран, а потом услышал ее слова: «Андрей, давай потрахаемся, проведем пару ночей. Ты вкусно пахнешь, но между нами не может быть ничего серьезного». Добрая улыбка почему-то превратилась в похотливый морщинистый оскал, я ужаснулся, хоть и не был прочь потрахаться. И задрожал, и ничего не смог с этим поделать. Я вспомнил про мою прекрасную Риту и помчался в Рыбацкое.
На следующее утро я получил сообщение:
«Более бессмысленное, чего может ожидать или бояться человек, – это конец жизни. Есть закономерности, но также велик процент фатальных случайностей. Можно представить, что каждый атом, из которого мы сейчас состоим уже был когда-то в составе живого существа – оно также боялось смерти.» Я подумал, что смерть пахнет виноградом, что несчастье пахнет виноградом, и стал собираться на работу. По пути я размышлял, что чтобы научиться любить на этих болотистых равнинах, нужно научиться летать, минуя пыльные бури с пустынных далеких земель, что нужно взорваться, вспыхнуть искрометным салютом над чернеющим сквером, рассказать первой встречной все свои тайны, и, взяв ее за теплую как будто уже родную руку, без сожаления отпустить навсегда. Потом одинокой пустынной ночью, возвращаясь бухим домой, услышать рев авто дальнобойщика, и зверем закричать в унисон, что не боишься смерти, что веришь в любовь.
2 Ода Рите
Уже довольно давно я расстался с Ритой. Мы долго встречались, и было как будто все неплохо. Но как-то на скамейке в Таврическом саду напротив памятника Чайковскому я ей сказал: «Мне кажется, из меня ничего не получится» Вот так. И тут же почему-то дал ей прочитать свой рассказ, который недавно написал. Рассказ? – спросите вы. Да. Я не понимал, что со мной произошло тогда. На меня как будто нахлынула Волна и подняла на свой бурлящий гребень и ударила головой об потолок моей комнаты, и я с трясущимися руками начал писать рассказ. Не я как будто писал, а кто-то выше с высоких облаков, но моими руками. Потом Волна скинула меня прочь, и я закончил. И я упал на свою кровать без сил и уснул тут же. Ах да, рассказ назывался «Ода Рите». Как вы поняли, я посвятил его своей девушке. Кому же еще?
Я редко говорил, что люблю ее и всегда это получалось как-то искусственно, как будто неправда, как будто неискренне. И с каждым дуновением и приливом чувств я зарывался вместе с ними глубоко, прямо туда, где мои усталые подошвы топтали землю. Я хотел ей однажды сказать, что не умею любить. Это было в Зеленогорске на колесе обозрения, когда наша кабинка воспарила над хвойным лесом, и показалось серое молчаливое море. Лето подходило к концу. Но я не знал, как это произнести. Я будто бы сомневался и пытался понять, так ли это на самом деле, может, все-таки найти в себе что-то. Если бы я знал, что искать… Пытался найти в себе что-то живое, но всегда подходя поближе, терялся, мямлил, говорил, запинаясь в сторону, как будто у меня воняет изо рта мертвечиной. Я почти был в этом уверен. Я боялся, что эта вонь достигнет ее красивого лица вместе со словами о любви, коснется ее удлинённого носика как у рыжей игривой колли и пышной львиной шевелюры. Мое сердце покрывало коростами неуверенность и недосказанность, и росла дистанция. Все близилось к концу. Но рассказ не об этом, он как раз о любви, о такой, которая моя, о любви, которую я умею. Итак.
Ода Рите.
Что для вас колесо обозрения? Вертящаяся хуйня. Что для вас любой другой объект? Да ничего, если он никак ни с чем важным в вашей жизни не связан.
Мы с Яной спускались в открытой люльке фуникулера. Перед нами распластался ночной мерцающий Геленджик, сползающий в море. Позади на черной горе бесшумно кружило и светилось колесо обозрения. Бесшумно для вас. Для меня же оно скрежетало и прожигало бедное мое темечко, вырываясь из моих усталых глазниц, вычерчивая кислотными лучами цвета прошлой жизни наш с Яной поцелуй. Томный южный поцелуй. Ее же глаза были закрыты, веки пробивала манящая дрожь, а длинные ресницы врывались в ночь. Поцеловаться предложил я, так как такой момент, так как такой вид и романтично, и потом пожалею упущенное. Но пожалел я по-другому. Об этом и мой сказ.
Дело в том, что моя Рита любила колесо обозрения. Не конкретное, а вообще…
Здесь я был бы рад закончить и навсегда замолчать, но скажу еще пару слов. Я томился и отсутствовал. Я не видел своего тела, своих рук, причину этого я не мог разгадать. То ли высшее счастье, то ли желание умереть. Вибрирующая песня восходящих потоков вторила моему затаившемуся отчаянию, теребила обессиленные рецепторы. Морской минеральный воздух лечит – повторял я себе, любуясь видами. Мучительные воспоминания возникали как острые укусы, но тут же перетекали в алкогольные онемения в членах. Вспомнились северные ели, поддевающие наш с Ритой кружащий медленный полет в Зеленогорске. Щемит. Я сказал бы, что щемит, если у меня сейчас было бы тело. Глубокий вдох, глубокий глоток, вновь южный поцелуй и дрожащие веки. Имена путаются в одно. Известен ли вам предел, где должен остановиться человек, цепляющийся за свою жизнь? Если моя жизнь умеет издавать животные звуки, то это плачущий кит. Я всем это говорю, но никто почему-то не воспринимает всерьез. Так вот. Фуникулер позади. Мы шли с Яной за ручку, спускались уже по тротуару к нашей комнате. Нас обгоняли приоры, из открытых окон которых ревел отборный хаус-реп. Одной рукой я держал ее руку, пальцем второй герметизировал свое ближнее к дороге ухо, третья же шевелилась, думая об обнаженной Яне, которая обязательно случится через несколько южных минут, а четвертая тащила полупустую бутылку лимончеллы. Дикие улочки русского юга украшали заборы из профлиста всех оттенков. – Почему здесь нет пальм?! Где сраные пальмы!?! – пьяным хором возмущались мы. Достигнув улицы Чапаева, я скрипнул калиткой, вошел во двор. Моему взору предстало райское хурмичное дерево. Наполированные будто воском плоды преломляли ни то лунный свет, ни то свет колеса обозрения на горе. Я попытался сфотографировать хурмичную радугу на свой телефон, но у меня ничего не вышло. Тысячи невидимых рук непослушно дрожали. Тем временем Яна кормила местных котиков, так как в ее сумке всегда есть пару вискасов. Я ждал, пошатываясь.
– Яяяяннааа!!!! Яяяянннаааа!!
Завыли собаки. Воздух приятно стыл. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и замер. Закончив ритуал, я вновь услышал скрип колеса на горе, но послал его на хуй, мое тело стало губкой, оно впитало южную мудрую тишину, и даже вой собак был тишиной, и даже сранные коты и вискасы, и хурмичная радуга не трогали меня. Совсем. Вдруг как по щелчку плач моей жизни стал ничем, а вой собак – сладкой мелодией цвета лимончеллы. – Я хотел бы сделать это в невесомости! Я хотел бы сделать это в невесомости!!! – кричал я, забегая по ступенькам в нашу комнату на небесах. Вселенная услышала меня и выключила гравитацию.
В комнате было темно. Шумел холодильник Саратов. Ее волосы пахли морем и виноградом, ее тело пахло морем и виноградом. Я же пах Ритой, а голова крутилась ебанным колесом обозрения. Я не знаю, что такое любовь, – сказал я ей, тщетно обмякнув на ее стройные загорелые изгибы. Я не знаю, что такое любовь. Она уснула.
Ночь показывала звезды. Коты во дворе сражались за остатки вискаса. Там на горе была чернь, работники парка аттракционов выключили свет и видели южные сны. Я карабкался вверх, хватаясь за камни и кусты можжевельника кровавой рукой.
Я слышал, как плачет моя ошалелая Рита, уткнувшись своим прекрасным лицом в стекло кабинки. Как они могли забыть про нее? Как?!?
Над кривой геленджикской сосной парил безучастный лунный свет. С моря поднималась облачность. Я так устал, я так устал… Художник, родной, зачем тебе эти бесконечные морские дали? Обернись…
Конец.
Рита закончила читать и спросила: «А кто такая Яна?» Я сказал, что она ничего не понимает. А потом мы расстались. Это было довольно давно, и мне ее очень не хватает. Вышло так, что не понимал я, даже не осознавал, что встречу Яну наяву, а Рита тогда это почувствовала, несчастье с запахом винограда.
3 Шиномонтаж
Ржевка – это такой район в Петербурге, в часе ходьбы от метро Ладожская. Спальное гетто. Сейчас я живу уже в другом районе города, работаю бухгалтером, но Ладожская как будто не отпускает меня, ее дикость и нелюдимость конечно же стали частью меня. Since 1996, когда моего отца уволили в запас в звании подполковника. Последние годы с 1991 по 1996 он служил на Дальнем Востоке, и мы с мамой тоже мотали срок в этом таежном крае, и в середине девяностых окончательно поселились в славном городе Санкт-Петербурге. Как я уже сказал, Ладожская – это дикое место, но тогда так было почти везде, мне запомнились, например, нескончаемые «стрелки» между школами, между районами, между различными субкультурами. Я не принимал в них никакого участия, так как был совсем мал, а просто бегал с новыми друзьями перед толпой и зачем-то прятался в парадных, залетая по пролету наверх к окну и наблюдая, как бисер тел течет мимо по рванным тротуарам из крупнозернистого асфальта. Тогда я завел дневник, впервые возжелав зафиксировать события, которые своим напором сбили меня с ног – завел в первый и последний раз. Там была единственная запись: «Сегодня лисоманы дрались с реперами, подкатил козелок и забрал народ». В целом было интересно, я попал в цивилизацию, в бетонные джунгли из джунглей натуральных, где, чтобы позвонить другу, надо было поднять трубку армейского телефона из пахнущего бакелита и попросить оператора соединить тебя с квартирой номер №.
Так вот, сейчас на дворе 2015 год.
Наступили долгожданные выходные взрослой жизни, ведь мне как-никак стукнуло уже 30 лет, и я поехал проведать маму, живущую в родном доме на углу Энтузиастов и Коммуны. На КАДе взорвалось колесо. Все мои пожитки, которые я вез в багажнике старого авто, на асфальте, чтобы достать домкрат и запаску. Но это не помогает – теперь в пороге автомобиля огромная ржавая дырка от домкрата. Даже две, ведь родители учили доводить дело до конца, но не три, так как Россия научила, что можно и забить хуй. Океан и танцующие нефритовые сопки. Я люблю мечтать. Я очень хочу во Владивосток. Но теперь вместо скалистых берегов острова Русский – обочина КАДа, вместо стремительно взлетающего ввысь самолета – 30 км/ч по кромке шумного шоссе. Вместо заката над Тихим океаном – проткнутое сажевое небо на задворках, с рассыпанными из черной грозовой дыры окурками, словно мазками кисти мастера. Шиномонтаж – какое волнующее слово. Это слово заставляет задуматься. Задуматься о чудесах. Задуматься о прекрасном будущем, когда оно утекает из-под ног и стонет огромным печальным китом. Я бы сказал, что шиномонтаж и окурок – слова синонимы. Их нельзя не любить, я почему-то в этом уверен. Два печальных брата, с грустными потухшими глазами. Я задумался о чудесах и о том, как я докатился до такой жизни, которая как будто не моя, а черновик долбоеба с Ладожской. Меня осенило прозрение, когда автослесарь сказал, что у меня не работают задние тормоза. Он грустно это сказал, как будто бы пожалел меня, и я забыл свой страх, увидев в его лице греющее сочувствие. Дыхание немного сбилось, и я понял, что в тот недалекий день я действительно поставил на себе крест. Было дело, я увидел красивую собаченку, суетливо бегущую по двору. Хозяев рядом как будто не было. Но я не был уверен. Что собака без хозяина? Ничто. Что человек без веры? Без веры в себя и чудеса. Тоже ничто. Не человек. Я пошел дальше, оглядываясь, куда она побежит. Был долгий день, и мне хотелось ссать, по этой причине мои шаги были стремительны, а мысли только о диких зеленых насаждениях в нескольких кварталах, и о собаке я быстро забыл. На следующее утро мне встретилось объявление о пропаже питомца. Было несколько моментов. Первый – пропажу привязывали к другой станции метро, а второй – мне казалось, что собака точно не та. Но почему же, когда я вышел из дома на бесцельную дневную прогулку, я отправился в другой район, где давеча видел эту собаченку? Ответа нет. Я просто пошел в ту сторону. По пути заглянул в пару мест, офигел от цены ксерокса за лист, думая, что он будет стоит рублей 5 максимум, ведь недавно стоил 3 (недавно, как я потом посчитал – это 10 лет назад). Спросил у продавца ксерокопий, открыток и прочих утилитарных мелочей, реальные ли это люди на фотографиях для памятников, увидев красивую молодую девушку на керамическом изображении.
– А вы с какой целью интересуетесь?
«Смерть – имманентная трансцендентность природы» – было написано на заборе по пути. Рядом: «метафизический ХУЙ». Далее было трогательное «Малыш, проснись», где «н» было исправлено на «р». Я задумался о смысле и о любви, потом промолвил:
– да просто захотелось узнать.
Почему-то взгрустнулось, и я нырнул в ТЦ Бонус на Косыгина, где в прошлом году мы с Ритой купили путевку в Турцию. Но на этот раз зашел, не за путевкой, а за ряженкой в продуктовый отдел. В общем, я потерял много времени и подумал, что нахрен этот соседний район, ведь собака скорее всего не та… В ту же самую секунду мою голову наточенной стрелой пронзила мысль: я в такой жопе, потому что Я НЕ ВЕРЮ. Эта банальная идея настолько меня поразила и обрела невиданные ранее оттенки, что дряхлая ива с орущими под ней алкашами почудилась мне раскидистым платаном, в тени которого Гиппократ дарил свои откровения ученикам. И я пошел в соседний район к той собаченке. Теперь это был поход за верой, поход за обретением надежды, которую я потерял уже не помню когда. Я шел довольно долго, и было время все обдумать. Я, как водится в такие моменты, включил легкий джаз. Когда я искал в своей фонотеке нужный альбом, размышлял, какой саундтрек больше подойдет для похода за верой – Стен Гетз, Ширинг или Cannibal Corpse, – ступил в собачье дерьмо, и сразу же меня бортанул бык. – Ладно, пусть это будет Бэйкер, – подумал я.
Так вот, времени у меня было достаточно, и, казалось бы, что за задача? Просто дойти до того места, где я давеча видел собаченку – делов то. Там я вновь обрету веру. Я приободрился. Шаг был легкий и уверенный, ладони слегка влажные от возбуждения и нетерпения. Даже выглянуло солнышко, освещая хмурые морщинки жителей окраины, вышедших подышать пьяным воскресным воздухом. Но внезапный блестящий проникновенный пассаж трубы старого философа-самоубийцы Бэйкера дал мне новое откровение: не достаточно просто прийти туда! Нужно поверить, что эта собаченка там будет. Только так и никак иначе. Она должна там быть – ты понимаешь? Должна там бегать своими когтистыми мохнатыми лапками и фыркать своим длинным носиком. Она должна там быть реальнее всего самого реального, что ты видел в своей печальной стонущей огромным китом жизни. Только так ты вновь обретешь веру, ведь если человек верит – все возможно. Это проверка на вшивость, братан, и ебись с этой мыслью, как хочешь – изливал мне старый философ-самоубийца Бэйкер своей бессмертной трубой – и у тебя, похоже, проблемы. Заморосил дождик, ноги заметно потяжелели, а асфальт стал густой непролазной чащей. Переезд снова закрыли, и я шел вдоль вереницы грязных ожидающих автомобилей, которые вскоре оглушат меня своим истошно-нетерпеливым воем. Какая тут вера, когда так… добрести бы… Собаки там не было. И теперь у двух печальных братьев появилась не менее печальная сестра – моя жизнь. Шиномонтаж, окурки и я.
4 Тропический цветок
Да, я не верю в себя. Но задумывался ли я об этом раньше? Не знаю.
Вот как-то я пересекал мост. Я люблю пересекать мосты, наблюдая, как справа на юго-западе города взлетают самолеты. Эта картина всегда вызывает трепет как впервые услышанная песня любимой в будущем группы. Лайнер грузно, но верно поднимается, кажется, совсем над куполом Иссакия, следуя к нестрогим, как на полотнах импрессионистов, рядам кранов порта и серых крыш Васильевского острова, и далее, и далее, пока совсем не исчезает за облаками. И однажды я удивился тревоге, проткнувшей меня в тот момент, когда самолет скрылся. Я ощутил отсутствие и, как понял позже, заметно ускорил шаг, как будто пытаясь его догнать. Я придумал свой полет, завтра я обязательно его осуществлю. Поднимаясь по эскалатору, уже почти на поверхности, я закрою глаза, глубоко вдохну и, выдохнув, отпущу теплую воздушную массу, поддерживающую мою спину и полечу назад в пропасть. Я буду деревянной кеглей, лакированной безразличием, разбрасывать в сторону спящих пассажиров, мое лицо сравняется с шеей, с плечами, оно не будет ничего обозначать – никаких гримас, они ни к чему. Пассажиры, резко тянущиеся за свои телефоны, чтобы написать, что опоздают сегодня на работу, или, может, и вовсе не придут, так как на них летит огромная лакированная кегля, не успеют, они тоже задеревенеют от ужаса и покроются лаком безразличия, пульсирующим светильниками метро, и отпустят все. Уже не важно. Уже случилось.
Знаете?.. Сказать честно? Порой, мне думается, что у меня есть ровно столько, чтобы не сойти с ума. Ага. Не больше, не меньше. Я запутался. Я хочу найти себя, найти своё место, и у меня категорически это не получается. Сорняк в кривом огороде у железной дороги, по которой проносятся ржавые электрички Санкт-Петербург – Калище, никогда не сможет стать красивым тропическим цветком. Тропический цветок на болотах – вечный поиск. Вечный поиск – каждый новый день как будто первый шаг к верной жизни, но сейчас мне кажется, что это просто вечное бегство. Нескончаемое ничего, затерявшееся среди нефритовых сопок и бетонных заборов далекого Дальнего Востока.
Я сказал тогда это Яне из Купчино, когда мы обнимались, когда она предложила потрахаться. Я ничего лучше не придумал, точнее – я даже и не думал – слова сами потекли из моего рта: «Я иногда мечтаю, что мое бездумное существование рождает высокое и вечное». Не больше не меньше. Яна точно этого не ожидала. Она промолчала, но мне показалась, что ее объятия стали крепче. «Знаешь? Я – одинокая невысказанная неловкая мечта!» – продолжил я, пялясь на нависший над нами строительный кран. Молчание в ответ и еще более крепкие объятия. Облака заскользили быстрее, стремясь сменить сцену, они плакали, им было тоже неловко, они мутной лужицей покрывали асфальт.
5 Она
Как я уже выше говорил, я – бухгалтер. Работа так себе. Бумажки, цифры и скрепки. Отчеты, калькуляторы и нескончаемые печеньки на алтаре отдельной полки шкафа с папками всех цветов пыльной радуги. И она. Тоже бухгалтер. Мне как-то сказали, что меня взяли сюда благодаря ей. Ее зовут Ира. Она мне очень нравится, особенно её темные воздушные кудри, глубокий пронзающий тебя взгляд. И то, что она очень добрая и справедливая. Доброта – самое важное в людях. Хуй поспоришь. Я часто пытаюсь отвлечься и не думать о ней. И у меня даже иногда получается, но, когда я прихожу в офис после выходных и вижу её улыбку, все увикендные потуги разлетаются щепками.
Я живу один. Да, мне бывает довольно одиноко, но кто я такой, чтобы жаловаться? Как-то проезжая по Большому проспекту Петроградской стороны, я остановился на красный свет светофора напротив магазина Вкустер. В окне на кассе я увидел Иру, она была с мужем, счастливая, брала вино и что-то еще. Я ловил ее взгляд, чтобы она посмотрела в окно, чтобы наши глаза пересеклись, чтобы помахать ей. Сзади стали сигналить – зеленый горел уже 10 секунд. Я поехал. Я почему-то расклеился, но решил, что я – кремень. Похуй на все. Ночью мне снились странные беспокойные сны, финалом которых были объятия. В жизни таких не бывает, по крайней мере не было у меня. Если можно было бы разлучиться на сто лет с любимым человеком, первой своей юношеской любовью, зародившейся на закате под весенним цветом сирени, тут же провести ночь в благоухающей майской неге, а на заре расстаться, расстаться на сто лет, и все сто лет носить ее фотографию в кармане у сердца, предвкушая встречу, и жить ею каждую минуту, то объятия были бы, наверное, такие. Жаркие и мокрые. Тесная влага склеивала наши лица. Во сне я обнимал Иру. Я очнулся. Умылся и пошел на работу. Сирень отцвела, но я ее чувствовал, нарвал букет и убегал от разъяренной бабки из дворов хрущей, смеялся, что опаздываю на работу, смеялся, что бабка не догонит, смеялся, что как будто сломался от ночных несуществующих объятий, представил, что они были, что сон – воспоминания, и если очень постараться, то можно все повторить наяву, и начать писать новый черновик, не такой серый, не черной ручкой, ведь есть еще цветные карандаши, рассветы и закаты и вечная пахнущая весна.
Ира ничего не знала. Я вообще на работе ни с кем не говорю. Прихожу, открываю 1С, загружаю soundcloud и начиню фигачить. Удовольствия, конечно, мне это не приносит. Как-то вышло, что я здесь. Зачем-то закончил экономический, понимал, что что-то не то – не мое, но не хватило смелости бросить. Да и страх армии, да и слова родителей, что дело бросать на полпути нельзя. Потом долго искал работу и вот я тут.
Вообще, мне нравилась музыка, и я пытался её сочинять и даже купил синтезатор, но дальше mix1, который я скинул когда-то моему другу, это не зашло. В детстве я так же мечтал быть барабанщиком, и даже пару раз играл со своими школьными друзьями в заплесневелых точках Леннаучфильма, но это ни во что не переросло. В общем, всё, к чему я прикасался, лопалось, как мыльный пузырь. То есть сначала он был такой большой, сверкал в лучах солнца разными красками и парил как воздушный шар на рекламе телевизора начала 90-х, но стоило прикоснуться… Недавно у меня появился новый мыльный пузырь – я хочу написать книгу. Купить водолазку и отрастить неряшливое каре. Хочу, чтобы друзья подарили мне на день рождения путевку в Лаос на год и сказали: «ты должен написать книгу, ибо нехуй». Я был бы им очень благодарен. Но у меня нет друзей, которые могли бы так сделать. И что бы я написал? Я не люблю говорить. Большинство слов мне кажутся лишними, а вечно пиздящие балаболы выводят меня из себя.
День подходил к концу. Луч солнца ворвался в офис неожиданным, но приятным гостем и, проскользнув по панельному перфорированному потолку, ярко осветил все мои мечты, окружившие монитор пыльного серого монитора. Какие они красивые, пусть такими и останутся, лучше их не трогать.
Когда я стою у большого зеркала после ванной, то смущаюсь своей бычьей шеи и рыхлому телу на слишком тонких для такой шеи ногах. Ноги могли бы сделать и подлиннее, говорю я и скоро накидываю свободные штаны с футболкой, пряча как будто не свое тело. Так привычнее. Я бы не сказал, что во мне есть что-то необычное. Простой парень невысокого роста, немного в теле, но не сильно. На Ладожской таких много. А она, Ира, всегда здоровается и прощается со мной отдельно, называя моё имя. Да, у нее темные кудри. Что-то из детства. Определенно, её волосы как у моей первой учительницы, не помню, к сожалению, как её звали. Это очень красиво. Она стройная, с широкими бедрами и тонкими руками, очень женственная.
6 На крыше
Я лежал дома на кровати в комнате с открытым, но занавешенным окном – светило яркое солнце и через трафарет ткани чертило узоры на стене. Редко бывает так, что ты просто лежишь и смотришь на эти узоры, и тебе больше ничего не нужно, ни телефона, ни телевизора, ни гундящего заумного подкаста. Играет Nthng – Oralage по кругу, в окно льется легкий шум с улицы. Всё очень гармонично и по кайфу. Я чувствую, как сердце подстраивается под бочку трека и отстукивает свой ритм на каждый второй удар. Или мне так кажется – да это не важно. Легкие синтезаторные пады трека уносят меня за тысячи километров. Может, к южному бирюзовому морю, а, может, к скалистой безжизненной пустыне, где плавно плывет одинокий караван к своему оазису для ночлега.
Я пригласил Иру прогуляться вчера на обеде, но она сказала, что не стоит. Я её понимаю. Она замужем, у нее ребенок и вообще все хорошо. Семейная идиллия. Нет, она жалуется иногда на мужа на работе, в шутку. Типа стало меньше внимания, и не встретил ее после работы. А я бы встретил, точно! На самом деле, я просто хотел немного с ней пообщаться, и, может, показать ей свои любимые места около работы. Я не хотел говорить ничего личного. Я даже пытался обижаться, что она отказала, но стоило услышать ее голос, немного низкий и от этого бархатистый и успокаивающий, я понял, что обижаться нелепо, и я смущенно улыбнувшись – больше глазами, продолжил подгонять расходы под нужную сумму налога на прибыль – такая бухгалтерская суета показалась мне в тот момент приятной.
Узоры на стене комнаты зашевелились калейдоскопом от дуновения ветра. Я собрался и поехал в центр. Сидел на пляже Петропавловки с закрытыми глазами и ловил волны, представляя, что на морском берегу. Проходили разные люди. Говорили друг с другом, а я порой врывался в их разговор: «я просто хочу быть частью чего-то важного, или быть для кого-то важным. Быть чьим-то оазисом в пустыне». Люди устало отворачивались и не слышали меня. Ну и ладно, вообще-то я не настаивал. Кто-то из прохожих сказал: «Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что на ней зацветут лилии и вознаградят его труды».