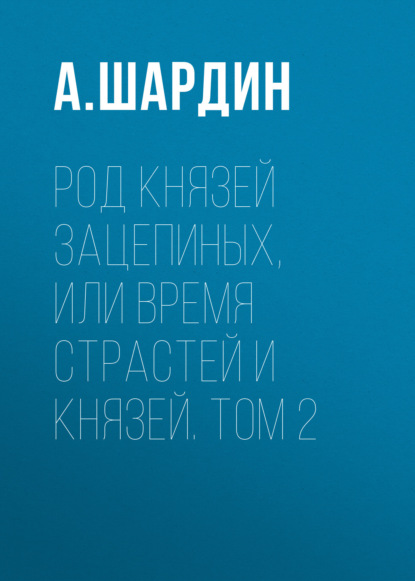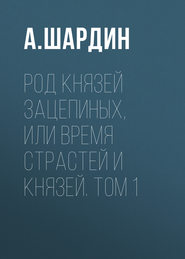По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И Елпидифору тоже?
– Нет! Он в секту еще принят не был, клятвы не давал. Его обязали только молчать обо всем, что знает и видел, и не показываться к ним под угрозой, что будет из-за угла убит как собака.
– Так я его поскорей в деревню отправлю, попрошу другого на перемену прислать, хотя и жаль – хороший кучер! А что же Фекла? Неужели выдержала испытание?
– Что ты! В моем-то присутствии? Это была бы уголовщина, черт знает что такое! После второго раза ведь был бы третий. Нет, я таких вещей не люблю! Вот пошалить, позабавиться, стариной тряхнуть, это дело особого рода, а чтобы к уголовщине припутаться – нет! Слуга покорный! Я шепнул слово Ермилу Карпычу, а ей велел скорей признаваться да просить назначить окуп на выход. Впрочем, мне и настаивать на этом не приходилось. Как принесли жаровню, так она так испугалась, что если бы и точно ничего не было, так на себя бы налгала. Окупу назначили триста рублей. Она двести сейчас же внесла, что ты ей дал, а, делать было нечего, ста рублями я помог! Все дело тем и кончилось. Главное, чем я доволен, что, кроме Ермила Карпыча, никто не узнал, что, по своей вечной страсти к молодости, авантюрам и красоте, фигурировал в их шайке неприступный и блестящий князь Зацепин, вице-адмирал и андреевский кавалер. За одно это можно было и не сто рублей пожертвовать!
– Так что, мои денежки вместо бедной женщины к тому же богачу Ермилу Карпычу попались?
– Как быть, друг мой! Капитал – что большая река, принимает в себя все ручьи и маленькие речки!
– Да, вот тут и рассуждайте о труде! Так или иначе, а капитал все себе забирает… Дядюшка, я хотел с вами поговорить. Мне бы хотелось ехать в Париж поучиться!
– А что, разве наши честолюбивые замыслы не выгорают?
– Не то что не выгорают, они пошли было…
– Да это-то я знаю, что пошли было, но…
– Приезд этого…
– Это тебе Остерман подсахарил. Он заметил, что ты ближе к Минихам, чем к нему, и…
– А я чувствую, что в том виде, как есть, я не в силах сбить соперника с позиции. Поэтому лучше уступить и явиться в новом виде, чтобы сражаться равным оружием.
– В тебе столько практической сметки, что не могу не высказать моего одобрения. Точно, оставаясь здесь, ты можешь наделать глупостей, а уехав и возвратясь, можешь представить прелесть новизны, тогда как твой соперник, пожалуй, успеет надоесть как горькая редька. Разделяю твой взгляд, Андрей, и, знаешь, еду с тобой, чтобы, как сказал какой-то поэт, «утренней зарей молодости осветить свой вечерний закат»! Едем, друг! Я там помогу тебе, представлю кому следует, введу в общество. Хотя, разумеется, многих нет, да все же кто-нибудь и остался из моих прежних друзей!
– Я завтра же подам прошение о дозволении…
– Нам это все устроит Остерман. Он будет так рад спровадить нас обоих, что, пожалуй, сделает антраша от радости на своих пухлых ногах.
– Я надеюсь за то отблагодарить его по возвращении.
– Не загадывай, друг, так далеко вперед! В жизни пользуйся настоящим, а не напирай на будущее.
И дядя с племянником расстались до завтра.
V
Остерман
Наступило лето 1741 года. Миних в отставке хозяйничает в Гостилицах. Герцога Бирона с семейством увезли в Пелым; братьев его Густава и Карла и его главнейшего адгерента свояка, генерала Бисмарка, по разным городам Сибири развозят; Бестужева к смертной казни приговорили было, да смилостивились, велели безвыездно жить в своих деревнях; князья Зацепины, для поправления здоровья, на бессрочное время отпущены в Париж. Остерман царствует.
Да как ему не царствовать, когда принц Антон только и свет видел, что в глазах Остермана, а правительница-принцесса, которая теперь великой княгиней себя величать велела, любит лучше романы читать, чем доклады слушать; любит лучше с наперсницей Юлианой да с красавчиком Линаром по тенистому саду гулять, чем распорядок чинить. Ну а Остерман сидит за работой, вдумывается, старается все предугадать, все предупредить.
«Вот, благодаря французскому золоту шведы войной грозят, нужно приготовиться, встретить их как следует. А тут вот еще политическая путаница. У нас с цесарским двором давний оборонительный союз заключен, конъюнктуры общие в рассуждении турок и поляков, чтобы в узде держать, им силу укреплять не давать, – рассуждает про себя Остерман. – А тут этот несытый честолюбец Миних рассердился на цесарский двор за то, что он мир с турками заключил, когда он сам только что викторией заручился и на дальнейшую славу надеялся, взяв дело в свои руки на три месяца, да и заключил такой же союз с королем прусским, и еще в такое время, когда прусский король решил на цесарский двор напасть и Шлезию завоевать. Выходит, что по договору мы обязаны помогать союзнику против своего же союзника. Допустим, что выход из такой конъюнктуры всегда есть, – союз с Пруссией оборонительный, и мы можем и той и другой стороне предлагать добрые услуги, помощи же никоторой стороне не дадим; цесарскому двору станем указывать на шведские угрозы, а прусскому королю, как чинящему нападение, мы помогать не обязаны. Но Франция под рукой нам вельми злорадствует, хотя наружно всякую дружескую апаренцию оказывает. Она желает искони враждебный ей австрийский двор в ничтожество привести, прагматическую санкцию изорвать, земли габсбургские разделить и тем самой великую силу забрать. Для того она курфюрста баварского, короля сардинского и Испанию на цесарский двор напущает и прусские притязания поддерживает. Нам допустить таких притязаний никак нельзя! Нужно клониться к тому, чтобы Австрия в союзе с Пруссией французские диспозиты опровергнула. Но как Франция была посредницей в мире нашем с Турцией и гарантировала его условия, то, ввиду шведского вооружения и желания Швеции сблизиться с Портою для общего на нас нападения, нам нужно всячески ее менажировать и до явной злобы не допускать. Тут вот и надо подумать: как бы все эти инфлуансы на сторону своих конъюнктур перевести?..
Ну да теперь все в моих руках, – думает Остерман. – Правда, в кабинете заседают еще князь Алексей Михайлович Черкасский да граф Михаил Гаврилович Головкин, но это не такого рода люди, чтобы власть забрать могли. Для первого, известно, был бы хороший повар, а там ему хоть трава не расти, только его не трогайте! Ну а Головкин не то: это человек честолюбивый, очень честолюбивый! Видите, отец-то его, граф Гаврило Иванович, в кабинете первым человеком был, так и ему хочется по отцу идти; притом он и великой княгине-правительнице сродни и по Ромодановским[1 - Князь Иван Федорович Ромодановский, носивший титул князя-кесаря, сын князя-кесаря Федора Юрьевича, знаменитого сподвижника Петра и начальника Преображенского приказа, был женат на Настасье Федоровне Салтыковой, родной сестре царицы Парасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой, бывшей замужем за царем Иваном Алексеевичем – родным дедом принцессы Анны Леопольдовны. Граф Михаил Гаврилович Головкин был женат на единственной дочери князя Ивана Федоровича, княжне Екатерине Ивановне Ромодановской, приходившейся, таким образом, Анне Леопольдовне двоюродной теткой.]. Ну да где ж ему? Человек он болезненный, мнительный, к делу непривычный. Где ему работать?.. А не будет работать, не будет и управлять, всегда будет в руках работника. Все придется к Андрею Ивановичу идти. Вот интриги разные подводить, на это он мастер! Хоть бы и теперь какую штуку выдумал, да еще как хитро, первосвященного тут примешал да через Тимирязева и Менгден возьми и укажи правительнице: дескать, в манифесте о принятии правления она сравнена с Бироном, а в манифесте о престолонаследии пропущены ее дочери. Виноват, дескать, Остерман. Он в пользу принца Антона бьется, так нарочно, дескать, чтобы вызвать затруднения, пропустил. Да первый-то манифест не я и писал. Его писал Миних с своими адгерентами. Да и то: все в одну ночь сварганили, где тут в каждое слово вдуматься. Манифест о наследстве, правда, писал я, но меня тоже торопили; Бирон чуть не на шее сидел. Потом, когда я писал, так дочерей у нее не было; да в нем и ссылка на завещание императрицы Екатерины есть, а там все ясно высказано. Кажется, не о чем бы и рассуждение иметь! Я ровно не виноват ни в чем. Так нет! Все валят на меня, все я виноват, все ко мне! Ну да ничего, мы отстоимся!.. Эх, не так бы я дело повернул, если бы принц Антон был хоть немножко потолковее, а то… Ну как, кажется, не понять, что коли хочет православным царством заправлять, то и самому нужно православным сделаться. Этим он вызвал бы в русских сочувствие, стал бы им своим, и они бы стали стоять за него. Можно бы было потешить духовенство; отдать ему его имения в полное распоряжение или там что-нибудь да разослать десяток-другой тысяч по монастырям. У него образовалась бы партия, создалась бы сила. А то мямлит, мямлит; то того хочет, то другого боится, а дела нет! Не то такую штуку выкинет, что руки опустишь. Вот обрадовался, что жена Миниху отставку подписала, вздумал с барабанным боем по улицам объявлять, будто победу какую празднует. Миних справедливо обиделся. И вышел скандал, пришлось извинения просить, а потом того же Миниха бояться и прятаться, пока тот на остров не переехал и потом в свою Гостилицу не уехал; говорит: «Каналы рыл, крепости строил и брал, указы на целую империю писал, не одно ведомство устраивал и управлял, а теперь – репу сажать иду».
Рассуждая таким образом про себя, граф Андрей Иванович Остерман пересматривал проект дополнительных статей к союзному трактату с Австрией, заключаемых между цесарским и саксонским дворами и Россией, по инициативе графа Линара, но согласно мнению графа Остермана и в прямое противоречие предположениям графа Миниха, находившего более соответственным интересам России союз с прусским королем, который удерживал бы шведов в их воинственных стремлениях.
«А дорого бы, я думаю, дал фельдмаршал, чтобы изорвать все, что мы здесь пишем, и написать то же самое в пользу прусского короля, – думал Остерман. – Как уж он хлопотал, а не удалось-таки! – прибавил он с самодовольством. – Нашла коса на камень! А уж какой, кажется, орел был! Граф Линар человек светский, блестящий, – он тоже работать не будет, поэтому Андрей Иванович и ему завсегда благоугоден будет. Он очень самолюбив, ну что ж? Мы самолюбие его будем разными цацами тешить, а дело будем все в своих руках держать. Правда, до тридцать пятого года у нас с ним по политике были не совсем гладкие счеты; но он дипломат, прошедшего не помнит, а смотрит на будущее. По старым делам в чем можно уступим, а теперь все же он ко мне благодарность чувствовать должен. Положим, не для него, а все же я помог. А то бы как его сюда прислать, когда он по требованию нашего двора отозван был. Мог бы великую конфузию получить. Нам требовать тоже неловко было… А входит в силу, большую силу забирает, так что, пожалуй, принца Антона и поздравить можно». И Остерман едко улыбнулся.
Рассказывают, будто пошел он гулять по Летнему саду, ну и гуляет; видит, что жена его с Менгден по дворцовому саду ходят, пошел туда, – ходит. Только ни жены, ни Менгден нет. Верно, думает, они за решетку ушли, в третий сад, что к самой румянцевской даче подходит. Идет туда, как вдруг перед решеткой, откуда ни возьмись, двое часовых и перед ним, генералиссимусом-то, штыки скрестили.
– Вы меня не знаете? – спросил он.
– Как не знать, ваше высочество! – отвечают. – Изволите быть генералиссимусом и шефом нашего полка.
– Что ж вы?
– Не приказано пускать никого, кроме тех, о коих наказ дан!
– А меня нет в наказе?
– Никак нет, ваше высочество!
Делать было нечего, пришлось сердечному скрепя сердце похвалить часовых за исправность и поворотить оглобли. Дело в том, что из сада-то в румянцевский сад калитка проделана, а этот флигель вместе с садом граф Линар нанял.
И Остерман характерно засмеялся.
Вошел брат жены Остермана, генерал-майор Николай Иванович Стрешнев.
– А, здравствуй, брат Николай Иванович! Спасибо, что навестил. Я хотел посылать за тобой.
– Очень рад, братец, что нахожу вас в добром здоровье; а сестра?
– Слава богу! Хлопочет там по хозяйству; а мое здоровье – известно, хлопоты да дела. Я за тобой хотел посылать вот по какому делу… Надеюсь, ты не откажешь мне услужить? Слышал ты, какую историю о манифесте-то сочинили? Все это, скажу тебе по конфиденции, граф Михайло Гаврилович мины разные подводит. Съезди-ка ты к нему, поговори. Чего он хочет? Я всякое удовольствие готов ему сделать, чтобы нам только в союзе быть. А то оба ссору иметь будем, оба и провалимся. Теперь же нужно держать себя твердо. Новый инфлуент в силу входит. Этот будет, пожалуй, покрепче Бирона.
– С удовольствием, братец! Только как прикажете: одному мне ехать или с братцем Василием Ивановичем? Они ведь нонче очень с графом Михаилом Гавриловичем сошлись. Вместе в каких-то грязях купаются.
– Что ж, съезди и Васю попроси. Скажи: очень и очень обяжете; сам отслужу.
– Так я сейчас еду, братец; заеду за братом и вечером ответ от графа Михайлы Гаврилыча привезем.
– С богом! До свиданья!
Стрешнев ушел, а Остерман вновь начал перечитывать дополнительные статьи трактата.
«Да, если бы у меня под руками был такой военный человек, как Миних, – думал он, – тогда другое бы дело было, а то нет, решительно нет! Не на кого опереться. Ну вот Лесси и Кейт приехали. Генералы-то они хорошие, да иностранцы, по-русски ни бельмеса не смыслят и, ясно, в войске никакого инфлуанса иметь не могут. Нашего Альбрехта ребенок кругом обойдет. Прост уж очень. Даже и не подозревал, как Миних свою махинацию подводил, а еще помощником его в Преображенском полку считался. Ну, да и чином мал. Принц гамбургский – трус! Апраксин на меня зверем смотрит, да и молод. Бутурлин – тот елизаветинец. Смотрит на нее, а у самого слюнки бегут. Вот Стрешневы, те свои и малые смышленые, но тоже еще в низших генеральских чинах обретаются, да и больших военных талантов в них незаметно. Разве Румянцева из Константинополя выписать? Тот генерал-аншеф, петровский служака. Несговорчивый, крутой человек… да и там нужен. Но делать нечего, пожалуй, придется выписать, чтобы всем этим различным пропозициям конец положить. A то вот осенью Миних опять приедет. Его сын, Юлиана и все эти миниховцы начнут хлопотать и, чего доброго, отставного фельдмаршала с графом Линаром сблизят. А не то, пожалуй, цесаревна Елизавета… Да, ей замуж пора! – твердо сказал себе граф Андрей Иванович. – На что это в самом деле похоже: русскую великую княжну, дочь Петра Великого, до тридцати двух лет в девицах держать и только сказкам разным повод давать. Нужно внушить это принцу Антону; пускай почаще твердит жене, а я с своей стороны и графу Динару объясню: «Дескать, непригоже им, что про тетку их двоюродную, такого великого государя дочь, разные басни ходят по городу. Говорят – не хочет. Как не хочет? В политике этого не можно. Ну, в монастырь ступай, коли не хочешь! А то ведь голштинец-то жив; через три года ему шестнадцать лет минет, стало быть, и без регента может управлять. Найдется, пожалуй, кто-нибудь из этих елизаветинцев посмышленее да посмелее, такую штуку выкинут, что и не опомнишься! Лучше Миниха, пожалуй, комедию сыграют! Недаром Бирон последнее время все с ней заигрывал да в конфиденсы входил, уж тут что-нибудь да было. Нужно отделаться, и поскорее отделаться! Удивительная беспечность этих людей! Им что ни говори, на все спустя рукава смотрят, все мимо ушей пропускают. Ну, как бы, кажется, об этом не подумать? Вот у принца Антона есть брат Людовик, чем не жених? Его можно выбрать в курляндские герцоги. Я, кстати, рекомендовал поговорить по этому вопросу с польским королем, и Август прямо указал на него. Вот и поезжай, голубушка, в Митаву. Там верти голову кому хочешь и смейся сколько душе угодно, мы не помешаем».
В то время как Остерман рассуждал таким образом, во дворце цесаревны Елизаветы происходила большая суета и возня. Под предлогом рождения у великой княгини-правительницы дочери Екатерины, чтобы быть ближе к дорогой родительнице, жившей в своем Летнем дворце, она назначила переезд из своего летнего помещения, где теперь Смольный монастырь, в свой зимний дом у Летнего сада. А в доме далеко не все было в порядке, поэтому там чистили, мыли, убирали. Нарышкин ходил по дворцу сам и хлопотал, чтобы к приезду цесаревны хотя в собственных покоях ее было все на месте.
Экипажи у Смольного двора были уже готовы, чтобы цесаревне ехать. На дворе и у ворот собралось множество гвардейцев, особенно преображенских гренадеров из находившихся вблизи казарм, провожать и проститься с любимой ими цесаревной. С солдатами было много их жен и детей, крестников цесаревны. День шел уже к вечеру, когда сквозь эту толпу с трудом проехали экипажи к крыльцу дворца. Цесаревна, прекрасная, стройная, с светлым взглядом и ласковой улыбкой, вышла на крыльцо, хотя видно было, что ее гнетет какая-то мысль. Она была очень задумчива. Солдаты встретили ее восторженным «ура!».
– До свидания, дети, – сказала она им, – я буду часто приезжать к вам; ведите же себя хорошо и скромно.
– Рады стараться! – гаркнули солдаты. – Желаем здравия и счастия!