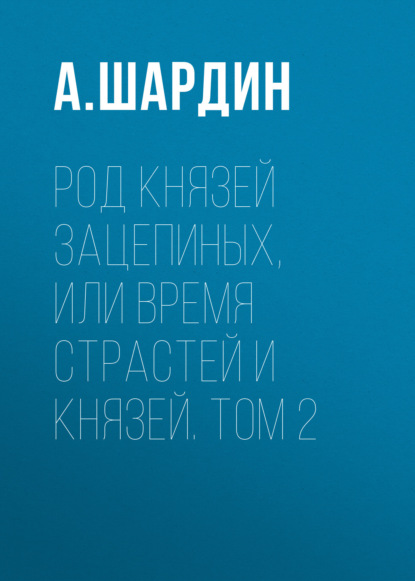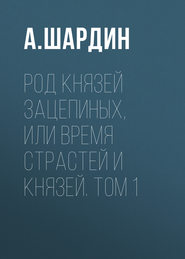По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В Вильну они приехали в то время, когда вся литовская знать была взволнована известием о конфедерации, о которой заявил коронный гетман, граф Потоцкий. Стараниями воеводы графа Ржевусского и коронного канцлера графа Понятовского эта конфедерация была разрушена; тем не менее смута, произведенная одним слухом о конфедерации, дала повод князю Андрею Дмитриевичу указать своему племяннику на все недостатки польского самоуправления.
– Люди не ангелы, мой друг, – говорил князь Андрей Дмитриевич, – и нельзя требовать, чтобы они были ангелами. Поэтому в установлениях людей должны быть ограничения, взаимные обеспечения, условия, которые останавливали бы дикость и произвол; должны быть такие условия, которые смиряли бы и отстраняли всякую несоответственность. Нужно, чтобы самая жизнь, лучше сказать, элементы жизни не допускали того, чего не должно быть. Здесь, напротив, все элементы жизни, будто нарочно, поставлены так, что они ведут только к несоответственности и несообразности. Будто старались прийти не к тому, чтобы капитал помогал труду, труд поддерживал капитал, а род уравновешивал взаимное стремление эксплуатации труда капиталом, а капитала трудом, а наоборот; будто о том только и думали, как бы сделать так, чтобы капитал мог эксплуатировать и род, и труд, чтобы род мог грабить капитал и давить труд, а труду оставалось бы только или разбойничать, или умирать с голоду. От такого рода порядков здесь идут рука об руку, с одной стороны, непомерная роскошь и чрезвычайные богатства разных магнатов, произволу и насилию которых нет узды и которые переходят иногда пределы самой необузданной фантазии; а с другой – бедность, страшная, поразительная, возмущающая. Ты смеялся, помнишь, когда в Подберезье мы спросили: «Далеко ли до Кейдан?», и нам отвечали: «Было прежде четыре мили, а теперь три». – «Как же это? – спросил ты. – Другую дорогу провели, что ли?» – «Нет, – отвечали нам, – дорога та же осталась, только прежде на ней стояло три столба, а теперь пан велел только два поставить и за три мили считать, чтобы ближе на заделье ходить было!» Это тебе образец самодурства здешних панов, самодурства, неумеряемого ни законом, ни обществом, ни образованием и готового идти прямо против логики. Если прибавить к этому царство жидов, сохраняющих свое самобытное управление и составляющих государство в государстве, и знать, как эти жиды выжимают последний грош у труженика-крестьянина и надувают на последний хутор мотающего пана, то, при общем своеволии и безурядице, можешь себе представить, что такое Речь Посполитая, то есть нынешняя Литва и Польша, где всякое государственное отправление, признанное необходимым королем, сенатом, даже народными представителями, может быть не допущено до осуществления последним шляхтичем и где этого же самого шляхтича может безнаказанно отдубасить палками первый магнат, которому придет это в голову. Ты, впрочем, увидишь все это сам. Вот мы завтра едем к Тышкевичу. Увидишь, что он встретит нас какою-нибудь самой дикой, самой невероятной выходкой, которая, разумеется, докажет его богатство и вместе с тем совершенную дикость и необузданность; между тем Тышкевич, представь себе, человек весьма образованный и приятный.
И точно, на другой день, не доезжая версты с полторы до Червонного Двора графа Тышкевича, их встретило множество людей и лошадей. Начальник этой ватаги, управляющий Червонным Двором, от имени графа подошел к князю Андрею Дмитриевичу и заявил, что граф, узнав о приезде их сиятельств, выслал к ним навстречу сани, так как у него в Червонном Дворе теперь зима и ездить на колесах нет никакой возможности.
– Как зима? Да ведь теперь май месяц? – спросил Андрей Дмитриевич.
– Точно так, ясновельможный, сиятельный пан, – отвечал управляющий, улыбаясь. – Изволите сами видеть: снег кругом лежит!
И он указал на белеющуюся среди леса дорогу, которую Тышкевич, любящий до безумия подобные дикие сюрпризы, приказал засыпать солью.
Разъезжая по такого рода субъектам и знакомясь с положением страны, ее законами и бытом, князь Андрей Дмитриевич старался развлечь своего племянника, возбудить его любопытство и занять его воображение. Проезжая Дрезден, он представил его королю Августу III, знаменитому тем, что у него была целая комната париков.
Вообще насколько племянник был грустен и задумчив под влиянием оскорбленного самолюбия, обманутых надежд и разбитого чувства, настолько дядя был весел и оживлен. Он чувствовал себя опять в Европе, среди обычаев, когда-то им усвоенных и от которых в течение семнадцати лет он не успел еще отвыкнуть. Он встречал людей, интересующих не одними придворными сплетнями, думающих не только об игре в карты. В Лейпциге он познакомил племянника с тем самым Винклером, рассказы об опытах которого графом Линаром его так заинтересовали. Андрей Васильевич сам видел эти опыты, сам делал их и сознал, в какой еще степени ему много нужно учиться.
Оживление Андрея Дмитриевича особенно стало заметно после того, как, проехав Лотарингию, они въехали в границы коренной Франции. Андрей Дмитриевич просто помолодел. Перед ним сами собой возникали воспоминания молодости. Он вспоминал свою жизнь в Париже, прелесть и образованность тамошнего общества, блеск и роскошь двора. Он рассказывал племяннику эту жизнь; говорил, как интересуются там успехами наук, новыми открытиями, всеми родами искусства; рассказывал свои предположения о том, куда он надеется свезти племянника, кому представить; вспоминал тех, которые сошли уже со сцены света. Своим оживлением он часто заставлял племянника забывать свое огорчение от неисполнившихся надежд.
Не доезжая Парижа, они должны были пересечь реку Сену. Андрей Дмитриевич вспомнил маленькое местечко, которое они тогда проезжали, вспомнил, что он в молодости провел здесь несколько летних недель в семействе Куаньи. Пришло ему на память и смешное происшествие: однажды, думая встретиться с маркизой, он пошел в рощу, подходящую к самому берегу Сены, и как вместо маркизы попал на ее купающуюся горничную, красивую субретку, которая, впрочем, не была к нему слишком строга. Под влиянием этих воспоминаний он захотел выкупаться и предложил это племяннику. А день был жаркий, и хотя время было к вечеру, но солнце так и жгло. Был июнь месяц, и июнь в Средней Франции. Андрей Васильевич принял предложение дяди с удовольствием, и они вместе погрузились в воды Сены и долго наслаждались ее освежающей влагой.
Но, купаясь, Андрей Дмитриевич забыл, что его племяннику нет еще двадцати лет, а ему уже за пятьдесят; забыл, что племянник, верно, не раз купался в прошлом году даже в холодной Неве, а он не купался уже около двадцати лет. Поэтому, смеясь и болтая, он вдруг почувствовал сильный озноб. Он вышел из воды, оделся, но согреться не мог. Озноб не давал ему покоя, и он приехал в Париж в лихорадке, больной до того, что в приготовленный им заблаговременно на бульваре Маделен отель, который занимал некогда знаменитый Колиньи, его внесли уже, под присмотром племянника, на руках.
– Напрасно ты беспокоишься, мой друг, – сказал Андрей Дмитриевич племяннику, – как-нибудь и без тебя уложили бы. Ну, а ты хлопотал; тем лучше, тем лучше! Благодарю, сердечно благодарю! Смешная вещь, – говорил он, когда его уложили и обставили кругом со всем изяществом его княжеских привычек. – Неужели я приехал в Париж для того, чтобы здесь умереть? Не правда ли, друг Андрей, ведь это было бы совсем глупо? Умереть с несравненно большим удобством я мог бы у себя в Петербурге на Мее или, еще лучше, в моем Парашине, под Москвой. Ты не был у меня в Парашине, Андрей? Жаль! Прелесть что за место! На Пахре, и с огромным, раскинутым перед глазами лугом. Дом выстроен в итальянском стиле. В углу римская башня – это вход, как бы остаток древности. Затем анфилада зал – это приемные. Фасад скопирован с дворца венецианских дожей; знаешь, прихотливо-готический стиль Возрождения. А потом, вправо и влево, жилой дом нового итальянского искусства, с террасами, верандами, выдающимися балконами, с видом на Пахру, на обширный покатый луг, оттеняемый в разных местах рощицами из лип, ив, клена и наших пихты и сосны и окаймленный киосками и павильонами в разных стилях, можно сказать, буквально залитыми цветами. А там, вдали, село с церковью и золотыми колосьями возделанных нив. Чудо как хорошо мое Парашино! Люблю я его! Оно напоминает мне свою прежнюю хозяйку. В прошлом году только на месте одного из киосков, в конце луга, я устроил ферму и выписал из Швейцарии коров. Оно так красиво должно выходить, когда по лугу ходят эти большие, полные, холеные коровы и звенят своими колокольцами. Думал было нынче летом там жить и пить их здоровое молоко, да вот ты меня соблазнил поездкой в Париж, я и приехал. Согласись, что будет смешно, если я приехал, чтобы здесь умереть?
– Какой тут смех, дядюшка, будет очень грустно.
– Ну грустить-то очень будет нечего, – перебил его Андрей Дмитриевич. – Умирать, рано ли, поздно ли, все-таки придется; только зачем же умирать не дома? Странная вещь, – продолжал Андрей Дмитриевич в промежутке между пароксизмами лихорадки, припоминая свою счастливую молодость, – в то время когда, полный сил и надежды, я был настолько далек от смерти, насколько может быть далек двадцатидвухлетний, вполне здоровый молодой человек, я, при всех своих странствиях, думал, что умру непременно в Париже. Помню даже, что однажды мы с Куаньи и графом Лозеном как-то летом после ужина, который давал нам Мопу в своем загородном домике в Бельвиле, разгорячившись от вина и общего разгулья, чтобы освежиться, пошли в Париж пешком. Теперь Бельвиль почти уже слился с Парижем, там, говорят, настроили фабрик и сделали из прелестного, чистенького местечка грязнейшее городское предместье. Тогда было не то. Бельвиль был совершенно отдельный городок на берегу канала в Сен-Дени, представлявший одну из живописнейших окрестностей всемирной столицы цивилизации. Идя оттуда и любуясь красивыми пейзажами, которые являлись нам один за другим, будто в панораме, мы зашли на вновь устроенное кладбище. Нужно тебе сказать, что кладбищ в Париже до того не было вовсе. Всякий хоронил своих покойников где хотел. Разумеется, больше хоронили при церквах, но хоронили также в садах и даже во дворах в черте города. Нашлись новаторы, горячо восставшие против такого порядка. Они доказывали, что нельзя мертвыми отравлять живых, и доказывали это научным образом положительно. Успехи химии дали им к тому способы. Молодежь, разумеется, стала на сторону новаторов. А как новая мысль об устройстве кладбищ была весьма выгодна духовенству, то она и от него встретила сильную поддержку. Под самым Парижем, на высоком холме, стоял прекрасный загородный дом духовника Людовика Четырнадцатого, отца Лашеза. От дома к Парижу, по скату горы, шло принадлежавшее ему же поле. Отец Лашез был уже очень стар и, говорят, в молодости был очень и очень небезгрешен, особенно по части прекрасного пола. Думая заслужить отпущение своих грехов, он пожертвовал часть этого поля под кладбище, долженствовавшее устроиться на новых основаниях, проповедуемых новаторами. Место было выбрано превосходное. Оно лежало на скате холма к Парижу. Город с этого ската был виден как на ладони; высокие окрестности рисовались вдали. Порядок был установлен беспримерный; устройство, можно сказать, образцовое. Несмотря, однако ж, на удачный выбор места, прекрасное устройство и порядок, французы не хотели на нем хоронить своих покойников, и кладбище стояло почти пустым, огражденное со всех сторон, разбитое на кварталы, обсаженные деревьями. Посреди него стоял только один памятник, именно виконту Лозену, убитому на дуэли д’Егриньоном и которому поэтому духовенство отказало в похоронах при церкви. Граф Лозен уговорил нас зайти полюбоваться памятником, поставленным над могилой его дяди. Мы пошли. Среди цветов и зелени, в беседке из дикого винограда, перевитого каприфолиями, стоял этот памятник, изображающий уязвленного Ахиллеса. Перед памятником, тоже вся в цветах, стояла полукруглая мраморная скамья, а перед нею мраморный столик. Все это было поставлено так, что нельзя было не прийти в восторг от красоты места, от памятника, действительно артистически исполненного, наконец, от уютности и прелести помещения скамьи с ее столиком, где так удобно было предаваться благочестивым размышлениям. Но нам, молодым сорванцам, благочестивые размышления, разумеется, не пришли и в голову. Мы решили, что на этой скамье, за изящным столиком, перед великолепным саркофагом и прелестью картины раскинувшегося перед нами Парижа, следует почтить одного из Лозенов продолжением пира Мопу. Мы решили освежить воспоминания о павшем, выпить за свое здоровье и счастливые похождения на том свете, ввиду эмблемы, олицетворяемой памятником. Задумано и сделано. Мы сыскали свои экипажи, и через несколько минут на кладбище явились ящики с вином и фруктами, корзины с закусками и десертом. Раздались шумные возгласы и тосты, смешивающие печальные воспоминания о прошлом с надеждами на будущее. Запылала жженка. Мы дали себе слово дождаться во что бы то ни стало того заветного часа, когда, по заверениям бабушек-старушек, по всем кладбищам разгуливают привидения, желающие хоть одним глазком взглянуть на здешний мир. Разумеется, привидений мы не дождались, тем не менее разгульно и весело провели ночь, рассуждая о смерти и о том, что будет с нами там и что будет здесь после нас. Мы все были, говорить нечего, порядочные вольнодумцы и большие приятели с Вольтером, слава которого тогда едва возрастала, но который умел уже ловко шутить над патерами. Впрочем, если я не умру, то мы с тобой съездим к мадам Шастле в Сирей, во-первых, чтобы пить шампанское в самой Шампани; а во-вторых, чтобы познакомиться с парочкой, которую составляют первый остряк и безбожник в мире и первая последовательница философии, основанной на изучении точных наук, первая барыня-математик. Это стоит того, чтобы сделать несколько десятков лье.
Рассказ Андрея Дмитриевича был прерван самым сильным пароксизмом лихорадки, который еще усилился от принятого лекарства, почему Андрей Дмитриевич приказал все склянки с лекарствами выкинуть за окно.
– Так лучше, – сказал Андрей Дмитриевич. – Зачем я стану пичкать себя лекарствами, которые не помогают?
По миновании пароксизма он продолжал:
– Таким образом, пировали мы на пустом кладбище, забавляя друг друга разными рассказами из царства мертвых. Куаньи рассказал нам, как один из его прадедов, казненный шведским королем, к которому он поступил на службу, принес наутро в подарок своему сыну в Париже свою голову. Сыну в этот день минуло ровно шестнадцать лет. Он давно не получал известий от отца. На этот день он ждал писем и, разумеется, отцовских подарков. Только перед утром он крепко заснул и видит: входит отец в шлеме и с опущенным забралом. В руках у него корзина. «Я не забыл прийти к тебе с подарком, мой дорогой сын, – сказал он. – Вот возьми и поминай отца в день твоего рождения». Сын обрадовался, раскрывает корзину, а там отцовская голова… Он проснулся и после узнал, что именно в этот день и час голова его отца была отрублена в Стокгольме на эшафоте. Вольтер, когда ему рассказывали эту историю и сказали, что сын воспитывался в это время в иезуитском коллегиуме, выразил сомнение, не есть ли этот сон и эта голова искусное воспроизведение иезуитов, которые, зная о назначении времени казни отца и пользуясь наркотическими средствами, вызвали в сыне тот прерывчатый сон, после которого человек не помнит себя, и просто-напросто разыграли перед ним интермедию, которую после тот думал, что видел во сне. «Распространение суеверия составляет один из элементов их власти, – говорил Вольтер. – Удивительно ли, что они воспользовались таким подходящим случаем к приобретению себе верного адепта?» Но против этого замечания, переданного также Куаньи, крепко восстал Лозен. Он доказывал возможность взаимного сообщения родственных душ даже после смерти и напомнил самому Куаньи случай из предания в их роде, по которому один из его предков, умерший ста двадцати лет от роду, обещал приходить с того света всякий раз, когда будет угрожать какая-либо чрезвычайная опасность их роду, и исполнил это обещание накануне Варфоломеевской ночи… «Я этому тем более верю, – говорил Лозен, – что твой отец говорил, что он сам видел этот красный крест, поставленный предупреждающим предком, которым охранялись твои прадед и дед, бывшие тогда протестантами, от всеобщего избиения. В нашем роде, – продолжал Лозен, – тоже существует предание, по которому знаменитость его прекратится от убийства последнего члена нашего рода своим собственным кучером, но убийства не тайного, а всенародного, представляющего вид легальности, оправдываемой противоположностью начал и понятий между кучером и седоком, то есть естественной завистью, питаемой кучером к седоку»[2 - Говорят, что поверье это оправдалось в дни первой французской революции, когда граф Лозен был обезглавлен именно своим кучером, поступившим в помощники палача.].
Слушая эти рассказы, я должен был тоже рассказать что-нибудь в этом роде. Мне пришло в голову рассказать о завещании нашего предка Ярослава Мудрого, по которому только те отрасли его славного рода нашего будут цвести и множиться, которые сохранят верность родовым началам, сопряженным с идеей служения народу и защиты его прав.
Лозен и Куаньи расхохотались над правами народа как бешеные.
«Какие такие права народа? – спрашивал Куаньи. – Права городов, парламента, аристократии – это так! А права народа?.. Это просто фраза новой философии женевца – фраза, не имеющая смысла. Народ везде народ. В свободной Греции и цезарском Риме, как и в королевской Франции, одинаково были илоты, плебеи и рабы, какие же у них права?»
«Первое право народа, – смеясь, говорил граф Лозен, – быть битым».
«Второе, пожалуй, неоспоримое право: служить своему господину, пока тот не прогонит!» – прибавил от себя Куаньи.
«А третье: работать, пока не возьмут всего заработанного».
«Или неотъемлемое право: пользоваться своею женой, пока ее не потребуют к сюзерену».
«А самое важное право, – вскрикнул Лозен, – жить и дышать, пока не повесили».
И молодые люди хохотали искренно.
«Нет, господа, по нашему родовому закону русских князей это не так! – отвечал я. – Нам дали власть, дали силу, дали деньги, родовые преимущества за то, чтобы мы служили и оберегали народ. В этом смысле родовое начало должно служить противовесом гнету богатства, то есть ограничением стремлений наживы во что бы то ни стало. Наслаждения, доставляемые богатством, и та сила, которую оно создает, разумеется, должно вызвать во всех общее желание нажиться, разбогатеть во что бы то ни стало, и разбогатеть как можно более и сколь возможно скорее. При таком общем стремлении, разумеется, нет места ни великодушию, ни благородству чувств, ни общественной заслуге, если эта заслуга не будет материально оплачиваться. Все будут готовы идти в ростовщики, кабатчики, откупщики и другого рода профессии, представляющие более или менее верную и скорую наживу, не разбирая средств. Все будут давить и грабить один другого, сколько хватит сил. Чтобы парализовать такое общее стремление и вызвать не покупную заслугу, является род, в смысле наследственного права передачи не только одного накопленного богатства, но и заслуженного уважения. Тебе, разумеется, приятнее быть сыном герцога Лозена, чем какого-нибудь ростовщика или кабатчика; отними же это право рода, и мы все захотели бы быть детьми богатых ростовщиков. Но чтобы такое право было существенно, – должно быть заслуженное уважение, должна быть заслуга, перед кем же? Ясно, перед народом…»
«Что ты за вздор говоришь, князь, – возразил мне Лозен. – Какая тут заслуга? Мы победили, то есть пришли и взяли это стадо вместе с их землей, купили их своей кровью. Поэтому мы имеем на них полное право жизни и смерти. Мы, то есть наши предки, предпочли оставить им жизнь, чтобы они нам служили и принадлежали с их плотью и костьми. Какие же у них могут быть права?»
«У нас не было ни победителей, ни побежденных, – с досадою отвечал я. – Мы один народ, одна семья, стонавшая некогда вместе под игом победителей и сбросившая с себя вместе это иго…»
«Хорошо, – опровергал меня Куаньи, – но ведь у вас есть крепостное право».
«Да, пожалуй, как злоупотребление, заимствованное у вас же и у немцев. Оно было введено не нашим родом и отразилось страшными последствиями. Но дело не в том: московская линия нашего дома, как будто в осуществление слов, завещанных Ярославом Мудрым, когда в своем стремлении к самовластию нарушила преступными путями народные права и вольности, то исчезла с лица земли. Об этом стоит подумать, рассуждая о том, имеем ли и можем ли мы иметь сношение с не здешним миром».
Лозен и Куаньи замолчали, заметив, что возражение их я принял слишком близко к сердцу.
Так болтали мы на косогоре кладбища, с бокалами в руках, вспоминая умерших и желая всевозможных успехов живущим. А утреннее солнце всплыло уж из-за зелени окрестностей и осветило весь Париж. Утро было превосходное. Перед нами расстилалась панорама причудливых зданий нового Вавилона, с его дворцами, садами и чудными окрестностями, перерезываемыми серебряной лентой Сены. Внизу, слева, раскинулся цветущий Бельвиль; справа зеленели бульвары столицы; позади виднелась обсаженная цветущими яблонями и грушами дорога к аббатству Сен-Дени и сен-дениский канал, по которому на шестах тянулись длинные барки, торопившиеся доставить к утренним базарам провизию; а впереди синел сен-венсенский лес. Ароматом цветов несло отовсюду. Нам было так хорошо, так отрадно тогда. Голова освежилась, несмотря на выпитые бокалы, грудь дышала свободно весенним утром, и мы в самих себе чувствовали отраду и радость.
«Господа! – вдруг воскликнул Куаньи. – Я нахожу, что французы очень глупы, что не хотят хоронить здесь. Я хочу, когда умру, лежать именно на этом месте. Я хочу думать, что и после смерти меня будет окружать тот же свет и зелень, тот же аромат и счастие, которым наслаждаюсь я теперь, пируя с моими друзьями. Я из Нормандии, там наш фамильный склеп. Но пусть здесь, в виду этого города…»
«И я тоже! – заявил Лозен. – Подле тебя и того, кто не хотел допустить ни одного слова, касающегося его чести, и заплатил за то жизнью, хотя у нас есть тоже свой семейный склеп в Бретани!»
«И я с вами, – прибавил я, – хотя там, на востоке, в Зацепинском монастыре, у нас тоже покоятся все Зацепины…»
Наш пир окончился тем, что мы все купили себе места на кладбище отца Лашеза. Не правда ли, очень странно? Я приготовил вперед себе место успокоения, будто знал, что приеду сюда умирать, и даже когда прошли установленные пятнадцать лет, то внес снова сумму, чтобы удержать за собой право на купленное место. Но я тогда был молод и не понимал отрады, которая заключается в мысли, что бренные останки наши будут лежать подле праха близких нам людей. Покупали себе места другие, купил и я. Молодежь, как я говорил, сочувствовала новаторам в устройстве кладбищ. Нас утешала мысль, что и после смерти мы будем пионерами новой мысли. Теперь я не то думаю. Не хочу лежать здесь! Подари, мой друг, мое право городу, а меня увези в Зацепино. Знаю, что смешно заботиться о своем теле, после того как замрет в нем та жизненная струйка, которая создает из этого тела мое «я». Но потому ли, что, живши, стало быть носивши это тело, я успел настолько к нему привыкнуть и так полюбить, что не хочу, чтобы после меня оно было брошено – ведь привыкают люди к старым халатам и сапогам, – или, может быть, потому, что, живя в России, я снова почувствовал в себе ту родную струну, тот отклик русскому чувству, которые делали меня русским; но я желаю, чтобы над моей могилой шумела от ветра наша плакучая береза севера; чтобы над ней раздавались звуки колоколов Зацепинской пустыни и чтобы прах мой, смешиваясь с прахом давно почивших наших предков, служил на удобрение родной, а не чужой земли. Поэтому еще раз прошу тебя, друг, – сказал он, обратившись к племяннику, – если уж предопределено мне умереть здесь, то увези мой прах к себе, в Зацепино, и положи там подле костей моего отца, твоего деда, где, вероятно, захочет лежать и твой отец, мой сиятельный брат.
– Ну что, дядюшка, говорить о смерти? Бог даст, выздоровеете, и мы с вами успеем еще полюбоваться на Париж с холма кладбища отца Лашеза! – отвечал Андрей Васильевич, стараясь в свою очередь разогнать печальное настроение духа своего дяди.
– Э, друг мой! Жизнь и смерть – дело условное. Обе они идут одна с другой под руку, и не узнаешь, где является одна и возникает другая. Все родится, чтобы умереть, а умирает, чтобы дать расцвесть жизни. Пастух, закалывающий ягненка, чтобы не умереть с голоду, разумеется, не думает, что он совершает убийство, как не подумает о том медведь, когда ему достанется съесть пастуха. Одно, что неизменно, это время, а мое время уже прошло. Умру ли я здесь, окруженный чужими людьми, но с которыми тесно сближают меня мои воспоминания, или успею еще раз взглянуть на мое Парашино с его панорамой на Пахру, заливными лугами, тенистыми рощами, вновь отстроенной изящной колокольней моего села и вновь возведенной фермой, – ничто не прибавится к массе прожитых мною впечатлений и ощущений. Я буду чувствовать только то, что я уже знаю, что уже испытал и чувствовал, с тою разницей, что в повторении не будет уже ощущения свежести, не будет волнения новизны. Какую бы красавицу я ни встретил, какую бы благосклонность от нее ни заслужил, я не буду уже чувствовать того невыразимого трепета, той радостной надежды, которыми сопровождалось мое первое свидание с маркизой Куаньи. Во мне уже не закипит так кровь, не прольется то бешенство страсти, которое охватило меня, когда шаловливая Шуазель, кокетничая и играя со мной, увлекла меня в грот наяд в версальских садах и, принимая вдруг на себя роль наивной постницы, вздумала мне заявить, что она шутила. Точно так же не ударю я из шалости рупором по начиненной гранате; не вздрогну от восторга, взглянув в море на восход солнца; не замлею от страстных надежд, ожидая мою молодую, скромную супругу, обвенчанную со мной тайком от целого мира. Прошлому уже ничему не быть. Все это прожито, прочувствовано, перенесено. В будущем только холод, один холод, – все равно: жизни или могилы!
Андрей Дмитриевич задумался, но через минуту прибавил весело:
– А вот что, мой друг, хотел я тебе сказать. Отель этот, что нам приготовили, удобен и хорош, но не довольно изящно обставлен. Вещей замечательных и действительно изящных нет совсем, а, признаюсь, это мне вовсе не по сердцу. Съезди, пожалуйста, в Пале-Рояль. Там, говорят, теперь, под теми самыми комнатами, которые занимал когда-то Мазарини и где он в своих изнеженных кардинальских руках умел держать в страхе пол-Европы, – орлеанские прожектеры вздумали открыть базар редкостей. Страсть к наживе одолела всех, доказательство падения родовых начал. Принцы бросились в коммерцию, будто наши Толстопятовы и Белопузовы. Говорят, однако ж, что на этом базаре есть действительно редкие вещи. Несколько картин Леонардо да Винчи и Франческо; несколько работ Бенвенуто Челлини и антики; а главное, античная статуя Афродиты. Говорят, это та самая статуя богини Киприды, работы Фидия, в честь которой на островах Кипре и Самосе жители приносили в жертву девственность своих дочерей. Взгляни и узнай! Если это так, то заяви о моем желании купить ее. Пускай принесут и покажут. Я заплачу, чего бы это ни стоило. Говорят, там продается также статуя Геркулеса Фарнезского. У меня есть она, но копия, римской работы, сделанная по заказу Нерона. А тут будто бы подлинный греческий оригинал. Еще, говорят, есть спящий Амур, тоже превосходной античной работы, времен Праксителя. Если приобрести две-три такие вещи да повесить несколько порядочных картин, то, по крайней мере, моя комната примет вид того изящества, которым я любил всегда окружать себя. Не знаю, почему многие, особенно у нас в Белокаменной, вздумали прозвать меня развратником. Какой вздор! Развратником я никогда не был! А, признаюсь, всего более в жизни любил красоту. Красоту природы, зданий, искусства и, разумеется, красоту женщины. Пусть же если уж суждено мне умереть здесь, то я умру, созерцая совершенные формы античного искусства.
Умереть, однако ж, Андрею Дмитриевичу тогда было не суждено. Он поправился и представил племянника в свете: молодому королю, его тогда всесильной любовнице девице де Мальи, кардиналу, герцогам Орлеанским, Бофору и принцам Конде и де Конти. Графини Шуазель не было уже на свете, как не было на свете давно и герцогини Муши. Маркиза де Куаньи была аббатисою какого-то монастыря на юге Франции. Граф Мориц не оставил еще своей мечты о Курляндии, хотя ему было уже за шестьдесят, и, покрытый ранами, полученными им сколько в сражениях, столько же и на дуэлях, представлял только одно воспоминание своего прежнего блеска. Он уехал в Саксонию с какими-то целями проведения своих видов. Ездил потом даже в Москву, был принят, но уехал ни с чем. Но это было уже после. Представителями общественной жизни были другие лица, другие деятели. Кардинал Флери, одряхлевший, нерешительный, опирался на молодого и способного статс-секретаря графа Шуазеля (впоследствии всемогущего министра и герцога), двоюродного брата покойной графини. С отцом его князь Андрей Дмитриевич был близко знаком; неоднократно оказывали они один другому различные взаимные одолжения и услуги, но теперь отец его был больной, расслабленный старик и жил в своем замке около Пуату. Впрочем, граф от имени своего отца заехал к Андрею Дмитриевичу еще во время его болезни и заверил в своем расположении и готовности быть полезным как ему, так его племяннику, с которым тут же познакомился и взял с него слово приезжать к нему обедать по вторникам. Большим влиянием и общим расположением пользовался тогда известный любезник и сердцеед маршал Франции и первый петиметр века, товарищ детских игр Людовика XV герцог Ришелье. Этого Ришелье князь Андрей Дмитриевич знал еще почти мальчиком, которого ему случалось не раз выручать из его маленьких бед, и потому теперь он встретил в нем полную готовность служить тем же в рассуждении его племянника. Еще был один старик, отнесшийся к Андрею Дмитриевичу вполне сочувственно. Это был один из бывших статс-секретарей, обиженный новым двором и даже высидевший сколько-то времени в Бастилии и поэтому бранивший все и всех на свете, кроме хорошего обеда. Это был граф де Шароле. Он предсказывал падение французской монархии, объясняя правительственные ошибки тем, что дают слишком сильное преобладание капиталу над родом.
– Эти откупщики доходов, эти интенданты армии и поставщики двора – чистые кровопийцы, – говорил он. – Они наживаются за счет народа и аристократии и потом над аристократами смеются, а народ жмут. Все эти банкиры из жидов, министры из челяди и генерал-провиантмейстеры из торгашей буквально разоряют Францию. Ну да что о том говорить!
Под влиянием такого рода бесед молодой князь Андрей Васильевич начал посещать коллегии, университет и слушать лекции ученых по истории, государственному праву, естественным наукам, математике и философии. Эти беседы не могли не оказывать на него громадного влияния, тем более что происходили между его дядей и людьми замечательно умными и высоко стоявшими в обществе.
Князь Кантемир Антиох Дмитриевич, бывший в то время нашим послом в Париже, человек весьма образованный, интеллектуально развитый и талантливый писатель, отнесся также весьма сочувственно к приезду Андрея Дмитриевича. Узнав, что он приехал больной и лежит в постели, князь, не ожидая его выздоровления, сам заехал его навестить. Он привез ему приглашение короля по выздоровлении явиться к нему в качестве кавалера ордена Святого Духа и дозволение представить племянника, которого, до исцеления дяди, взялся руководить в его занятиях. По выздоровлении своем Андрей Дмитриевич, разумеется, первым поехал к князю Кантемиру. Там собиралась не только французская знать, но, можно сказать, вся интеллигентная Франция. Там видел Андрей Васильевич знаменитого Монтескье, почтенного старца, «дух законов» которого впоследствии имел такое неотразимое влияние на Екатерину II; слушал последователей Боссюэ, между которыми особенным блеском выдавался тогда аббат Прево, и ознакомился с богословскими тонкостями проповедей Масильона. Но в то же время среди всего общества там уже вошла в плоть и кровь естественная философия глубокоталантливого женевца, как называли тогда знаменитого Жан-Жака Руссо, который, впрочем, сам был в то время в Голландии. Эта философия подготовила уже умы к тому общему отрицанию, поднятому энциклопедистами, которое в близком будущем отразилось столь печальными последствиями. Д’Аламбер, Пирон, Кребильон были постоянными посетителями в салоне русского посла. Здесь же, когда являлся в Париж из замка своей подруги и почитательницы госпожи дю Шастле, царил и Вольтер с его всеобъемлющим остроумием, едкой насмешкой над всем на свете и с тем талантом истинного художника, биющего своим чудным словом все, что представляло узость воззрений, противоречило гуманности, являлось рутиной предрассудков, как замкнутость, обскурантизм и отсталость. Андрей Васильевич, отдавая справедливость всему, что было истинно хорошего, не мог не увлекаться этим фейерверком остроумия, веселости, изящества, которое царствовало в этом обществе. В нем, незаметно для него самого, начал развиваться тот анализ, который не принимает на веру ничего, что признает доступным изучению. Вместе с способностью анализа понятий не могло не явиться в нем и уважение к личности, не могло не явиться сознание человеческого достоинства, которое не может не уважать человека уже потому, что он человек. А такой взгляд не мог не представляться явным противоречием тем остаткам феодализма, тем заскорузлым понятиям сословности, которые были тогда господствующими в общем строе жизни французской аристократии, составляя как бы неизменный кодекс ее условного быта. Андрею Васильевичу прежде всего начали казаться странными многие из обычаев французской аристократии, обычаи мелкие, ничтожные по существу, но бросающиеся в глаза именно своею сословностью и пустым чванством. Например, ему казалось очень дико, что секретарь или камердинер, посланный куда-нибудь барином в карете, ни в каком случае не смел сесть на его место, а должен был сидеть на передней скамье. Он начал находить несоответственным и стеснительным, что светлые кафтаны во Франции воспрещено носить не только купцам, но даже судьям, адвокатам и нотариусам или, например, что герцогиня не позволит себе стать рядом с торговкой даже на гулянье, даже в церкви. Он начал находить странным и то, что его дядя, князь Андрей Дмитриевич, никогда не говорит с прислугой и ни за что не дозволит себе приказать, например, своему выездному лакею подать одеться или камердинера поставить служить за столом.
Отвергая эти мелочные, ничтожные обычаи, исходящие из условности быта, он начинал опять незаметно для самого себя усваивать ту силу отрицания, которая уничтожает, не создавая, отменяет, не заменяя, которая учит разгрому, но не содействует сооружению. Например, по развитому чувству гуманности он не мог не стать явным противником крепостного права. Он ясно сознавал и оценивал всю нелепость понятий, которые признают возможным оправдывать принадлежность человека человеку. Он говорил вместе с другими: рабство – это проклятие, оно недостойно человечества, недостойно христианства, – оно должно быть отменено. Но каким образом? Что сделать для того, чтобы оно действительно могло быть отменено, и чем заменить порядок, который вместе с рабством исторически образовался в общественной жизни всех государств? Об этих вопросах Андрей Васильевич никогда не думал, поэтому, разумеется, не мог бы на них отвечать. Оттого и выходило, что, отрицая рабство и требуя его уничтожения, Андрей Васильевич весьма бы затруднился, если бы он тогда же вынужден был отпустить своего Федора и Гвозделома, к которым он привык и заменить которых в Париже ему было бы некем.
Нельзя, однако ж, не сказать, что Андрей Васильевич вовсе не думал останавливаться только на отрицании, особенно в применении мысли к социальным вопросам устройства человеческих обществ. Ему хотелось бы раскрыть, выяснить сущность такого отрицания и прийти к выводам положительного знания. Он понимал, что общество в том виде, в каком оно было тогда во Франции, оставаться не может; но в чем оно должно было измениться и каким путем прийти к этому изменению, он решительно не мог себе даже представить. Он инстинктивно чувствовал, что учению энциклопедистов чего-то недостает, видел, что это замечают сами энциклопедисты. Вольтер, этот, можно сказать, предводитель отрицания, бросился изучать Ньютона, как представителя науки точного знания. Ясно, что если бы не было такого рода точной науки, то не было бы и научного знания, не было бы вовсе науки. Но где же указания этой точной науки, этого положительного анализа в применении к вопросам действительности? В чем можно открыть истину взаимных отношений человечества в его общественном быту? Ответа на эти вопросы он не находил. Да и мог ли он найти их тогда, когда о вопросах социального характера никто еще и не думал, когда единственный гуманист того времени, женевец Жан-Жак Руссо, вызывал против себя общее преследование. Но ни изучение положительных знаний, ни занятия философией и рассуждения об экономическом устройстве общества не отвлекли Андрея Васильевича от светской жизни и общественных удовольствий парижского большого света. В его характере, образовавшемся самостоятельно в детстве, среди свободы костромских лесов, было то упорство, которое с постоянством истинной твердости преследует раз усвоенную мысль. Он не забывал цели, для которой приехал в Париж: сделать себя способным к поднятию рода князей Зацепиных в политическом отношении. Для этого, понятно, ему нельзя было оставлять общества. Изучение и усовершенствование своего внутреннего «я» должны были идти рука об руку с приобретением тех внешних условий изящества, которые усвоить можно только среди светской жизни. Дядя в этом отношении был ему пример и опора, и он более и более с ним сближался.
После представления королю они оба были засыпаны приглашениями. Андрей Дмитриевич являлся везде с удовольствием и апломбом. Он принимался везде как представитель прекрасного прошлого и своею любезностью, умом и готовностью быть приятным решительно привлекал к себе все общество. Князь Андрей Васильевич, молодой, ловкий, отважный и сдержанный, под его руководством также не мог не иметь блестящего успеха, что очень радовало дядю. Он жил в нем, проходил с ним воспоминания прошлого. В ответ на все приглашения и праздники, которые давались в честь его, Андрей Дмитриевич решил и сам дать праздник. Этот праздник, по примеру прошлых времен правления принца-регента, отличавшего свои ужины нередко затейливыми названиями, он назвал праздником парижских роз. Это был праздник столь роскошный и изящный, что о нем целую неделю говорил весь Париж. Праздник этот удостоил посетить сам христианнейший король Людовик XV и протанцевал менуэт и две кадрили. Царицей роз на празднике была избрана формально объявленная фаворитка короля девица де Мальи. Роскошь расположения, изящество убранства, богатство и радушие угощения, любезность хозяев и непринужденный тон, который они умели сообщить празднику при неисчерпаемом разнообразии удовольствий, произвели на всех чрезвычайно приятное впечатление. Все заметили, что Андрей Дмитриевич, живя в России, не потерял своего искусства принимать и угощать.
К сожалению, увеселения двора скоро на некоторое время должны были смолкнуть. Король был огорчен почти внезапной смертью де Мальи. Некоторое время он был неутешен, тем более что, молодая, прекрасная, она обладала всеми признаками совершенного здоровья. Смерть пришла к ней нежданно, среди полного торжества и вихря удовольствий, вызванных беспредельной к ней преданностью короля. Говорили, будто она была отравлена. Но как бы там ни было, общество потеряло в ней заступницу и покровительницу всего, что клонилось к добру, пользе, что приносило благодеяние. Она не вмешивалась в политику и не делала из любви короля ступени для своего возвышения. Она жила и умерла скромной женщиной, которая скорее тяготилась своим официальным положением, чем гордилась им, и сносила его только по действительно сердечному расположению своему к молодому и блестящему королю, который ее беззаветно любил.