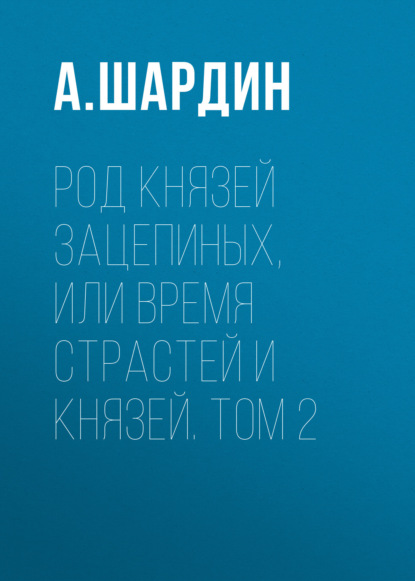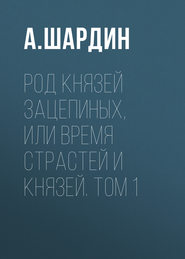По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как, дядюшка, разве у вас было дитя?
– Было, мой друг! Была Настя, милейшее в мире создание. Теперь ей должен быть девятый год, и она должна начать расцветать во всей своей прелести… Но – но не судил Бог мне ее видеть, может быть, именно потому, что моя молодость была пустоцвет.
– Разве вы не знаете, дядюшка, где она?
– Как же я могу знать? Помню, убитый горем, я едва успел закрыть глаза жене на второй год после свадьбы, и, не успел еще опомниться, вдруг прямо передо мной, будто вырос из-под земли, Андрей Иванович Ушаков. «Князь, – сказал он, – вас желает видеть государыня!» Я хотел было возразить, указывая на не остывший еще и не убранный труп, но он не дал мне сказать ни слова. «Она знает, князь! И простите, что позволю себе вам советовать ехать, не откладывая ни минуты. Вы знаете, – прибавил он, – бывают обстоятельства, когда человек должен быть, если можно так сказать, выше самого себя; ну и вы заставьте себя стать выше вашего горя! Еще советовал бы не возражать, а предоставить всему плыть по течению, как понесет жизнь. Впрочем, там увидите…» Что было делать? Я поехал. Императрица Анна Иоанновна вышла с слезами на глазах. «Не стало нашего ангела!» – сказала она. «Бог взял!» – отвечал я, будучи почти не в силах говорить. «Его святая воля, упокой Бог ее душу! – тихо проговорила она, взглянув на образ, и искренние слезы невольно показались в ее глазах. Через секунду, однако ж, она оправилась. – Но мы, живые, должны думать о живых! – продолжала государыня твердо. – Сестра мне писала обо всем, князь. Я знаю ее последнюю волю, и я на все согласна! Но я должна принять меры против могущих быть недоумений и несчастий в будущем! Где Настя?» – «Моя дочь, мое единственное утешение, ваше величество, – где же она может быть? Она у меня, при гробе… нет, даже еще и не при гробе…» – отвечал я, не помня, что говорю. Слезы у меня невольно капали из глаз. «Вы должны ее уступить мне, князь!» – «Кого? Настю, государыня, единственную радость мою, единственную надежду в жизни?..» Она не дала мне продолжать. «Это необходимо! Я хочу! Польза отечества того требует! – настойчиво проговорила государыня. – Я не могу допустить, чтобы в будущем интрига и зависть могли пользоваться ее именем для смут и беспокойства! Князь, но вы должны! Это моя непременная воля!»
Она проговорила это так, что я чувствовал, что возражать нельзя, поэтому невольно склонился… Когда я воротился к бренным останкам жены, у меня уже не было и дочери. Ушаков ее увез. После государыня сказала, что она на ее имя положила полтора миллиона и отправила на воспитание во Францию, в один из здешних женских монастырей. При жизни государыни, разумеется, мне ни ехать, ни узнавать было нельзя, а вот теперь приехал и, видишь, некстати вздумал умирать!
– Бог милостив, дядюшка, поправитесь! Мы вместе станем разыскивать и разыщем…
– Нет, друг, мне поправляться уже поздно! Я чувствую, что мне не встать! Отыщешь или не отыщешь мою Настю, но уже один ты! Вот, слушай, давно уже я хотел об этом говорить с тобой, да все как-то не приходилось. Ты помнишь наш договор, когда ты приехал? Я тебе сказал, что я тебя везде буду представлять как своего наследника, но чтобы ты на наследство не рассчитывал…
– Дядюшка, разве я вам дал повод думать…
– Думать тут, друг, нечего, а надобно делать! Я это тебе тогда сказал потому, во-первых, что не хотел себя связывать; а во-вторых, потому, что хотел посмотреть на тебя. Теперь же скажу, что я именно тебя назначил своим единственным наследником всего движимого и недвижимого. Бумаги об этом я сделал еще в Петербурге, и ты обо всем найдешь подробные указания в моем конторском бюро. Позовешь, впрочем, управляющего Чернягина, он тебе все разъяснит. Ты по этим бумагам получишь мои дома в Петербурге и Москве со всем, что в них есть. Инвентари в конторе ведутся в порядке. Получишь Парашино, имение, которое я отделывал с любовью и для украшения которого я ничего не жалел; получишь мои костромские, владимирские, тамбовские и саратовские имения, более пятнадцати тысяч душ; кроме того, там, в конторе, есть еще липманских квитанций на внесенный в гамбургский банк капитал тысяч триста с чем-то. Это все твое, друг… Постой, постой, не задуши! – сказал Андрей Дмитриевич, отводя рукой племянника, когда тот хотел было броситься его благодарить. – Это я делаю, во-первых, чтобы поддержать род князей Зацепиных; а во-вторых, потому, что я тебя искренно полюбил и тебе верю! Ты мое имущество не промотаешь и что обещаешь, то исполнишь. А я хочу возложить на тебя именно ту обязанность, которую не мог исполнить сам.
– Дядюшка, прикажите.
– Ничего не приказываю, а прошу, и дай мне слово, что мою просьбу исполнишь. После моей смерти, схоронив меня в Зацепинском монастыре, ты сейчас же приезжай сюда, разыщи мою дочь Настю, твою двоюродную сестру, передай ей формально документы на получение в день совершеннолетия из амстердамского банка миллиона рублей и скажи, что от меня ей один завет. И просьба – не мешаться в политику!
– В политику, дядюшка? Что вы хотите этим сказать?
– А то, мой друг, что у нас на святой Руси, благодаря удаче таких прощелыг, каковы были Бирон и Левенвольд, развилось в такой степени проходимство, что, разумеется, ее в покое не оставят. Для того-то, без сомнения, государыня и хлопотала, чтобы ее удалить. Об одном и я прошу: не сдаваться на советы этого проходимства. И не слушать соблазнительных предложений, которые, нет сомнения, будут на нее сыпаться!
– А у вас нет никаких указаний, дядюшка, которыми можно было бы руководствоваться при поисках?
– Мало… но нельзя сказать, чтобы не было никаких. Первое, что мне известно, это то, что, где она воспитывается, знал Куракин-отец. Через него государыня и дело все вела. Сыну, однако же, он не передал. Не знаю, известно ли Бирону, но сказали мне, что знает в Париже еще какая-то Вижье. Но кто такая эта Вижье и где она, я понятия не имею! Но вот тебе данные: совпадение времени – восемь лет назад; возраст – девятый год, отдана на воспитание агентом русского правительства; положенный на ее имя в полтора миллиона капитал. Совпадение этих условий не может быть случайным. Я могу еще указать на точные приметы: у нее над левой бровью маленькое родимое пятно, другое родимое пятнышко есть на правом плечике. Потом, смешная вещь: на второй или третьей неделе от рождения у Насти сделался первый лихорадочный припадок. Кормилка заявила, что у ребенка родимчик, и как ты полагаешь, что она сделала? – сильный и глубокий порез правой икры. Уверяет, что у них всегда так делают. Порез залечили, но на икре остался широкий белый шрам, который, думаю, и теперь заметен. Наконец, я не полагаю, чтобы ее заставили переменить религию, а тогда сохранили и имя Анастасия.
Андрей Васильевич полюбопытствовал ознакомиться с характером бумаг, которые он должен был передать.
Андрей Дмитриевич ответил:
– Возьми и прочитай. Разумеется, если бы, когда вносил эти деньги, я знал тебя, то условия взноса были бы иные. Но тогда, не имея возможности никому довериться, я внес их с тем, чтобы выдать такой-то, с описанием примет и обстоятельств воспитания, предоставляя банку право удостовериться в действительности личности. Если же в течение пятидесяти лет никто не явится, то внесенный капитал должен быть употреблен на благотворительные учреждения в Париже и Москве, носящие имя Анастасии.
– Доберусь, дядюшка, будьте покойны, и если только жива – отыщу, и ваше приказание будет выполнено в точности! Но, дядюшка, за что же вы лишаете ее того, что ей следует, назначая меня вашим наследником?
– Нет, мой друг, ей этого не следует! Мне предоставлено было право воспользоваться имуществом моей жены с тем, чтобы ни в каком случае я не передавал его своей дочери, о которой бы даже забыл. Взамен этого наследства, я тебе говорил, государыня положила на ее имя капитал. Прибавляя к этому капиталу еще миллион, я полагаю ее достаточно обеспеченной. Между тем ведь и я князь Зацепин и не могу не желать, чтобы имя нашего рода, князей Зацепиных, цвело и красовалось из века в век, особливо видя, что ты будешь его достойный представитель и, вероятно, будешь стараться, чтобы и дети твои были достойны тебя! Род, мой друг, сам по себе в настоящее время потерял всякое значение. Осталось это значение только в королевских семействах, и то только в рассуждении наследника престола. Теперь важен капитал, имущество, собственность. Если у нас сохранились еще кое-какие привилегии, то не в смысле родового права, а только как кастовые отличия, сословные преимущества. Действительная сила теперь в богатстве! Ну, ты и будешь богат, стало быть, будешь и силен… Однако ж я устал. Слава богу, что успел все это тебе высказать! Теперь на душе легче! Знаю, что, когда меня не будет, ты сделаешь все, что сделал бы я… – И Андрей Дмитриевич приказал унести себя в спальню.
На другой день Андрей Дмитриевич, расположившись на террасе, вновь с особым любопытством следил за движением по реке. День был праздничный, и население Шарантона было особенно оживлено. Куда-то направлялся крестный ход, с двумя патерами во главе. Разряженные горожанки и поселянки, с цветами в руках, богомольно следовали за процессией и пели воскресные гимны.
– Право, Андрей, очарование полное, – сказал Андрей Дмитриевич. – Ну чем не остров Кипр с архипелагом кругом и чем не празднество моей богини Киприды? Вот она, увенчанная цветами, стоит и улыбкой своей счастливит всякого, в ком горит таинственный огонь страсти. Вот, смотри, собирается флотилия челнов и лодок, это кипряне. Они едут на остров любви поклониться божеству. Они везут ему в жертву живую красоту. Сам экзарх ведет обреченную богине, одетую в пурпур и злато невесту. Она останется на ночь в храме у подножия и примет то, чем осенит ее маленький спящий божок. Не есть ли это, впрочем, изящный и роскошный первообраз того, что в грубой и жесткой форме проводит в русскую жизнь Ермил Карпыч, с своим раденьем, напоминающим грациозные хороводы античных дев, с их прославлением Вакха и Киприды, но напоминающим так, как нацарапанная карикатура может напоминать художественное произведение?
Но именно поэтому и нельзя сравнивать одно с другим. Одно было изящно, светло, прекрасно; другое – грубо, жестко, нелепо. Одно ласкало все чувства, все понятия, давало наслаждение изящным; другое – ничего более, как только грубая чувственность. Богине наслаждения приносилась в жертву красота, как вера в ее могущество, как служение ее культу. А тут кому, какая жертва? Там искренность и вера, а здесь недостойный обман.
Они приносили в жертву богине прекраснейшую, за то богиня защищала их в тяжкие минуты и защитила в годину роковой войны. Кипр победил несметную силу Ксеркса, идущую залить и потопить Элладу, а с нею и самый Кипр; победил не силою мышц своих воинов, а могуществом, которому нет на свете равного; могуществом любви и красоты.
Ты не читал Геродота? Жаль! Впрочем, читая его, и я не понял. Мне пояснил эту сцену ориенталист Гаммер, который пользовался санскритскими и персидскими источниками. Там говорится о том, как кипрянки победили всю армию Ксеркса могуществом своей красоты.
На следующий день слабость усилилась. Андрей Дмитриевич не мог уже читать и с трудом говорил. Но он все лежал на террасе, любовался Кипридою и раскинувшимся перед ним пейзажем.
– Мне бы хотелось, чтобы вон то стадо бурых коров с своими пастушками и пастухами паслось вот тут, внизу! – сказал он, указывая на расстилавшуюся перед ним долину. – Узнай, Андрей… устрой, если возможно.
Через несколько часов стадо паслось у его ног. Пастушки в праздничных костюмах кормили сочной травой полных и злачных коров, переливы пастушьих рожков звучали в воздухе.
– Взгляни, Андрей, как красив этот пастух, в своей швейцарской шляпе, с густыми седыми волосами. Он напоминает мне что-то библейское, что-то говорящее о праотцах. Я таким воображаю Исаака, встречающего Ревекку.
Среди этой роскошной природы, любуясь ее красотою и вдыхая свежий воздух Средней Франции, он видимо угасал. Но он все слушал и смотрел, все хотел обнять, всем насладиться. Услыша вдали песню, он вспомнил, что перед выездом из Парижа он слышал, что там ждут из Италии знаменитого певца Сариотти, и выразил желание его послушать. Андрей Васильевич ту же секунду распорядился пригласить певца.
– Сегодня я чувствую себя очень нехорошо! – сказал вдруг Андрей Дмитриевич. – Послушай, друг, я дал слово княжне Кантемир непременно вызвать попов. Если я скажу «пора закладывать», ты ту же минуту пошли за ними. Я надеюсь сказать эти заветные слова уже тогда, когда по приезде они меня не застанут. Это будет похоже на то, как в моих глазах Петр Второй, этот царственный мальчик, сумевший сослать в Сибирь своего воспитателя, на моих глазах сказал: «Подавать сани» – и погас. Тем лучше! По крайней мере, они не будут меня мучить. Да не оставляй меня здесь, увези хоронить в Зацепине, – опять повторил он. – Пускай я там буду лежать со своими!
К вечеру приехал Сариотти.
– Спой мне, мой дорогой, что-нибудь… вот оттуда, поближе к воде, подле подножья богини красоты и наслаждения… Потешь умирающего!
И нежные звуки итальянского тенора разлились в воздухе.
Андрей Дмитриевич заслушался.
– Знаешь, мой дорогой, скажи: много ли ты надеешься заработать своим голосом эти дни в Париже? – спросил его Андрей Дмитриевич.
– Надеюсь, ваше сиятельство, – хоть надежды бывают иногда обманчивы – никак не менее тысячи франков в день.
– Я гарантирую тебе две тысячи франков в день на три дня. Более трех дней я не проживу. И послушай, перед тем как мне умереть, спой мне, знаешь, молитву Страделлы.
Прослушав арию, Андрей Дмитриевич сказал племяннику:
– Знаешь, Андрей, приготовившись материально и нравственно к переходу в другой мир, я теперь даже не хотел бы выздоравливать! Вели итальянцу спеть что-нибудь из «Чимарозы». Мне что-то очень душно; пусть нежные звуки языка Tacco и Петрарки развеют мою грусть… А повезешь меня домой, не забудь – поклонись и Москве белокаменной, ее златоглавым соборам, и Зацепинскому Спасу в нашем родовом селе, которого видеть мне так-таки и не удалось, хоть я много раз желал… Видно, недаром, когда меня провожали, то голосили как по покойнику, видно, предчувствовали, что я покойником только и ворочусь! Правда, не богомолен я был перед нашими родовыми пенатами, но душа во мне всегда была русская…
Сариотти запел. Андрей Дмитриевич слушал. Потом он вдруг обратился к племяннику.
– Пора закладывать, – сказал он. – Посылай за попами! – Он опустился на подушку и тяжело вздохнул.
– Страд… Страд… – проговорил он судорожным языком.
Племянник понял и шепнул Сариотти. Тот начал молитву Страделлы. Андрей Дмитриевич вытянулся и с трудом перекрестился, потом повернул голову на другой бок и закрыл глаза. Еще в его лице можно было заметить конвульсивное движение. Он вздохнул еще раз, потом раскрыл рот и будто хотел что-то сказать, но не сказал ни слова. Сариотти кончил, но было незаметно, слышал ли Андрей Дмитриевич конец. Он угадал: попы приехали в то время, когда его уже не было на свете.
В селе Зацепине между тем происходила другая борьба между жизнью и смертью. Вскоре после смерти Андрея Дмитриевича захворал смертельно старший представитель рода князей Зацепиных отец Андрея Васильевича, князь Василий Дмитриевич. И, по странному совпадению обстоятельств, болезнь его была та же, что и его младшего брата в Париже. Он простудился, обходя какой-то из своих обширных лесов для разметки надела крестьянам.
– Рубят зря, где попало, – говорил он, – и только портят лес. Лучше всякого наделить и заставить беречь, – решил он.
Обозревая лес в этих мыслях, он попал в болото, насилу выкарабкался, прозяб и приехал домой больной. Сперва на болезнь свою он не обращал никакого внимания, но потом, когда через день его начала бить лихорадка, так что он не мог свести зуб с зубом, и стало очень колоть бок, он дозволил своей жене, княгине Аграфене Павловне, натереть себя муравьиным спиртом, настоянным на зверобое, и напоить мятой и шалфеем. О докторах ему никто не смел и заикнуться. Аграфена Павловна тайком привела было какого-то знахаря и показала ему князя сонным. Тот велел принести воды, пошептал что-то на уголек, этим угольком сделал над горшком воды несколько раз крестное знамение, опустил уголек в воду и велел воду эту держать в изголовье. Но когда Василий Дмитриевич встал и увидел в головах своей постели горшок с водой, то велел вылить воду и разбить горшок. Княгиня Аграфена Павловна, услышав это приказание, и руки опустила. Напрасно умоляла она его дозволить хоть еще раз намазать себя, хоть мяты и шалфею еще разок настоять, или вон матушка попадья липовый цвет очень хвалит, – Василий Дмитриевич отказался решительно. А как болезнь не проходила, то он стал готовиться к смерти. Он велел написать письма ко всем родным и знакомым, что желает по христианскому обычаю проститься с ними; велел написать ко всем, с кем только имел размолвку, что просит у них христианского прощения.
– Жаль, Андрюхи нет! – сказал он. – Теперь, поди, в Париже с братом беспутничают. Боюсь, на добро ли я послал его? Ну, да во всем воля Божия!
С ним делались припадки удушья, но он переносил эти припадки со стоическим терпением. Никто не слыхал от него ни стона, ни жалобы, и он настаивал только на одном: чтобы ни в чем не изменялся обычный порядок его жизни. Только вместо утренней молитвы, которую обыкновенно Василий Дмитриевич прочитывал сам, приходил ежедневно священник и служил молебен перед образом Василия Блаженного, память которого Василий Дмитриевич праздновал своим тезоименитством.
Ежедневно священник окроплял больного святой водой и давал целовать крест. Когда же, видя тяжкие страдания Василия Дмитриевича, он сказал, что не следует ли ему приготовиться по-христиански к последнему концу, то Василий Дмитриевич рассердился и ответил: