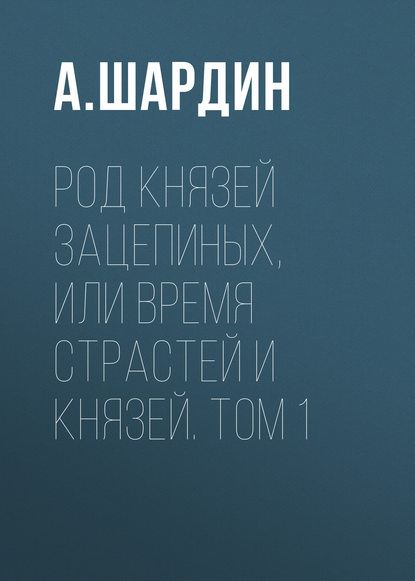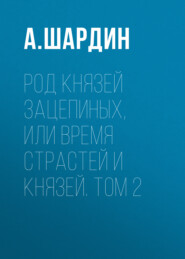По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Командир фрегата вашего королевского величества «Венус», капитан де Виньи, поручил мне поздравить ваше величество с победой и повергнуть к стопам вашим, государь, флаг взятого им голландского фрегата «Артемиза». Реляцию о бывшем деле имею счастие представить.
С этими словами Андрей Дмитриевич протянул было королю донесение и небольшую коробочку, в которой помещался искусно сложенный голландский флаг.
Но король, смотря ему прямо в глаза, не взял ни конверта, ни коробочки и только проговорил:
– А что, скажите, ведь «Артемиза» – это фрегат, кажется, больше и сильнее, чем «Венус»?
– Точно так, ваше величество! «Венус» сорокачетырехпушечный фрегат, а «Артемиза» имела пятьдесят два орудия и, кроме того, была вооружена на юте фалконетами, – отвечал Андрей Дмитриевич, подавая королю свое донесение правой рукой, тогда как в левой держал золотой подносик.
Дама, сидевшая у окна, видя эту сцену и понимая, что она происходит от незнания молодым человеком французского придворного этикета, встала, взяла поднос и донесение из рук молодого человека, положила донесение на поднос и подала поднести ему, а коробочку раскрыла, вынула оттуда флаг и раскинула его перед ногами Людовика XIV.
Король взял тогда донесение и стал читать. Поднос Андрей Дмитриевич поставил на стол.
– Посмотри, ma chere, – сказал он даме. – Этот молодой человек спас наш фрегат, выкинув за борт горевшую гранату, упавшую между картузными ящиками.
Дама подняла на него свои темно-синие, выразительные глаза и посмотрела пристально. Тогда он заметил ту особенность, ту необыкновенную мягкость и силу, которыми отличалось выражение взгляда госпожи Ментенон.
– Похвально, молодой человек, очень похвально! Я напишу вашему государю, что он может рассчитывать видеть в вас достойного подданного. А пока примите выражение моей благодарности… (дама в это время подала Людовику что-то на другой стороне столика)… выражение моей благодарности, которая на первый раз пусть обозначится вот этим вещественным украшением, означающим причисление ваше к ордену Святого Людовика, служащего всегда поощрением храбрых. Подойдите ближе ко мне, молодой человек, я вас украшу этим знаком, который много лет я носил на своей груди.
Андрей Дмитриевич подошел к королю как в тумане. Дама положила руку на его плечо и нажала так сильно, и он понял, что требуют, чтобы он склонился на колени.
Андрей Дмитриевич выполнил требование, и Людовик XIV проговорил торжественно:
– Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, посвящаю тебя в сонм избранных, да будешь защитою правды и невинности!
С этими словами он ударил его по плечу три раза перчаткой, наклонился и надел в петлицу его кафтана белый эмалевый, с голубыми отводами крест.
– Ну, вы устали сегодня; а завтра я вас приглашаю к себе обедать. Вы расскажете мне подробности сражения, которые не могли вместиться в донесении.
Этими словами король его отпустил.
Но не успел он выйти за дверь, как за ним вышла дама, в присутствии короля не сказавшая ни слова.
– Король поручил просить вас, – сказала она, – принять этот поднос в память счастливого донесения, привезенного вами, и вашей храбрости также.
Андрей Дмитриевич поклонился.
– А вот и моя карточка, если вы вздумаете сделать мне честь навестить меня.
Андрей Дмитриевич склонился невольно, взглянув на ее имя. Это имя было тогда в Париже у всех на языке. Говорили, что Людовик XIV на ней женился.
Выйдя из дворца и заехав на минуту в отель, чтобы переодеться, он отправился к Куаньи. Его друг и сотоварищ, бывший с ним на фрегате «Венус» и также отличившийся в сражении, дал ему письма к отцу и мачехе. Маркиз страдал подагрическим припадком и не мог его принять; его приняла только маркиза; разумеется, Андрей Дмитриевич не находил себя от того в потере. Веселый, счастливый, явился он к ней с письмами друга и был принят с самой очаровательной любезностью молоденькой французской аристократки. Она протянула ему свою маленькую ручку, которую он догадался поцеловать, получив в свою очередь обычный поцелуй в щеку. Разговор, разумеется, начался с описания сражения, с действий его друга, молодого Куаньи, потом перешел на неистощимый сюжет в семействах французского дворянства, на короля, на его милостивый прием, на данную Андрею Дмитриевичу награду и сделанное ему приглашение. Но среди этой светской болтовни глаза молоденькой маркизы останавливались на нем с таким блеском, что неопытный юноша невольно опускал перед ними свои очи долу. Вскоре приехала m-me de Mony, потом m-me д’Егриньон, а через некоторое время m-me de Жервез и графиня Шуазель, кузина его друга. Все эти дамы наперерыв старались очаровать и смутить юношу, сильного еще своею скромностью, и все разобрали дни, которые Андрей Дмитриевич должен был проводить у них. Несмотря на то что все дамы, с которыми Андрей Дмитриевич сошелся у маркизы, были молоды, любезны и хороши, преимущественное впечатление оставили в нем, может быть по воспоминанию о своих друзьях, хозяйка дома – маркиза и графиня де Шуазель. От их взгляда наш юноша просто таял и млел, как настоящий юноша. Что-нибудь более смелое ему и в голову не приходило. Смотря на них, даже думать о чем-нибудь таком ему казалось святотатством. Под таким-то руководством и покровительством вступил он в большой свет парижской аристократии. Возвратясь от Куаньи, он нашел в отеле секретаря посольства, молодого Голицына, который пригласил его к послу.
Князь Куракин тоже расспрашивал его о сражении, об аудиенции у Людовика, о награде, хвалил его, но сказал, что на принятие награды от иностранного государя следует испросить соизволение своего императора.
– Я не считаю себя вправе воспретить вам носить данный орден здесь, – это могло бы быть принято королем неблагоприятно; но непременно нужно испросить разрешения нашего государя. Я это сделаю, удостоверяю, что вы без награды не останетесь!
Андрей Дмитриевич полагал, что эта награда ограничится, как бывало всегда, когда ему писал Девьер, – десятью или пятнадцатью луидорами, но и за них он был бы очень благодарен. От отца Андрей Дмитриевич не получал никакого известия, поэтому крайне нуждался в деньгах. У приятелей своих, Куаньи и Шуазеля, он перебрал уже до тысячи экю и не знал, как и чем он может их заплатить. Но теперь приятелей этих в Париже не было. Ему предоставили воспользоваться отпуском, пока чинят его фрегат; а жить было не на что. Его поддержал несколько поднос, вынесенный от короля г-жою Ментенон, за который ему дали восемьсот экю; но что значат восемьсот экю в парижской жизни? Андрей Дмитриевич не знал, что делать, и думал было уже отправиться обратно на фрегат, как в это время наткнулся на похождение, столь обыкновенное тогда в Париже. В него влюбилась одна из старых дам, бывшая еще придворной покойной Анны Австрийской, – герцогиня де Муши. Она без всякой церемонии, прося его, чтобы он проводил ее с какого-то вечера, увезла его к себе в свой загородный дом и там держала в плену целых трое суток. Зато в эти три дня она осыпала его и деньгами, и бриллиантами, и всем, чем только могла быть богата любовь старой женщины. Притом, говоря о разных похождениях светских дам, она научила его поматериальнее смотреть на свои отношения к женщинам и не глядеть на них, как на недоступные божества. С легкой руки этой старухи Андрей Дмитриевич пошел в ход, получив в свете едва ли не официальное звание любовника молоденькой маркизы Куаньи, у которой m-me де Шуазель дала себе слово его отбить.
Между тем пришли письма из России, и посол, который везде встречался с молодым князем Зацепиным, счел нужным сам заехать к нему. Он привез письмо Петра.
«Благодарю тебя, Зацепин, что ты показал себя молодцом. Надеюсь, что и впредь будешь держать себя с таким же достоинством, а паче приготовишься с отличием служить своему отечеству. Награды, данные тебе братом Людовиком, утверждаю, а от себя назначаю, не в счет жалованья, на твои депансы, 200 луидоров французской чеканки, которые получишь от посла.
Благорасположенный к тебе Петр».
Одна добрая весть другую несет. В то же время Андрей Дмитриевич получил письмо и от своего отца.
«Любезный сын мой, князь Андрей! – писал отец. – Посылаю я тебе прежде всего свое отцовское благословение, вовеки нерушимое. Не писал я к тебе потому, что не знал, как и писать; только вот сегодня, в совете, Меншиков мне сказал, что не токмо писать, но и посылать тебе все можно, и, спасибо, научил, как сделать, чтобы не пропало. Потому пишу и прошу тебя прежде всего, любезный сын мой, помни нашу православную веру и ни ради корысти, ни ради чести, ни даже спасения живота своего от нее не отступай. Еще скажу: берегись ты и не принимай всех этих новшеств, что из человека обезьяну делают, а помни одно, что ты князь Зацепин, потомок светлого дома Рюрика и святого Владимира, и что тебе не в скоморохи идти. Я здесь один, мать в Зацепине, а брата под турок угнали. Вот видишь, какое мы иго несем! Посылаю тебе, чтобы тебе жить было чем и не нуждаться, а жить, как следует настоящему Зацепину, три полтысячи наших рублевиков. Еще столько же ты можешь получить от нашего жида Постельса; тут на него есть записка от здешнего голландца Бранта. Шереметев мне говорил, что лучше всего так пересылать; но, признаться, я побоялся. В жидов-то я не больно верю. А если ты получишь исправно, то уведомь; я с Брантом сговорился, чтобы каждые полгода тебе по стольку же доставлять. Деньги береги, напрасно не мотай! Помни, что копейка рубль бережет; но и не скупись, не жадничай, будь как есть Зацепин. Коли будет мало, напиши, я и еще пришлю; только веди себя так, чтобы ни мне, ни брату за тебя краснеть не пришлось, да и нас здесь не забывай. А там да будет над тобой милость Божия, которая доселе нас не оставляла и пребудет над тобою ныне, присно и во веки веков.
Твой отец князь Дмитрий Зацепин».
Таким образом начал Андрей Дмитриевич свое поприще в парижском свете. Через год он сдал морской офицерский экзамен и с разрешения Петра поступил на службу лейтенантом в французский флот. Вскоре он, благодаря покровительству госпожи Ментенон, был назначен морским адъютантом при особе короля.
К сожалению, ему недолго пришлось занимать эту должность. Людовик XIV, как ни молодился он до последней минуты, вскоре умер, и русскому князю досталась честь нести за его гробом вместе с ассистентами его королевский штандарт.
После смерти короля у князя не осталось другой обязанности, кроме жизни в свете, в обществе. Он сумел воспользоваться своим положением вполне. Блеск двора, к которому он имел полное право причислять себя и от которого пользовался различными аксиденциями, не отнимал у него времени от удовольствий, любви и волокитства. Его известная смелость и храбрость заставляли всякого беречься вступать с ним в соперничество; а его любезность, истинно французская, и притом французская времен принца-регента, давала ему право успевать даже там, где это нельзя было и ожидать. Маркиза Куаньи должна была в это время с своим полуразвалиной мужем ехать в Пьерофон на юг Франции. Но у князя Андрея Дмитриевича была наготове другая покровительница, графиня де Шуазель.
Эта рыжеватенькая, живая и очаровательная француженка дала себе слово закружить русского дикаря так, чтобы он не только себя, но и целый мир забыл. А чего не сделает хорошенькая француженка, если захочет? Она, и точно, перевернула все понятия Андрея Дмитриевича, сделала его истинным французом во всем, не тронув только религии; но надо полагать, что молоденькая герцогиня о религии не думала. Она торжествовала, видя, с какою завистью смотрели все на ее красавца любовника. Ничего не требуя и ничем не стесняя его, правда и сама не отличаясь особою верностью, она украшала жизнь его всем, что только есть приятного в жизни, и хлопотала доставить ему все, что он мог только пожелать.
У нее встретился он и с тогдашней военной знаменитостью Морицем Саксонским, который был назначен командующим войсками в Нидерландах. Для разнообразия Андрей Дмитриевич принял на себя обязанность состоять при его корпусе в качестве моряка.
Несколько стычек, которыми он командовал, несколько советов, которые он успел предложить, разумеется, не давали ему права на особую благодарность французской армии; но, служив при корпусе, он сошелся очень близко с главнокомандующим, который с ним, как с русским, охотно говорил о своей заветной мечте – герцогстве Курляндском и о вдовствующей герцогине, бывшей русской великой княжне. Близость их обозначилась взаимными одолжениями. Благодаря представлениям маршала-графа Андрей Дмитриевич получил золотую саблю; а благодаря предстательству Андрея Дмитриевича роскошному и блестящему графу-маршалу, вечно запутывавшемуся в политических интригах и долгах, открыла обширный кредит старая и страстная герцогиня Муши.
Но служить в армии Андрею Дмитриевичу удалось не долго. Парижские покровительницы живо вытребовали его к себе. Да и сам он подумал: стоит ли для каких бы то ни было отличий зябнуть по ночам в палатках, не иметь иногда не только шампанского, но даже кислого пикардийского вина, недоспать и недоесть, когда можно беззаботно наслаждаться жизнью в Париже.
Маркиза Куаньи возвратилась с вод, графиня Шуазель была прекраснее и потому могущественнее, чем когда-либо, и Андрей Дмитриевич явился опять делить свое время между двумя прекраснейшими женщинами Франции, будучи другом их мужей, их родных и друзей, и одерживая легкие победы между другими красавицами самого блестящего и развратного общества, окружившего принца-регента по кончине Людовика XIV.
Но тут вдруг случился скандал, перевернувший всю прелесть этого счастливого для князя Андрея Дмитриевича времени. Князь Голицын, один из состоявших при посольстве молодых секретарей, с сестрою своею, бывшею замужем за Долгоруким, вдруг вздумали перейти из православия в католицизм. Это взволновало всех, и Петр, опасаясь, чтобы пример этот не нашел подражателей, разом и в самой строгой форме потребовал, чтобы все находившиеся за границей русские возвратились в отечество. Нужно было повиноваться, и князь Андрей Дмитриевич явился в Россию.
Он застал Петра уже на смертном одре; тем не менее он увидел его живым, получил его благодарность и одобрение и был представлен им самим императрице. Петр приказал ему явиться к генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину, как прямому его начальнику, и к своему любимцу – князю Меншикову. Граф был человек еще не старый, но уже обрюзглый и обленившийся. Gourmand по природе, с скопческим выражением лица и неопределенным, немножко растерянным взглядом своих голубых, добрых глаз, он всего более заинтересовался рассказом князя об откармливании гусей в Страсбурге и пулярд в Нормандии, да еще о приготовлении персиков с французскою водкою, и был очень доволен, получив полдюжины банок этих персиков в подарок. Он пригласил его к себе обедать по четвергам и в первый четверг старался угостить так, чтобы заставить Андрея Дмитриевича забыть, что он не в Париже. Меншиков принял его серьезнее. Он очень много расспрашивал его о Морице и, главное, интересовался его любовницами; говорил, хотя и вскользь, о Курляндии и о надеждах Морица надеть герцогскую корону; вообще, тоже был весьма приветлив. Меншиков рассчитал, что, несмотря на древность рода, по недавнем возвращении своему из-за границы и той изолированности, которой держались Зацепины, они не могут иметь прочных связей со старинными родами московских бояр, и решил этим воспользоваться. Поэтому князь был принят на службу прямо капитан-командором, и под его команду был назначен строившийся в Адмиралтействе стопушечный корабль. В день смерти императора, при избрании императрицы Екатерины I, Меншиков приказал ему со всеми офицерами его команды явиться во дворец. Само собой разумеется, что такая, как бы назвали нынче, демонстрация не могла не иметь хотя косвенного влияния на самое избрание. Зато Андрей Дмитриевич при воцарении Екатерины I получил патент на контрадмиральский флаг и был жалован деревнями. Начало блестящее для только что поступившего на службу, тем более что в то же время он был назначен тайным советником и действительным камергером при особе ее величества, а ему не было еще и тридцати лет.
Но он не увлекся этими милостями, хотя и начали было говорить, что Меншиков усиленно старается выдвинуть его вперед, чтобы ослабить влияние на императрицу Рейнгольда Левенвольда. Правда, что императрица хотя и сохранила еще остатки своей необыкновенной красоты, но, разумеется, ни по своей свежести, ни по способности увлекать и очаровывать не могла уже становиться в уровень ни с молоденькой и игривой де Шуазель, ни с поэтически-прекрасною маркизою де Куаньи; но все-таки при той обстановке, в которой находилась императрица, она могла останавливать на себе горячие симпатии, особенно такого человека, который целомудрие не признавал добродетелью. Но он хотел, прежде чем на что-либо решиться, поосмотреться, пообдумать и не подвергать себя опасности из-за интересов, для него совершенно чуждых. А главное, он хотел продолжать в Петербурге свою парижскую жизнь, которая, как он находил, всего более соответствовала его вкусу и наклонностям.
В это время преобразовательные требования Петра уже обозначились в петербургской жизни. В Петербурге начало уже образовываться новое общество. Наплыв иностранцев, из которых многие уже обрусели и были женаты на русских, более и более усиливал это общество. Положим, что это была еще только карикатура парижского света, тем не менее в нем уже сияло несколько красавиц неподдельным блеском. В этом обществе ловкий, любезный, образованный и красивый князь Андрей Дмитриевич буквально царил. Но даже и в этом своем абсолютном светском царствовании он умел держать себя весьма осторожно и сдержанно. Относясь в душе своей с полным презрением ко всем этим выскочкам, ко всем этим проходимцам, стало быть, ставя совершенно на одну доску Меншикова и Ягужинского, Остермана с его Левенвольдами и Головкина, Девьера и Макарова, он не хотел сближаться и с их противниками: Черкасским, Апраксиным, Голицыными, Долгорукими. Но, не сближаясь ни с кем, он был настолько со всеми вежлив, настолько предупредителен, что все партии признавали его своим, отводили ему место в своем кружке и высказывали свои предположения настолько, насколько князь Андрей Дмитриевич желал, чтобы они высказывались. Он выдумал для себя при дворе особую должность и этой должностью поддерживал свое значение. Эта должность была завтраки, или утренники, как он называл их. Эти завтраки – бледное подражание ужинам герцога Орлеанского, но подражание умно и с толком примененное – очень понравились невзыскательному тогдашнему обществу. Они были новостью, и новостью для всех приятной, тем более что в искусстве угощать и распорядиться угощением князь Андрей Дмитриевич и в Париже немного встречал себе соперников. Притом он подметил склонность императрицы, заимствованную, может быть, от своего великого супруга, довольно благосклонно снисходить на верноподданнические тосты, и у него всегда находился или какой-нибудь необыкновенный ликер, доставленный ему приятелем, приором бенедиктинского монастыря Монтандром, или столетнее венгерское, присланное от двора короля Августа, или дивный рейнвейн из погреба самого римского императора, от которых граф Федор Матвеевич, его прямой начальник, был просто в восторге.
Таким способом князь Андрей Дмитриевич удержался на своей высоте при всех переворотах, получая при каждом из них знаки особой милости. Когда вступила на престол Анна Иоанновна, то, независимо от того, что Бирон с удовольствием желал видеть его у себя в гостиной, как действительно русского князя, настоящего барина среди этих немецких прощелыг, и притом барина, которoгo ловкость, разум и уменье держать себя могли служить им, воспитанным в казармах и конюшнях, образцом хорошего тона, существовавшего при, несомненно, самом утонченном дворе Людовика XIV и его преемника, – независимо от того князь Андрей Дмитриевич воспользовался еще воспоминаниями самой императрицы о своем бывшем женихе и своими отношениями к Морицу Саксонскому, когда он состоял при нем. Женщина всегда женщина, и как ни беззаветно расположена была императрица к любезно-верному Бирону, которого «полезная и усердная служба не инако как к совершенной, всемилостивейшей благоугодности нашей касаться могла», но все же ей было отрадно слышать, что был человек, на которого будто бы, как заверял ее Андрей Дмитриевич, она произвела неотразимое впечатление и который столько лет хранил образ ее в своем сердце.
Вот этот-то господин, названный нами по всей справедливости русским петиметром, принесший в Петербург к молодым дворам преемников Петра весь лоск, все изящество, всю внешнюю сдержанность и искусство дворов Людовика XIV и принца-регента, их взгляды, понятия, образ мыслей, даже выражения, – этот господин и принял на себя труд отгранить, отшлифовать своего племянника во всем, что ему казалось несоответственным и неизящным. Отсюда понятно и то противоречие их взглядов и понятий, обозначившееся при их первом свидании. Тот и другой в мыслях своих, нет сомнения, были аристократы, аристократы до мозга костей. Но один был аристократ русский, с своей идеей служения народу и родовым началам; а другой – аристократ француз, думающий, что весь вопрос в том, чтобы только родиться князем Зацепиным, а далее естественно уже необходимо сиять своим блеском и освещать трудящийся в поте лица темный люд для своего собственного удовольствия, и даже отчасти благодетельствовать ему, но, благодетельствуя, в сущности, все-таки презирать. Вот два противоположных мнения, исходивших из одного начала. Одно из них обладало всем лоском светскости, всею силою образования и изящества; другое – остановилось на своей родословной и думало только, как бы не стать с кем в версту, хотя бы для того приходилось умереть с голоду, или быть в нетчиках. Может ли быть сомнение, которое из этих двух начал должно было победить?
Часть вторая
I
Леклер
Прошло несколько месяцев. Было лето, но Петербург не пустел, как пустеет он нынче летом. Дачная жизнь в то время была весьма мало развита в Петербурге. Правда, императрица в жаркое время переезжала недели на две в Петергоф; но этим, кажется, и ограничивалось стремление петербургских жителей к летним переселениям. Да и самый переезд императрицы был, можно сказать, почти номинальный. Большую часть времени, назначенного для Петергофа, императрица проводила в своем Летнем дворце, в семействе Бирона, который жил там зимой и летом. Что же касается до вельмож и богачей того времени, то они, если имели свободное время, стремились скорей съездить в свои деревни или в Москву, а никак не довольствовались жиденькой зеленью еще не обсохших болот, составляющих петербургские окрестности, тем более что, нужно сказать правду, окрестности эти в то время были куда непривлекательны. Правда, несколько дач было уже выстроено около Екатерингофа и по Петергофской дороге, также на Аптекарском острове и по берегу Невы, большею же частью иностранцами, переносившими к нам исподволь свои обычаи, стало быть, и выезд летом из города на дачу, но такая постройка производилась отчасти теми, которые желали угодить Петру Великому, любившему летние и временные помещения, в которые потом, по смерти великого государя, они и не заглядывали. Что же касается коренных жителей Петербурга, то есть того рабочего люда, который теперь скорее отказывается от хлеба, чем от удовольствия поглотать летнюю пыль где-нибудь на даче, то таковое стремление в нашем обществе началось только в нынешнем столетии и развилось преимущественно в последнее пятидесятилетие.
Оно и понятно. Дачная жизнь не могла развиваться в только что возникшем тогда Петербурге. Первая причина тому была, как мы указали, неприглядность болотистых окрестностей и необходимость чрезвычайных усилий, чтобы сделать их сколько-нибудь обитаемыми; вторая – почти совершенное отсутствие дорог; дороги тогда и в самом Петербурге, а не только в его окрестностях были до того дурны, что нельзя было быть уверенным, что по ним всегда можно проехать, а это, разумеется, не могло не представлять для трудового и служащего люда чрезвычайного затруднения, как потому, что нельзя же было отказаться на лето от всякой деятельности, так и потому, что снабжать себя всем нужным, даже в незначительном от Петербурга расстоянии, было весьма трудно. Наконец, третья причина, заставлявшая петербургских жителей того времени равнодушно относиться к переселению на дачи, это – отсутствие тех условий, которые в настоящее время летом гонят из Петербурга старого и малого, богатого и бедного. Петербург не представлял тогда сплошной, скученной массы большого города; в нем не было этих сплоченных стен каменных домов, плодящих уличную пыль и наполняющих воздух миазмами своих подвалов и задних дворов. Петербург тогда был собрание разбросанных на обширном пространстве слобод, разделяемых большими пустырями и даже рощами, и состоял из низеньких домиков, большей частью окруженных садами и отстоящих один от другого на довольно значительном расстоянии. Воздух Петербурга был не только не хуже, но легче воздуха его болотных окрестностей. Петербург, можно сказать, состоял тогда весь из дач, больших и малых, прилегающих одна к другой и освежающих своими возникающими садами одна другую. Общим центром этих дач был Летний сад, с обширным лугом, выходящим на Неву, и раскинувшийся на обширном пространстве, которое в настоящее время занято множеством зданий от угла Фонтанки и Большой Итальянской до самого Мраморного дворца, где находился дворец цесаревны Елизаветы с расположенным среди этой массы зелени Летним дворцом государыни. Понятно, что жизнь концентрировалась около этого пространства, которое привлекало к себе и удобством, и устройством, и назначаемыми нередко в саду праздниками.
С этими словами Андрей Дмитриевич протянул было королю донесение и небольшую коробочку, в которой помещался искусно сложенный голландский флаг.
Но король, смотря ему прямо в глаза, не взял ни конверта, ни коробочки и только проговорил:
– А что, скажите, ведь «Артемиза» – это фрегат, кажется, больше и сильнее, чем «Венус»?
– Точно так, ваше величество! «Венус» сорокачетырехпушечный фрегат, а «Артемиза» имела пятьдесят два орудия и, кроме того, была вооружена на юте фалконетами, – отвечал Андрей Дмитриевич, подавая королю свое донесение правой рукой, тогда как в левой держал золотой подносик.
Дама, сидевшая у окна, видя эту сцену и понимая, что она происходит от незнания молодым человеком французского придворного этикета, встала, взяла поднос и донесение из рук молодого человека, положила донесение на поднос и подала поднести ему, а коробочку раскрыла, вынула оттуда флаг и раскинула его перед ногами Людовика XIV.
Король взял тогда донесение и стал читать. Поднос Андрей Дмитриевич поставил на стол.
– Посмотри, ma chere, – сказал он даме. – Этот молодой человек спас наш фрегат, выкинув за борт горевшую гранату, упавшую между картузными ящиками.
Дама подняла на него свои темно-синие, выразительные глаза и посмотрела пристально. Тогда он заметил ту особенность, ту необыкновенную мягкость и силу, которыми отличалось выражение взгляда госпожи Ментенон.
– Похвально, молодой человек, очень похвально! Я напишу вашему государю, что он может рассчитывать видеть в вас достойного подданного. А пока примите выражение моей благодарности… (дама в это время подала Людовику что-то на другой стороне столика)… выражение моей благодарности, которая на первый раз пусть обозначится вот этим вещественным украшением, означающим причисление ваше к ордену Святого Людовика, служащего всегда поощрением храбрых. Подойдите ближе ко мне, молодой человек, я вас украшу этим знаком, который много лет я носил на своей груди.
Андрей Дмитриевич подошел к королю как в тумане. Дама положила руку на его плечо и нажала так сильно, и он понял, что требуют, чтобы он склонился на колени.
Андрей Дмитриевич выполнил требование, и Людовик XIV проговорил торжественно:
– Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, посвящаю тебя в сонм избранных, да будешь защитою правды и невинности!
С этими словами он ударил его по плечу три раза перчаткой, наклонился и надел в петлицу его кафтана белый эмалевый, с голубыми отводами крест.
– Ну, вы устали сегодня; а завтра я вас приглашаю к себе обедать. Вы расскажете мне подробности сражения, которые не могли вместиться в донесении.
Этими словами король его отпустил.
Но не успел он выйти за дверь, как за ним вышла дама, в присутствии короля не сказавшая ни слова.
– Король поручил просить вас, – сказала она, – принять этот поднос в память счастливого донесения, привезенного вами, и вашей храбрости также.
Андрей Дмитриевич поклонился.
– А вот и моя карточка, если вы вздумаете сделать мне честь навестить меня.
Андрей Дмитриевич склонился невольно, взглянув на ее имя. Это имя было тогда в Париже у всех на языке. Говорили, что Людовик XIV на ней женился.
Выйдя из дворца и заехав на минуту в отель, чтобы переодеться, он отправился к Куаньи. Его друг и сотоварищ, бывший с ним на фрегате «Венус» и также отличившийся в сражении, дал ему письма к отцу и мачехе. Маркиз страдал подагрическим припадком и не мог его принять; его приняла только маркиза; разумеется, Андрей Дмитриевич не находил себя от того в потере. Веселый, счастливый, явился он к ней с письмами друга и был принят с самой очаровательной любезностью молоденькой французской аристократки. Она протянула ему свою маленькую ручку, которую он догадался поцеловать, получив в свою очередь обычный поцелуй в щеку. Разговор, разумеется, начался с описания сражения, с действий его друга, молодого Куаньи, потом перешел на неистощимый сюжет в семействах французского дворянства, на короля, на его милостивый прием, на данную Андрею Дмитриевичу награду и сделанное ему приглашение. Но среди этой светской болтовни глаза молоденькой маркизы останавливались на нем с таким блеском, что неопытный юноша невольно опускал перед ними свои очи долу. Вскоре приехала m-me de Mony, потом m-me д’Егриньон, а через некоторое время m-me de Жервез и графиня Шуазель, кузина его друга. Все эти дамы наперерыв старались очаровать и смутить юношу, сильного еще своею скромностью, и все разобрали дни, которые Андрей Дмитриевич должен был проводить у них. Несмотря на то что все дамы, с которыми Андрей Дмитриевич сошелся у маркизы, были молоды, любезны и хороши, преимущественное впечатление оставили в нем, может быть по воспоминанию о своих друзьях, хозяйка дома – маркиза и графиня де Шуазель. От их взгляда наш юноша просто таял и млел, как настоящий юноша. Что-нибудь более смелое ему и в голову не приходило. Смотря на них, даже думать о чем-нибудь таком ему казалось святотатством. Под таким-то руководством и покровительством вступил он в большой свет парижской аристократии. Возвратясь от Куаньи, он нашел в отеле секретаря посольства, молодого Голицына, который пригласил его к послу.
Князь Куракин тоже расспрашивал его о сражении, об аудиенции у Людовика, о награде, хвалил его, но сказал, что на принятие награды от иностранного государя следует испросить соизволение своего императора.
– Я не считаю себя вправе воспретить вам носить данный орден здесь, – это могло бы быть принято королем неблагоприятно; но непременно нужно испросить разрешения нашего государя. Я это сделаю, удостоверяю, что вы без награды не останетесь!
Андрей Дмитриевич полагал, что эта награда ограничится, как бывало всегда, когда ему писал Девьер, – десятью или пятнадцатью луидорами, но и за них он был бы очень благодарен. От отца Андрей Дмитриевич не получал никакого известия, поэтому крайне нуждался в деньгах. У приятелей своих, Куаньи и Шуазеля, он перебрал уже до тысячи экю и не знал, как и чем он может их заплатить. Но теперь приятелей этих в Париже не было. Ему предоставили воспользоваться отпуском, пока чинят его фрегат; а жить было не на что. Его поддержал несколько поднос, вынесенный от короля г-жою Ментенон, за который ему дали восемьсот экю; но что значат восемьсот экю в парижской жизни? Андрей Дмитриевич не знал, что делать, и думал было уже отправиться обратно на фрегат, как в это время наткнулся на похождение, столь обыкновенное тогда в Париже. В него влюбилась одна из старых дам, бывшая еще придворной покойной Анны Австрийской, – герцогиня де Муши. Она без всякой церемонии, прося его, чтобы он проводил ее с какого-то вечера, увезла его к себе в свой загородный дом и там держала в плену целых трое суток. Зато в эти три дня она осыпала его и деньгами, и бриллиантами, и всем, чем только могла быть богата любовь старой женщины. Притом, говоря о разных похождениях светских дам, она научила его поматериальнее смотреть на свои отношения к женщинам и не глядеть на них, как на недоступные божества. С легкой руки этой старухи Андрей Дмитриевич пошел в ход, получив в свете едва ли не официальное звание любовника молоденькой маркизы Куаньи, у которой m-me де Шуазель дала себе слово его отбить.
Между тем пришли письма из России, и посол, который везде встречался с молодым князем Зацепиным, счел нужным сам заехать к нему. Он привез письмо Петра.
«Благодарю тебя, Зацепин, что ты показал себя молодцом. Надеюсь, что и впредь будешь держать себя с таким же достоинством, а паче приготовишься с отличием служить своему отечеству. Награды, данные тебе братом Людовиком, утверждаю, а от себя назначаю, не в счет жалованья, на твои депансы, 200 луидоров французской чеканки, которые получишь от посла.
Благорасположенный к тебе Петр».
Одна добрая весть другую несет. В то же время Андрей Дмитриевич получил письмо и от своего отца.
«Любезный сын мой, князь Андрей! – писал отец. – Посылаю я тебе прежде всего свое отцовское благословение, вовеки нерушимое. Не писал я к тебе потому, что не знал, как и писать; только вот сегодня, в совете, Меншиков мне сказал, что не токмо писать, но и посылать тебе все можно, и, спасибо, научил, как сделать, чтобы не пропало. Потому пишу и прошу тебя прежде всего, любезный сын мой, помни нашу православную веру и ни ради корысти, ни ради чести, ни даже спасения живота своего от нее не отступай. Еще скажу: берегись ты и не принимай всех этих новшеств, что из человека обезьяну делают, а помни одно, что ты князь Зацепин, потомок светлого дома Рюрика и святого Владимира, и что тебе не в скоморохи идти. Я здесь один, мать в Зацепине, а брата под турок угнали. Вот видишь, какое мы иго несем! Посылаю тебе, чтобы тебе жить было чем и не нуждаться, а жить, как следует настоящему Зацепину, три полтысячи наших рублевиков. Еще столько же ты можешь получить от нашего жида Постельса; тут на него есть записка от здешнего голландца Бранта. Шереметев мне говорил, что лучше всего так пересылать; но, признаться, я побоялся. В жидов-то я не больно верю. А если ты получишь исправно, то уведомь; я с Брантом сговорился, чтобы каждые полгода тебе по стольку же доставлять. Деньги береги, напрасно не мотай! Помни, что копейка рубль бережет; но и не скупись, не жадничай, будь как есть Зацепин. Коли будет мало, напиши, я и еще пришлю; только веди себя так, чтобы ни мне, ни брату за тебя краснеть не пришлось, да и нас здесь не забывай. А там да будет над тобой милость Божия, которая доселе нас не оставляла и пребудет над тобою ныне, присно и во веки веков.
Твой отец князь Дмитрий Зацепин».
Таким образом начал Андрей Дмитриевич свое поприще в парижском свете. Через год он сдал морской офицерский экзамен и с разрешения Петра поступил на службу лейтенантом в французский флот. Вскоре он, благодаря покровительству госпожи Ментенон, был назначен морским адъютантом при особе короля.
К сожалению, ему недолго пришлось занимать эту должность. Людовик XIV, как ни молодился он до последней минуты, вскоре умер, и русскому князю досталась честь нести за его гробом вместе с ассистентами его королевский штандарт.
После смерти короля у князя не осталось другой обязанности, кроме жизни в свете, в обществе. Он сумел воспользоваться своим положением вполне. Блеск двора, к которому он имел полное право причислять себя и от которого пользовался различными аксиденциями, не отнимал у него времени от удовольствий, любви и волокитства. Его известная смелость и храбрость заставляли всякого беречься вступать с ним в соперничество; а его любезность, истинно французская, и притом французская времен принца-регента, давала ему право успевать даже там, где это нельзя было и ожидать. Маркиза Куаньи должна была в это время с своим полуразвалиной мужем ехать в Пьерофон на юг Франции. Но у князя Андрея Дмитриевича была наготове другая покровительница, графиня де Шуазель.
Эта рыжеватенькая, живая и очаровательная француженка дала себе слово закружить русского дикаря так, чтобы он не только себя, но и целый мир забыл. А чего не сделает хорошенькая француженка, если захочет? Она, и точно, перевернула все понятия Андрея Дмитриевича, сделала его истинным французом во всем, не тронув только религии; но надо полагать, что молоденькая герцогиня о религии не думала. Она торжествовала, видя, с какою завистью смотрели все на ее красавца любовника. Ничего не требуя и ничем не стесняя его, правда и сама не отличаясь особою верностью, она украшала жизнь его всем, что только есть приятного в жизни, и хлопотала доставить ему все, что он мог только пожелать.
У нее встретился он и с тогдашней военной знаменитостью Морицем Саксонским, который был назначен командующим войсками в Нидерландах. Для разнообразия Андрей Дмитриевич принял на себя обязанность состоять при его корпусе в качестве моряка.
Несколько стычек, которыми он командовал, несколько советов, которые он успел предложить, разумеется, не давали ему права на особую благодарность французской армии; но, служив при корпусе, он сошелся очень близко с главнокомандующим, который с ним, как с русским, охотно говорил о своей заветной мечте – герцогстве Курляндском и о вдовствующей герцогине, бывшей русской великой княжне. Близость их обозначилась взаимными одолжениями. Благодаря представлениям маршала-графа Андрей Дмитриевич получил золотую саблю; а благодаря предстательству Андрея Дмитриевича роскошному и блестящему графу-маршалу, вечно запутывавшемуся в политических интригах и долгах, открыла обширный кредит старая и страстная герцогиня Муши.
Но служить в армии Андрею Дмитриевичу удалось не долго. Парижские покровительницы живо вытребовали его к себе. Да и сам он подумал: стоит ли для каких бы то ни было отличий зябнуть по ночам в палатках, не иметь иногда не только шампанского, но даже кислого пикардийского вина, недоспать и недоесть, когда можно беззаботно наслаждаться жизнью в Париже.
Маркиза Куаньи возвратилась с вод, графиня Шуазель была прекраснее и потому могущественнее, чем когда-либо, и Андрей Дмитриевич явился опять делить свое время между двумя прекраснейшими женщинами Франции, будучи другом их мужей, их родных и друзей, и одерживая легкие победы между другими красавицами самого блестящего и развратного общества, окружившего принца-регента по кончине Людовика XIV.
Но тут вдруг случился скандал, перевернувший всю прелесть этого счастливого для князя Андрея Дмитриевича времени. Князь Голицын, один из состоявших при посольстве молодых секретарей, с сестрою своею, бывшею замужем за Долгоруким, вдруг вздумали перейти из православия в католицизм. Это взволновало всех, и Петр, опасаясь, чтобы пример этот не нашел подражателей, разом и в самой строгой форме потребовал, чтобы все находившиеся за границей русские возвратились в отечество. Нужно было повиноваться, и князь Андрей Дмитриевич явился в Россию.
Он застал Петра уже на смертном одре; тем не менее он увидел его живым, получил его благодарность и одобрение и был представлен им самим императрице. Петр приказал ему явиться к генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину, как прямому его начальнику, и к своему любимцу – князю Меншикову. Граф был человек еще не старый, но уже обрюзглый и обленившийся. Gourmand по природе, с скопческим выражением лица и неопределенным, немножко растерянным взглядом своих голубых, добрых глаз, он всего более заинтересовался рассказом князя об откармливании гусей в Страсбурге и пулярд в Нормандии, да еще о приготовлении персиков с французскою водкою, и был очень доволен, получив полдюжины банок этих персиков в подарок. Он пригласил его к себе обедать по четвергам и в первый четверг старался угостить так, чтобы заставить Андрея Дмитриевича забыть, что он не в Париже. Меншиков принял его серьезнее. Он очень много расспрашивал его о Морице и, главное, интересовался его любовницами; говорил, хотя и вскользь, о Курляндии и о надеждах Морица надеть герцогскую корону; вообще, тоже был весьма приветлив. Меншиков рассчитал, что, несмотря на древность рода, по недавнем возвращении своему из-за границы и той изолированности, которой держались Зацепины, они не могут иметь прочных связей со старинными родами московских бояр, и решил этим воспользоваться. Поэтому князь был принят на службу прямо капитан-командором, и под его команду был назначен строившийся в Адмиралтействе стопушечный корабль. В день смерти императора, при избрании императрицы Екатерины I, Меншиков приказал ему со всеми офицерами его команды явиться во дворец. Само собой разумеется, что такая, как бы назвали нынче, демонстрация не могла не иметь хотя косвенного влияния на самое избрание. Зато Андрей Дмитриевич при воцарении Екатерины I получил патент на контрадмиральский флаг и был жалован деревнями. Начало блестящее для только что поступившего на службу, тем более что в то же время он был назначен тайным советником и действительным камергером при особе ее величества, а ему не было еще и тридцати лет.
Но он не увлекся этими милостями, хотя и начали было говорить, что Меншиков усиленно старается выдвинуть его вперед, чтобы ослабить влияние на императрицу Рейнгольда Левенвольда. Правда, что императрица хотя и сохранила еще остатки своей необыкновенной красоты, но, разумеется, ни по своей свежести, ни по способности увлекать и очаровывать не могла уже становиться в уровень ни с молоденькой и игривой де Шуазель, ни с поэтически-прекрасною маркизою де Куаньи; но все-таки при той обстановке, в которой находилась императрица, она могла останавливать на себе горячие симпатии, особенно такого человека, который целомудрие не признавал добродетелью. Но он хотел, прежде чем на что-либо решиться, поосмотреться, пообдумать и не подвергать себя опасности из-за интересов, для него совершенно чуждых. А главное, он хотел продолжать в Петербурге свою парижскую жизнь, которая, как он находил, всего более соответствовала его вкусу и наклонностям.
В это время преобразовательные требования Петра уже обозначились в петербургской жизни. В Петербурге начало уже образовываться новое общество. Наплыв иностранцев, из которых многие уже обрусели и были женаты на русских, более и более усиливал это общество. Положим, что это была еще только карикатура парижского света, тем не менее в нем уже сияло несколько красавиц неподдельным блеском. В этом обществе ловкий, любезный, образованный и красивый князь Андрей Дмитриевич буквально царил. Но даже и в этом своем абсолютном светском царствовании он умел держать себя весьма осторожно и сдержанно. Относясь в душе своей с полным презрением ко всем этим выскочкам, ко всем этим проходимцам, стало быть, ставя совершенно на одну доску Меншикова и Ягужинского, Остермана с его Левенвольдами и Головкина, Девьера и Макарова, он не хотел сближаться и с их противниками: Черкасским, Апраксиным, Голицыными, Долгорукими. Но, не сближаясь ни с кем, он был настолько со всеми вежлив, настолько предупредителен, что все партии признавали его своим, отводили ему место в своем кружке и высказывали свои предположения настолько, насколько князь Андрей Дмитриевич желал, чтобы они высказывались. Он выдумал для себя при дворе особую должность и этой должностью поддерживал свое значение. Эта должность была завтраки, или утренники, как он называл их. Эти завтраки – бледное подражание ужинам герцога Орлеанского, но подражание умно и с толком примененное – очень понравились невзыскательному тогдашнему обществу. Они были новостью, и новостью для всех приятной, тем более что в искусстве угощать и распорядиться угощением князь Андрей Дмитриевич и в Париже немного встречал себе соперников. Притом он подметил склонность императрицы, заимствованную, может быть, от своего великого супруга, довольно благосклонно снисходить на верноподданнические тосты, и у него всегда находился или какой-нибудь необыкновенный ликер, доставленный ему приятелем, приором бенедиктинского монастыря Монтандром, или столетнее венгерское, присланное от двора короля Августа, или дивный рейнвейн из погреба самого римского императора, от которых граф Федор Матвеевич, его прямой начальник, был просто в восторге.
Таким способом князь Андрей Дмитриевич удержался на своей высоте при всех переворотах, получая при каждом из них знаки особой милости. Когда вступила на престол Анна Иоанновна, то, независимо от того, что Бирон с удовольствием желал видеть его у себя в гостиной, как действительно русского князя, настоящего барина среди этих немецких прощелыг, и притом барина, которoгo ловкость, разум и уменье держать себя могли служить им, воспитанным в казармах и конюшнях, образцом хорошего тона, существовавшего при, несомненно, самом утонченном дворе Людовика XIV и его преемника, – независимо от того князь Андрей Дмитриевич воспользовался еще воспоминаниями самой императрицы о своем бывшем женихе и своими отношениями к Морицу Саксонскому, когда он состоял при нем. Женщина всегда женщина, и как ни беззаветно расположена была императрица к любезно-верному Бирону, которого «полезная и усердная служба не инако как к совершенной, всемилостивейшей благоугодности нашей касаться могла», но все же ей было отрадно слышать, что был человек, на которого будто бы, как заверял ее Андрей Дмитриевич, она произвела неотразимое впечатление и который столько лет хранил образ ее в своем сердце.
Вот этот-то господин, названный нами по всей справедливости русским петиметром, принесший в Петербург к молодым дворам преемников Петра весь лоск, все изящество, всю внешнюю сдержанность и искусство дворов Людовика XIV и принца-регента, их взгляды, понятия, образ мыслей, даже выражения, – этот господин и принял на себя труд отгранить, отшлифовать своего племянника во всем, что ему казалось несоответственным и неизящным. Отсюда понятно и то противоречие их взглядов и понятий, обозначившееся при их первом свидании. Тот и другой в мыслях своих, нет сомнения, были аристократы, аристократы до мозга костей. Но один был аристократ русский, с своей идеей служения народу и родовым началам; а другой – аристократ француз, думающий, что весь вопрос в том, чтобы только родиться князем Зацепиным, а далее естественно уже необходимо сиять своим блеском и освещать трудящийся в поте лица темный люд для своего собственного удовольствия, и даже отчасти благодетельствовать ему, но, благодетельствуя, в сущности, все-таки презирать. Вот два противоположных мнения, исходивших из одного начала. Одно из них обладало всем лоском светскости, всею силою образования и изящества; другое – остановилось на своей родословной и думало только, как бы не стать с кем в версту, хотя бы для того приходилось умереть с голоду, или быть в нетчиках. Может ли быть сомнение, которое из этих двух начал должно было победить?
Часть вторая
I
Леклер
Прошло несколько месяцев. Было лето, но Петербург не пустел, как пустеет он нынче летом. Дачная жизнь в то время была весьма мало развита в Петербурге. Правда, императрица в жаркое время переезжала недели на две в Петергоф; но этим, кажется, и ограничивалось стремление петербургских жителей к летним переселениям. Да и самый переезд императрицы был, можно сказать, почти номинальный. Большую часть времени, назначенного для Петергофа, императрица проводила в своем Летнем дворце, в семействе Бирона, который жил там зимой и летом. Что же касается до вельмож и богачей того времени, то они, если имели свободное время, стремились скорей съездить в свои деревни или в Москву, а никак не довольствовались жиденькой зеленью еще не обсохших болот, составляющих петербургские окрестности, тем более что, нужно сказать правду, окрестности эти в то время были куда непривлекательны. Правда, несколько дач было уже выстроено около Екатерингофа и по Петергофской дороге, также на Аптекарском острове и по берегу Невы, большею же частью иностранцами, переносившими к нам исподволь свои обычаи, стало быть, и выезд летом из города на дачу, но такая постройка производилась отчасти теми, которые желали угодить Петру Великому, любившему летние и временные помещения, в которые потом, по смерти великого государя, они и не заглядывали. Что же касается коренных жителей Петербурга, то есть того рабочего люда, который теперь скорее отказывается от хлеба, чем от удовольствия поглотать летнюю пыль где-нибудь на даче, то таковое стремление в нашем обществе началось только в нынешнем столетии и развилось преимущественно в последнее пятидесятилетие.
Оно и понятно. Дачная жизнь не могла развиваться в только что возникшем тогда Петербурге. Первая причина тому была, как мы указали, неприглядность болотистых окрестностей и необходимость чрезвычайных усилий, чтобы сделать их сколько-нибудь обитаемыми; вторая – почти совершенное отсутствие дорог; дороги тогда и в самом Петербурге, а не только в его окрестностях были до того дурны, что нельзя было быть уверенным, что по ним всегда можно проехать, а это, разумеется, не могло не представлять для трудового и служащего люда чрезвычайного затруднения, как потому, что нельзя же было отказаться на лето от всякой деятельности, так и потому, что снабжать себя всем нужным, даже в незначительном от Петербурга расстоянии, было весьма трудно. Наконец, третья причина, заставлявшая петербургских жителей того времени равнодушно относиться к переселению на дачи, это – отсутствие тех условий, которые в настоящее время летом гонят из Петербурга старого и малого, богатого и бедного. Петербург не представлял тогда сплошной, скученной массы большого города; в нем не было этих сплоченных стен каменных домов, плодящих уличную пыль и наполняющих воздух миазмами своих подвалов и задних дворов. Петербург тогда был собрание разбросанных на обширном пространстве слобод, разделяемых большими пустырями и даже рощами, и состоял из низеньких домиков, большей частью окруженных садами и отстоящих один от другого на довольно значительном расстоянии. Воздух Петербурга был не только не хуже, но легче воздуха его болотных окрестностей. Петербург, можно сказать, состоял тогда весь из дач, больших и малых, прилегающих одна к другой и освежающих своими возникающими садами одна другую. Общим центром этих дач был Летний сад, с обширным лугом, выходящим на Неву, и раскинувшийся на обширном пространстве, которое в настоящее время занято множеством зданий от угла Фонтанки и Большой Итальянской до самого Мраморного дворца, где находился дворец цесаревны Елизаветы с расположенным среди этой массы зелени Летним дворцом государыни. Понятно, что жизнь концентрировалась около этого пространства, которое привлекало к себе и удобством, и устройством, и назначаемыми нередко в саду праздниками.