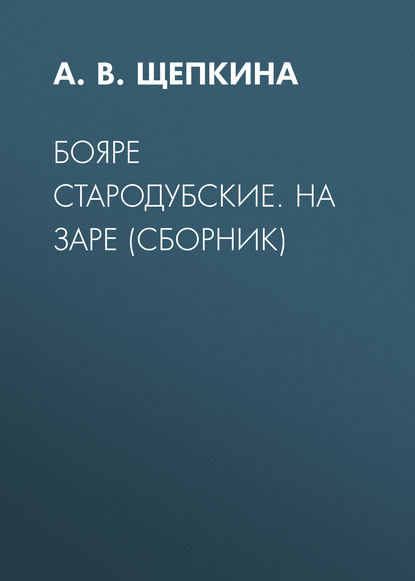По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бояре Стародубские. На заре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отец посылает тебе свое благословение, – продолжала она, – он желает видеть тебя. Теперь ты одно его утешение, и ты должна посетить его.
– Я уж давно посетила бы вас обоих, если бы получила на это отпуск и позволение, будучи еще фрейлиной! – говорила Анна со слезами. Она не могла равнодушно вынести видимую перемену во всем существе молодой и любимой сестры, превратившейся во что-то отжившее. Анна горевала и сердилась внутренне и не смела проявить всего, что кипело в ней. Она хотела бы воскликнуть: «Ольга! Это не ты! Эти речи и голос – это все накинуто на себя, чтоб оградить себя от любви и привязанности к близким и кровным родным лицам!» Но она боялась оскорбить сестру и сразу испугать ее; боялась, чтобы она совершенно не отдалилась от нее. Анна постаралась овладеть собою и спокойно слушать эту чужую речь и незнакомые звуки голоса из уст сестры Ольги.
– Отец найдет силу вынести испытанье, которое посылается ему, он благословил меня на прощанье. – Голос Ольги смягчился, и она отерла невольную слезу. Анна быстро прильнула головою к плечу ее, но Ольга тихо отстранила ее голову: – Расскажи мне, Анна, довольна ли ты своею судьбою или о чем еще надо молить для тебя перед Богом?
– Я молюсь за тебя, Ольга, молюсь, чтобы Господь возвратил нам тебя такою, какою мы тебя знали и любили!
– Что миновало, то уже не возвращается. Все минует по воле Божией, и наступает новое время, и сам человек обновляется. Не смущайся же переменой во мне.
– Оставим такие разговоры, Ольга. Скажи мне, здоровы ли все дома? Здоров ли был отец, когда ты оставила его, и как поживает тетушка? Я так давно их не видала, что мне дорого все, что ты можешь рассказать о их жизни, – прервала Анна сестру, недовольная ее холодными размышлениями.
– Все были здоровы, когда я их оставила, верно, здоровы и теперь. Тетушка посылает тебе поклон и велела сказать, что очень желает видеть тебя. Все хорошо и мирно у них. Благодарю тебя, сестра Анна, что ты написала мне об этом монастыре. Со вчерашнего дня, с тех пор как я приехала, сестры выказали мне много вниманья. Сама Шумская приняла меня так приветливо, что мне кажется, я нигде не могла бы найти лучшего пристанища.
– Сожалею, что ты искала пристанища, отдельного от родной семьи! – с упреком проговорила Анна.
– Оставим это, Анна. Ты не можешь понять, какое стремленье всесильно влечет меня к этой новой жизни. Для меня нет другой жизни, не может быть другой семьи. Не возражай мне и не огорчай меня. Оставь мне мою жизнь, как я оставляю тебе твою. Простимся пока. Посети меня, когда я устроюсь и буду жить в своей келье; тогда мы можем больше сообщить друг другу, и ты расскажешь мне о своих семейных обстоятельствах. Быть может, мне нужна будет твоя помощь, чтоб приготовить рясу и покрывала.
Анна не слушала Ольгу; еще при слове «келья» она закрыла лицо платком и плакала, тихо всхлипывая, удерживая рыданья, чтоб не привлечь к себе любопытство присутствовавших здесь лиц, кроме нее и Ольги. Эта небольшая приемная составляла род сеней при помещении игуменьи; на узких, белых деревянных скамьях, тянувшихся вдоль стен, сидели монахини и приходившие навестить их родственники или знакомые, нуждавшиеся в их помощи.
Все смотрели теперь в их сторону; Ольга встала, недовольная волнением сестры; она желала, чтоб безмятежное спокойствие было вокруг нее.
– Простимся, сестра Анна, – сказала она, слегка приложив свои губы ко лбу сестры. – Прошу тебя, не разговаривай ни с кем обо мне, не упоминай нигде моего имени, если ты желаешь мне душевного покоя, пусть никто не знает о моем существовании. Мы увидимся после.
С этими словами Ольга обеими руками придержала Анну, не давая ей встать со скамьи, встала сама и быстро вошла в ближайшую дверь, которая вела в комнату игуменьи; Анне нельзя было следовать за нею без особого приглашения. Она осталась на скамье, все еще вытирая глаза, полные слез, и собираясь с силами, чтоб выйти из приемной и просить свой экипаж.
– Позвольте мне помочь вам, проводить вас до вашего экипажа, наша обязанность помогать страдающим… – так говорила старая монахиня с желтоватым лицом с длинными высохшими чертами.
Анна пошла за нею, расстроенная, ни на кого не глядя и не слушая утешения старой монахини, похожей на восковую фигуру своими неподвижными глазами и желтыми худыми руками.
– Придет день для каждого человека, когда наступит час страдания его… – говорила монахиня, идя с ней рядом, – и тогда надо покориться Господу!
Мрачно и тоскливо раздавались слова эти над ухом Анны. Выйдя из сеней, украшенных деревянной резьбой и изображениями святых, перед которыми в темных уголках вспыхивал синеватый огонек лампадки, Анна очутилась на крыльце, освещенном ярким солнечным блеском. Когда она возвращалась домой и карета, запряженная прекрасной парой серых сильных лошадей, уносила ее от монастыря в шумные улицы города, ей казалось, что она уезжала с похорон, где она оставила навсегда дорогое, близкое ей существо.
Муж Анны, генерал Глыбин, встревожился, когда она вернулась домой заплаканная.
– Где ты была так долго, Анна? – спросил он с испугом. – Не сообщил ли кто-нибудь тебе дурных вестей?..
Вопрос этот уже часто приходилось Анне выслушивать от мужа, так что она начинала удивляться и сердиться этому вопросу.
– Ты, друг мой, всегда спрашиваешь у меня одно и то же! Каких же вестей ты ожидаешь? И от кого еще? Не довольно ли мне уже одного горя, что я должна… расстаться с сестрою! Я была у нее, в Смольном монастыре.
– Ну успокойся, это горе уляжется, мы привыкнем к нему! Пойдем к нашей маленькой девочке. – И добрейший генерал старался увести негодующую супругу свою к дверям детской, как он всегда делал, чтобы развлечь ее.
Пока Анна действительно развлекалась и успокаивалась, глядя на маленькую дочь, в детской, генерал неспокойно расхаживал по большому залу своего дома с полами блестящего паркета, украшенного мозаичными рисунками из черного дуба и перламутра. Лоб его был наморщен, губы крепко сжаты, и он, видимо, работал над какою-то мыслию.
– Надобно же будет наконец сказать ей когда-нибудь, – говорил он тихо, – это необходимо, и чем скорей, тем лучше. Сегодня же, кстати, уж она плачет; или на днях все скажу ей; хуже, если эти вести дойдут к ней от других! – И генерал терял свою храбрость, свойственную ему во всех других случаях, при мысли, что жена может услышать от кого-нибудь тревожившие его вести.
Но какого же рода были вести, которые так тревожили храброго генерала? Дело в том, что, не имея огромного богатства, генерал несколько лет увлекался общим обычаем и желанием угодить молодой жене и вел дом на роскошную ногу, гоняясь за другими. Состояние его не выдержало, все покачнулось, он был в долгах и тщательно скрывал все это от жены. Но скрывать дальше было уже невозможно. Поддерживать прежние связи при дворе, разъезжать в каретах четвернею цугом, давать балы было уже невозможно. Доходов и именья недоставало, долги росли. Для поправления дел оставалось общее тогда всем средство: проситься в отпуск для того, чтобы поселиться в деревне, бывшей у генерала в Тульской губернии, где до сей поры хозяйничала в его отсутствие его тетка. Но как было приступить к жене с таким предложением? Ведь ей и в голову не приходило, чтобы у них когда-нибудь недостало денег на все их траты. Вот над чем задумывался генерал, бегая взад и вперед по комнате. Но он не терял надежды, что с ее умом Анна скоро поймет их положение и сумеет приноровиться к нему. Страшно было только первое объяснение и первое время перехода от ненужной роскоши к более скромной семейной жизни, которою они могли довольствоваться. Каждый день почти приготовлялся генерал приступить к этому объяснению с женою, между тем проходили месяцы и годы, и приближался уже роковой год для России, год войны с Пруссиею. Анна грустно проводила эту зиму; с одной стороны, ее томили свиданья с сестрою, с другой стороны, ее удивляла задумчивость ее мужа и загадочность его распоряжений. Он часто сердился на прислугу и отпустил, рассчитав, большую часть ее под видом их негодности. Он уверял Анну, что любимые лошади ее испортились и получили привычку пугаться, причем едва уже не разбили карету при его последнем выезде без нее. Он заявил даже, что продает эту прекрасную четверку серых и не заведет других лошадей, а подождет, пока ему не пришлют лошадей из деревни, от тетки. В марте генерал считал себя больным, хотя никто не замечал особенных признаков болезни в его внешнем виде. Однако он уже выхлопотал себе годовой отпуск за военную службу, собираясь ехать на излечение в деревню. В таком виде генерал представил сначала жене своей необходимость оставить Петербург и переселиться в деревню в Тульской губернии, принадлежавшую частью ему, а частью тетке его. Анна приняла эту весть довольно благоразумно. Жизнь ее в Петербурге мало приносила ей удовольствия за последнее время. Балы и танцы начинали наскучивать ей. Свиданья с сестрой были редки и то проходили в том, что Ольга беседовала о суете и греховности жизни мирской и порицала все, что занимало Анну. Анна смотрела на Ольгу, как на больную, впавшую в меланхолию, и боялась заразиться ее взглядами на жизнь. «Право, она и на меня тоску нагоняет, и самой приходит мысль от всего отказаться, особенно теперь, когда при твоей болезни дома у нас невесело», – говорила Анна мужу. При таких обстоятельствах она почти обрадовалась, когда генерал предложил ей провести лето в деревне у тетки. Она надеялась, что это поможет здоровью мужа и здоровью ребенка; девочка ее часто болела от сырой весны в Петербурге. Она была искренно привязана к ребенку и к мужу, несмотря на то что генерал, муж ее, был почти вдвое старше ее; в семейных привязанностях обнаруживалась лучшая сторона Анны, легкомысленной, но сердечной и мягкой. Она ценила его добрые качества и заботливость о ней.
– Когда же мы едем в деревню? – спросила она генерала, когда они сидели вдвоем за утренним чаем в своей уютной столовой.
– Тетушка вышлет нам лошадей в конце мая, недели через три; она же вышлет и денег на это путешествие; иначе… нам трудно будет справиться.
– Так у тебя недостает денег? – спросила удивленная Анна.
– Надо сказать тебе всю правду, душа моя, что у нас уже давно большой недостаток в деньгах. В деревне были неурожаи, подошли плохие года, и другие были неудачи по хозяйству. Мы в последние годы так мало получали денег из деревни от тетки, что должны были войти в долги, чтоб не изменять свой образ жизни. Теперь я решаюсь признаться тебе, потому что я часто боялся, чтоб все эти вести не дошли до тебя стороною.
– Так вы лучше бы сделали, если бы давно сказали мне обо всем! – проговорила Анна с горячностью. – Я бы не тратила денег попусту, и давно мы могли уехать в деревню. Удивляюсь, что вы все скрывали от меня! А я не могла придумать, что за причина тому, что вы давно ходите пасмурным! В какое положение вы меня ставили! Вы позволяли мне проматывать ваше состояние и не остановили меня хоть бы одним словом! Как обидно, что вы поступали со мной таким манером! Что же вы думали обо мне?..
– Тут нет ничего обидного, ровно ничего! – уговаривал генерал жену. – Молодость всегда любит повеселиться, неужели я должен был жалеть денег! Да и долог ли век наш? Я человек военный, нынче жив, завтра убьют меня в армии, – так стоило ли беречь деньги?..
– Нет, уже это не молодость причиною, это была бы глупость моя, проматывать ваше! Да и нечестно! – горячилась Анна, принимаясь плакать. – Мои деньги у отца не тронуты, возьмите мое приданое, заплатите долги…
– С какой стати буду я тратить ваше добро? Вы еще так молоды, вам еще долго жить впереди, – с чем же вы тогда останетесь? Я ваше берегу.
– А свое бросаете для меня! Что обо мне другие говорить будут! Что я безумная, что я трачу ваше состояние на свои прихоти! – Анна закончила свою горячую речь слезами и всхлипываньем.
Генерал зашагал по комнате, озадаченный, не зная, чем унять этот припадок женской слезливости. Недаром и боялся он этого объяснения, но и ожидал такого взрыва, – только, правда, он не ожидал, что взрыв этот будет выходить из других соображений и другого источника. Он вызван был деликатностью и честным чувством Анны, не желавшей пользоваться легкомысленно его имуществом; взрыв этот обнаружил ее гордость и щекотливость в этом отношении. Это нравилось генералу, это была новая хорошая сторона в жене его; но все же это кончилось слезами, которых он не любил, и он тем более жалел плачущую Анну, что уважал причину ее слез. Несколько раз пройдя по всему дому, измерив зал своими шагами, генерал направился обычным путем в детскую и вернулся оттуда с ребенком на руках. Он не придумал ничего нового, – это было всегдашнее его оружие: «Анна! Возьми, пожалуйста, девочку; она потянулась ко мне на руки, а держать ее я не умею! Кажется, и она собирается плакать…»
– Ты напрасно разбудил ее, – сказала Анна, приостанавливая слезы.
Муж между тем смотрел на нее пытливым взглядом своих мягких серых глаз, желая угадать, удастся ли на этот раз маневр его? Кажется, он удается… Она уже начала говорить с ним на ты, это был признак миновавшей тучи: вот жена отерла глаза платком и протянула руки к ребенку.
– Возьми, возьми ее! Славная девчонка какая! – говорил генерал, передавая ребенка, краснощекую девочку с густыми бровями отца.
– Славная девочка, – согласилась Анна, – а все же глупо было скрывать и болеть! – прибавила она, уже примиренная.
– Так решено все; едем в деревню, покончив тут все дела! – заговорил генерал бодро. – Ну, прощай, пока, – прибавил он, целуя Анну в щеку. – Иду за отпуском в канцелярию.
– Я сегодня же буду укладывать вещи, – проговорила Анна, вставая и унося полусонного ребенка.
Супруги разошлись примиренные на этот раз. Генерал ушел с облегченным сердцем, после исповеди. Он отправился взять свои бумаги в канцелярию Военной коллегии. Дорогой он обдумывал и о путешествии в дальнюю деревню, и как примется он поправлять хозяйство. Он думал и о том, нельзя ли будет после продлить свой отпуск еще на год и более?..
Несколько недель прошло в сборах в далекий путь, прощались с знакомыми и родными. Путешествия совершались так трудно в те времена и так медленно; они были так небезопасны, что, расставаясь на полгода, люди прощались друг с другом со слезами, будто им не суждено уже было свидеться. Даже Ольга прослезилась, прощаясь с Анной, надевая ей на шею маленький образ как напутственное благословение. Она сообщила Анне при расставании, что ей обещали выхлопотать позволение постричься через год или два ради ее болезненного состояния. «Ты поймешь, какая это радость для меня – не ждать этой церемонии целых десять лет!» – сказала при этом Ольга.
С пожеланием счастливого пути от всех родных и знакомых выехало семейство генерала Глыбина из Петербурга. Путешествие шло скучно и медленно, на своих лошадях, с отдыхами и кормлением. Единственным развлечением в дороге была для Анны их маленькая девочка; она начинала узнавать их и улыбаться. Старого генерала, привыкшего к долгим, скучным походам, не так томило это путешествие и дорога по однообразной лесистой местности между Москвой и Петербургом. В Москве они останавливались на одни сутки, они торопились в деревню, на место, и избегали лишних трат. Чем ближе подъезжали они к вотчине старого генерала, тем нетерпеливее желал он поскорей взглянуть на нее, на место, где он родился и провел детство. Уже более десяти лет нога его не была в этом имении, которым тетка заведовала как старшая в роде из немногих оставшихся у него родных.
Все имения вокруг находились также в управлении женщин или очень престарелых отставных военных, не способных продолжать службу. Еще находившийся в силе закон Петра I требовал, чтобы дворянин всю жизнь проводил на службе; дворяне поступали на службу в полк с самого раннего возраста и оставались до тех пор, пока позволяли силы и здоровье. Иногда в шестнадцатилетнем возрасте они получали отсрочку для окончания своего образования; случалось, что с десяти лет мальчик записывался на службу, находился в полку при отце и делал с ним все походы, возвращаясь к матери, если ему случалось потерять отца и осиротеть. В деревнях дети воспитывались у матерей очень незатейливо, да и трудно было приискать возможность к хорошему воспитанию и обучению по недостатку в знающих учителях. Грамоте учил их пономарь, находившийся при деревенской церкви. Ученье шло трудно, неуспешно; пономарь, желая подвинуть дело, лучшим средством считал не терять времени и держал детей за азбукою целый день, прибегая к розгам, если они позволяли себе оставить книгу, чтобы побегать немного около дома.
Иная семья отсылала сына своего к родным или соседям, заслышав, что у них в доме был учитель, немец или француз. Ребенок оставался в чужом доме без присмотра; иногда он даже ничему не учился, привыкал к праздности, вырастая, шатался по околотку и проделывал всякие проказы, пока его похождения не доходили до слуха родителей. Хорошо, если родители находили случай пристроить избалованного сынка в Шляхетский корпус в Петербурге или в Школу Заиконо-Спасской академии в Москве. В провинциях ни школ, ни гимназий не существовало, кой-где учреждались духовные семинарии, в которые охотно помещали детей своих жившие по деревням дворяне. Учителей было мало и в столицах; и там появлялись учителя с старыми приемами в преподавании, каждый учил по-своему, не имея правильной системы. Так трудно было найти средство к образованию, пользу которого начинали понимать как пользу практическую, помогающую в жизни; но не было, однако, заботы о нравственном развитии личности. В деревнях было безлюдно, всюду бросалась в глаза запустелость; в домах дворян оставались жены с малыми детьми или престарелые родственники служивших на военной службе. На стариках этих лежала обязанность заботиться об имуществе и доставлять служащим средства к жизни в полку, добывая их трудами крестьян и своими хлопотами. Так тетка генерала Глыбина, госпожа Каверина, десять лет силилась хозяйничать и извлекать как можно более дохода из имения своего племянника – гвардейца, но в последние годы не достигала желанной цели. Она терпела постоянные неудачи: то неурожай, то кражи и поджоги, эпидемически распространившиеся по всему краю, так как везде бродили толпы беглых, проживавших в окрестности. Неудачи повлияли на характер госпожи Кавериной. Ее письма к генералу были полны жалоб, она порицала и новые порядки, и все на свете. Она жаловалась на мотовство племянника, которое замечала со времени его женитьбы, и приписывала это влиянию жены его, которая, по ее мнению, по всей вероятности, была модница и ветреница. По этим письмам генерал наш предвидел, какие столкновения могли произойти в тихой деревенской жизни между его теткой и женою; он уже дорогой приготовлял Анну к тому, какого рода взгляды и привычки она найдет у его тетки, и старался внушить ей снисходительность к ее выходкам, убеждая, что, при всей грубости их, они клонятся к тому, чтобы улучшить их состояние, и вытекают из желания им добра. Анне наскучила дорога, она рада была поскорей поселиться в деревне и готова была примириться со всеми слабостями тетки генерала; ведь уживалась же она с Афимьей Тимофеевной. Хотя это могло быть скучно, но зато все хозяйственные хлопоты не падали на Анну. Так раздумывала Анна, все ближе подъезжая к деревне, видневшейся в полях, в стороне от дороги. Деревня разбросалась невдалеке от пруда, обсаженного ивами; позади усадьбы помещика виднелась густая зелень сада.
– Вот и поворот, – сказал генерал, – эти старые ивы нарочно насажены на повороте, чтобы легче было отыскать дорогу в метели. Помню, как в детстве я, бывало, взбирался на эти ивы, на самую верхушку, и сиживал там, поджидая отца или матушку, уехавших в гости к соседям! – Вспомнив родителей, генерал прослезился. Экипаж их подвигался между тем к дому.
Анна была приятно удивлена, когда на крыльце дома появилась хорошо одетая пожилая дама с образом в руках: на голове ее надет был чепец с высокими украшениями, волосы приподняты на лбу, зачесаны назад и напудрены, из-под пудры виднелась натуральная белизна седины. Темное шелковое платье и большой платок составляли остальной наряд, вместо измятого ситцевого капота, который Анна думала увидеть на экономной деревенской хозяйке. Лицо, красное, с загрубелою кожей, было серьезно, но несердито; губы госпожи Кавериной готовы были даже подернуться улыбкою, когда генерал поднес к ней ребенка, но она сдержала улыбку и чинно поднесла к нему образ; когда генерал приложился к образу, она обратилась с образом к Анне. Приложившись и приняв от тетки образ, Анна последовала за нею в дом. Он делился на две половины большими сенями, в которые они вошли прямо с крыльца. По одну сторону сеней вела дверь в гостиную и столовую, по другую сторону была дверь в комнаты тетки, и рядом с этою дверью была другая, немного отворенная, и сквозь нее виднелись две комнаты с окнами в сад. В конце сеней помещались кладовые, с тяжелыми, висячими замками на засовах, которыми крепко припирались эти двери. Вот все, что составляло дом зажиточного генерала и тетки его, помещицы того времени. Комнаты были оклеены бумажными обоями, очень пестрыми, а иные были просто выбелены.
– Вот ваши комнаты, – указала тетка Анне на комнаты, видневшиеся из дверей; они были пусты, без всякой мебели и без занавесок на окнах; несколько простых стульев стояло около стен. Анна подумала тут же, что нетрудно будет убрать эти маленькие комнаты всем запасом ковров, занавесок и мебели, ехавшим при них в обозе из Петербурга.
В полдень прибывшим родственникам подали обед из трех блюд: щей с бараниной, куриных котлет и сладкого слоеного пирога.