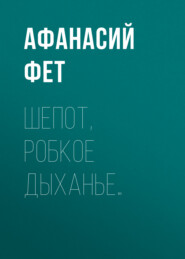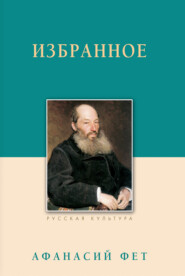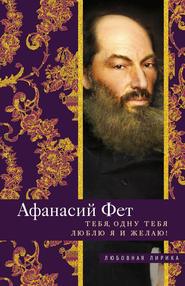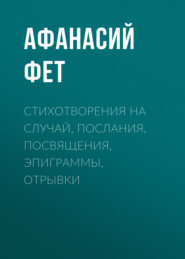По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что? разве тетушка нездорова, не принимает?
– Нет, тебя-то примет; да я советовал бы лучше не ходить. Там такой ералаш!
Тем не менее минут через пять я был уже в большом флигеле.
– Вот сюда пожалуйте, – сказал постаревший Андриян, отворяя мне дверь.
Софья Васильевна быстро скрылась при моем появлении. Тетушку я застал в серизовом шелковом платье, сидящую на диване. Глаза у нее были красны; на щеках еще оставались следы слез. С правой стороны дивана, на кресле, сидел большого роста пожилой человек, довольно плотный, но с необыкновенно тонкими чертами лица. Тетушка представила меня Чернецову. Несмотря на ее обычные «а, а!» и «о! о!», разговор не клеился, и я, заметив, что попал точно не вовремя, скоро раскланялся и ушел.
– Кто этот Чернецов? – спросил я Аполлона, воротись в его комнату.
– А! ты про Донкишота этого спрашиваешь: родной братец моей любезной тещи. Нечего сказать, славная семейка! Один другого стоит. Как же! нельзя! Нужный человек! Ты видел там у крыльца-то какой дормез? Да я плевать на них на всех хочу. Моя-то дражайшая половина нажаловалась, что ли, на меня. Ты знаешь мою деликатность. Я не способен вмешиваться в эти дрязги. Вот он ее теперь увозит – и слава богу: скорей со двора. А меня пусть извинят – не пойду прощаться.
Долго еще Аполлон варьировал на эту тему. Желая скрыть свое волнение, я перелистывал какой-то французский роман. Через несколько времени послышался легкий стук экипажа.
– Ну, слава богу, – взвизгнул Аполлон, – наконец я сделаюсь опять человеком!
Но стук все приближался и наконец смолк у крыльца.
– Что это такое? – спросил Аполлон, уставясь на меня.
Я сам был не менее изумлен. Дверь в комнату растворилась, и на пороге появилась огромная фигура Чернецова. Он быстро окинул комнату глазами и, оборотись назад, сказал вполголоса:
– Войди, Софи.
Молодая женщина вошла. Никогда я не забуду ее в эту минуту. На ней, как говорится, лица не было, а между тем, чего не было на этом лице: и стыд, и скорбь, и отчаянье! Ожидая неприятного объяснения и чего доброго, какой-нибудь катастрофы, я начал пробираться к дверям.
Заметив мое движение, Чернецов быстро схватил меня за руку.
– Извините, молодой человек, – сказал он, – что, не имея чести короткого знакомства, я распоряжаюсь вами в таком важном случае. Вы хотите уйти, а я, напротив, прошу вас остаться. Пусть между нами будет если не судья, то, по крайней мере, посторонний свидетель.
Что ж мне было делать? Я поклонился и остался.
– Аполлон Павлыч! – сказал Чернецов самым вежливым тоном, – мы пришли к вам за последним словом.
– Хотя я имел честь, – перебил Аполлон, нарочно утрируя вежливый тон, – сказать вчера мое последнее слово и madame и Софье Васильевне, тем не менее, желая быть вам приятным, готов повторить его снова.
– Вы непременно хотите оставить вашу дочь у себя? – сказал Чернецов.
– Непременно, – отвечал Аполлон, кланяясь, – это мое право.
– Я не думаю оспоривать ваших прав, не прошу вас сжалиться над несчастной матерью – это было бы напрасно, и я не пришел бы за этим, зная, как глубоко вы ненавидите мою племянницу. Обращаюсь к вам с другими доводами. Извините мою откровенность. Вашу ненависть к жене вы, кажется, ни перед кем не скрываете, но, по некоторым словам, сказанным вами вчера, я заключаю, что вы не менее равнодушны и к дочери. Подумайте: оставляя ее у себя, вы делаете жестокость, которая не только не принесет вам никакой пользы, но даже будет вам же самим в тягость.
– Благодарю вас за откровенность, – взвизгнул Аполлон, встряхнув скобкой и цинически улыбаясь, – буду отвечать вам тем же. Не скрываю перед вами моего равнодушия к дочери, но замечу: в вашей прекрасной речи вы забыли об одной вещи – о моей матери. Всякий пожилой человек имеет свои слабости. Вы любите спасать и покровительствовать, а моя мать любит воспитывать. Надо же ей какую-нибудь забаву… – прибавил он вполголоса, однако ж так, что все слышали.
При последнем слове Софья Васильевна судорожно закрыла лицо руками и так вскрикнула, что у меня сердце захолонуло.
– Пойдем, пойдем отсюда скорей! – вскричал Чернецов, взяв под руку племянницу, – это ужасный, это страшный человек!
– А я, напротив, жалею, что вы так скоро уходите, – пищал ему вслед Аполлон, задыхаясь от гнева, – вы очень забавны!
Дверцы стукнули, карета уехала. Аполлон, взволнованный, ходил по комнате. В первое время я до того ошеломлен был всем виденным и слышанным, что окончательно потерялся. Мало-помалу, однако ж, мысли мои стали проясняться. Что мне делать? Идти к тетушке – не время и некстати. Это батюшка поймет, если ему рассказать о случившемся; но велеть сейчас же запрягать лошадей и уехать – значило бы сделать некоторого рода скандал, которого батюшка не простит ни в каком случае. Скрепя сердце я принужден был обождать хотя столько, чтоб отъезд мой не имел вида разрыва. Волнение Аполлона тоже приутихло.
– Однако ж, – сказал он, остановясь среди комнаты, – соловья баснями не кормят. Будем обедать! Эй! накрывайте на стол! – крикнул он, выходя в переднюю, и вслед за тем послышался его шепот. – Да проворней поворачивайтесь! – громко прибавил он, входя в комнату.
Минут через пять два молодые лакея, которых прежде я никогда не видал, внесли четыреугольный складной стол. Нельзя сказать, чтобы слуги эти были особенно опрятно одеты. У одного узкий сюртук, вероятно с барского плеча, лопнул под мышкой, у другого на одной ноге штаны были сверх сапога, а на другой в сапоге. Накрывать небольшой складной стол принесли голландскую скатерть, на которой удобно могли бы обедать, по крайней мере, человек пятьдесят. Уж чего не делали с этою скатертью! и подворачивали-то ее по всем углам, и завязывали вокруг ножек, а все она еще лежала на полу. Серебра натаскали целый ворох.
– Какое ты пьешь вино? – спросил Аполлон, – красное, белое? крепкое? шипучее?
– Всякое, или, лучше сказать, никакого.
– Подай самого лучшего! – взвизгнул хозяин, обращаясь к лакею с прорехой под мышкой.
Мы сели за стол. Мизинцевская кухня в продолжение восьми или девяти лет мало подвинулась вперед.
Правда, блюда стали еще затейливее, явились новые термины: фрикандеи, суп с гнилями, маинесы, говядина превратилась в бафламут; но сущность осталась вся та же. Волос и тряпок в ней, кажется, еще прибыло. Лучшее вино оказалось до половины отлитой бутылкой, пополненной жидкостью неопределенного цвета. К счастью, благодаря предшествовавшей сцене аппетита у меня не было никакого; кусок не шел в горло.
– Человек! прикажи моему кучеру запрягать и подавать.
– Куда ж ты так скоро? Ночуй у меня.
– Нет, извини, брат, через четыре дня еду на службу; поэтому тороплюсь. Передай тетушке мое уважение и скажи, что я не хотел ее беспокоить.
Я вернулся домой. Еще несколько дней – и новая разлука. Кажется, давно ли, точно так же на неопределенный срок, покидал я родные места? Места те же, люди те же; но есть ли какое-нибудь сходство в чувстве тогдашнем и теперешнем? Отчего мне так не хочется, отчего мне жаль уезжать?..
–
Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурными пистолетами – нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве, но теперь, когда оно побледнело и заменилось новыми, которые возбуждены близкими утратами, мне как-то странно видеть эту рукопись. На что? для кого она? что она доказывает? Разве справедливость стиха: «Как наши годы-то летят! «Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику, да как он скажет: «Славно, Ковалев! Все, что я слышу, меня радует. Прекрасный будет офицер!» – так целый день готов делать приемы саблей и карабином. Кажется, это было за несколько недель, а вот уж шестой год, как я офицером, и два года каждый день кричу то же, что тогда кричали мне: «Корпус назад! колено назад! каблуки вниз! повод ближе к шее! смотреть между ушей, подбородка не вешать!» Но еще раз: кого это может интересовать? Разве товарищу прочесть на сон грядущий, а может быть, и С-вой. Она почти еще дитя. Но преумное и милое… К чему я ее тут приплел? Это глупо. Баста! Прощай, тетрадь! Ступай опять под пистолеты…
–
Опять на родине! Сколько раз завидовал я поэтам! Что за чудный дар сказать самую простую речь, которая, при известных обстоятельствах, каждому так и просится на язык, так и ложится под перо! Вот и теперь так и хочется продолжать: «Я посетил тот мирный уголок…» Кто не пережил, подобно мне, воротись, после долгого отсутствия, опять на родину, во всех родах этого стихотворения? «Уже старушки нет…»
Какая полнота и верность! какой напев! а между тем ни одной рифмы. Поставьте одну – и все пропало. Как бой часов прогоняет ночного духа, одна рифма – звонкий отголосок действительности – рассеяла бы задумчиво-сладостный, безмятежно-грустный сон давно минувшего. Говорят: следы сабельных ударов украшают мужественное лицо воина. Если это правда, то не как темно-красные полосы украшают они его, но как живая вывеска отваги, смотревшей прямо в глаза смерти, и силы, перенесшей жестокие удары. Не то же ли с нашим сердцем? Не потому ли воспоминания его тем слаще, чем глубже некогда оно было уязвлено? Не оттого ли так весело и больно тревожить язвы старых ран? Казалось, если б не дела, не поехал бы я домой: незачем! Дом пустой; одних уж нет, а те далече… Выходит, не то. Я здесь молодею многими годами. где-то теперь Василий Васильич? Где Сережа? Вот сиреневые кусты, под которыми ловились синицы. Вот Старые липы. Как-то они потемнели и шепчутся между Собою. На днях был у меня Морев и упросил приехать к нему. На замечание, что ни я, ни мои люди не знают к нему дороги, он принялся ее толковать:
– Знаешь, верстах в сорока постоялый двор, на большой проселочной дороге?
– Знаю.
– Помнишь, на десятой версте, за ним дорога разделилась: одна пошла направо, к Мизинцеву, а другая налево, ко мне. Только ты по ней не езди: верст пять крюку будет, а будет с нее направо полевая дорога, так ты по ней поезжай. Отъедешь версты четыре, увидишь церковь направо, а там всякий мальчишка тебе скажет, где Дюково.
В условленный день, на десятой версте за постоялым двором, мы повернули налево. При первой полевой дороге вправо я велел кучеру свернуть на нее.
– Должно быть, эта дорога не туда; что-то она больно вправо заворачивает, – пробормотал кучер.
– Пожалуйста, не умничай; сказано вправо, и поезжай вправо.
Лошади пустились большой рысью.
– Нет, тебя-то примет; да я советовал бы лучше не ходить. Там такой ералаш!
Тем не менее минут через пять я был уже в большом флигеле.
– Вот сюда пожалуйте, – сказал постаревший Андриян, отворяя мне дверь.
Софья Васильевна быстро скрылась при моем появлении. Тетушку я застал в серизовом шелковом платье, сидящую на диване. Глаза у нее были красны; на щеках еще оставались следы слез. С правой стороны дивана, на кресле, сидел большого роста пожилой человек, довольно плотный, но с необыкновенно тонкими чертами лица. Тетушка представила меня Чернецову. Несмотря на ее обычные «а, а!» и «о! о!», разговор не клеился, и я, заметив, что попал точно не вовремя, скоро раскланялся и ушел.
– Кто этот Чернецов? – спросил я Аполлона, воротись в его комнату.
– А! ты про Донкишота этого спрашиваешь: родной братец моей любезной тещи. Нечего сказать, славная семейка! Один другого стоит. Как же! нельзя! Нужный человек! Ты видел там у крыльца-то какой дормез? Да я плевать на них на всех хочу. Моя-то дражайшая половина нажаловалась, что ли, на меня. Ты знаешь мою деликатность. Я не способен вмешиваться в эти дрязги. Вот он ее теперь увозит – и слава богу: скорей со двора. А меня пусть извинят – не пойду прощаться.
Долго еще Аполлон варьировал на эту тему. Желая скрыть свое волнение, я перелистывал какой-то французский роман. Через несколько времени послышался легкий стук экипажа.
– Ну, слава богу, – взвизгнул Аполлон, – наконец я сделаюсь опять человеком!
Но стук все приближался и наконец смолк у крыльца.
– Что это такое? – спросил Аполлон, уставясь на меня.
Я сам был не менее изумлен. Дверь в комнату растворилась, и на пороге появилась огромная фигура Чернецова. Он быстро окинул комнату глазами и, оборотись назад, сказал вполголоса:
– Войди, Софи.
Молодая женщина вошла. Никогда я не забуду ее в эту минуту. На ней, как говорится, лица не было, а между тем, чего не было на этом лице: и стыд, и скорбь, и отчаянье! Ожидая неприятного объяснения и чего доброго, какой-нибудь катастрофы, я начал пробираться к дверям.
Заметив мое движение, Чернецов быстро схватил меня за руку.
– Извините, молодой человек, – сказал он, – что, не имея чести короткого знакомства, я распоряжаюсь вами в таком важном случае. Вы хотите уйти, а я, напротив, прошу вас остаться. Пусть между нами будет если не судья, то, по крайней мере, посторонний свидетель.
Что ж мне было делать? Я поклонился и остался.
– Аполлон Павлыч! – сказал Чернецов самым вежливым тоном, – мы пришли к вам за последним словом.
– Хотя я имел честь, – перебил Аполлон, нарочно утрируя вежливый тон, – сказать вчера мое последнее слово и madame и Софье Васильевне, тем не менее, желая быть вам приятным, готов повторить его снова.
– Вы непременно хотите оставить вашу дочь у себя? – сказал Чернецов.
– Непременно, – отвечал Аполлон, кланяясь, – это мое право.
– Я не думаю оспоривать ваших прав, не прошу вас сжалиться над несчастной матерью – это было бы напрасно, и я не пришел бы за этим, зная, как глубоко вы ненавидите мою племянницу. Обращаюсь к вам с другими доводами. Извините мою откровенность. Вашу ненависть к жене вы, кажется, ни перед кем не скрываете, но, по некоторым словам, сказанным вами вчера, я заключаю, что вы не менее равнодушны и к дочери. Подумайте: оставляя ее у себя, вы делаете жестокость, которая не только не принесет вам никакой пользы, но даже будет вам же самим в тягость.
– Благодарю вас за откровенность, – взвизгнул Аполлон, встряхнув скобкой и цинически улыбаясь, – буду отвечать вам тем же. Не скрываю перед вами моего равнодушия к дочери, но замечу: в вашей прекрасной речи вы забыли об одной вещи – о моей матери. Всякий пожилой человек имеет свои слабости. Вы любите спасать и покровительствовать, а моя мать любит воспитывать. Надо же ей какую-нибудь забаву… – прибавил он вполголоса, однако ж так, что все слышали.
При последнем слове Софья Васильевна судорожно закрыла лицо руками и так вскрикнула, что у меня сердце захолонуло.
– Пойдем, пойдем отсюда скорей! – вскричал Чернецов, взяв под руку племянницу, – это ужасный, это страшный человек!
– А я, напротив, жалею, что вы так скоро уходите, – пищал ему вслед Аполлон, задыхаясь от гнева, – вы очень забавны!
Дверцы стукнули, карета уехала. Аполлон, взволнованный, ходил по комнате. В первое время я до того ошеломлен был всем виденным и слышанным, что окончательно потерялся. Мало-помалу, однако ж, мысли мои стали проясняться. Что мне делать? Идти к тетушке – не время и некстати. Это батюшка поймет, если ему рассказать о случившемся; но велеть сейчас же запрягать лошадей и уехать – значило бы сделать некоторого рода скандал, которого батюшка не простит ни в каком случае. Скрепя сердце я принужден был обождать хотя столько, чтоб отъезд мой не имел вида разрыва. Волнение Аполлона тоже приутихло.
– Однако ж, – сказал он, остановясь среди комнаты, – соловья баснями не кормят. Будем обедать! Эй! накрывайте на стол! – крикнул он, выходя в переднюю, и вслед за тем послышался его шепот. – Да проворней поворачивайтесь! – громко прибавил он, входя в комнату.
Минут через пять два молодые лакея, которых прежде я никогда не видал, внесли четыреугольный складной стол. Нельзя сказать, чтобы слуги эти были особенно опрятно одеты. У одного узкий сюртук, вероятно с барского плеча, лопнул под мышкой, у другого на одной ноге штаны были сверх сапога, а на другой в сапоге. Накрывать небольшой складной стол принесли голландскую скатерть, на которой удобно могли бы обедать, по крайней мере, человек пятьдесят. Уж чего не делали с этою скатертью! и подворачивали-то ее по всем углам, и завязывали вокруг ножек, а все она еще лежала на полу. Серебра натаскали целый ворох.
– Какое ты пьешь вино? – спросил Аполлон, – красное, белое? крепкое? шипучее?
– Всякое, или, лучше сказать, никакого.
– Подай самого лучшего! – взвизгнул хозяин, обращаясь к лакею с прорехой под мышкой.
Мы сели за стол. Мизинцевская кухня в продолжение восьми или девяти лет мало подвинулась вперед.
Правда, блюда стали еще затейливее, явились новые термины: фрикандеи, суп с гнилями, маинесы, говядина превратилась в бафламут; но сущность осталась вся та же. Волос и тряпок в ней, кажется, еще прибыло. Лучшее вино оказалось до половины отлитой бутылкой, пополненной жидкостью неопределенного цвета. К счастью, благодаря предшествовавшей сцене аппетита у меня не было никакого; кусок не шел в горло.
– Человек! прикажи моему кучеру запрягать и подавать.
– Куда ж ты так скоро? Ночуй у меня.
– Нет, извини, брат, через четыре дня еду на службу; поэтому тороплюсь. Передай тетушке мое уважение и скажи, что я не хотел ее беспокоить.
Я вернулся домой. Еще несколько дней – и новая разлука. Кажется, давно ли, точно так же на неопределенный срок, покидал я родные места? Места те же, люди те же; но есть ли какое-нибудь сходство в чувстве тогдашнем и теперешнем? Отчего мне так не хочется, отчего мне жаль уезжать?..
–
Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурными пистолетами – нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве, но теперь, когда оно побледнело и заменилось новыми, которые возбуждены близкими утратами, мне как-то странно видеть эту рукопись. На что? для кого она? что она доказывает? Разве справедливость стиха: «Как наши годы-то летят! «Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику, да как он скажет: «Славно, Ковалев! Все, что я слышу, меня радует. Прекрасный будет офицер!» – так целый день готов делать приемы саблей и карабином. Кажется, это было за несколько недель, а вот уж шестой год, как я офицером, и два года каждый день кричу то же, что тогда кричали мне: «Корпус назад! колено назад! каблуки вниз! повод ближе к шее! смотреть между ушей, подбородка не вешать!» Но еще раз: кого это может интересовать? Разве товарищу прочесть на сон грядущий, а может быть, и С-вой. Она почти еще дитя. Но преумное и милое… К чему я ее тут приплел? Это глупо. Баста! Прощай, тетрадь! Ступай опять под пистолеты…
–
Опять на родине! Сколько раз завидовал я поэтам! Что за чудный дар сказать самую простую речь, которая, при известных обстоятельствах, каждому так и просится на язык, так и ложится под перо! Вот и теперь так и хочется продолжать: «Я посетил тот мирный уголок…» Кто не пережил, подобно мне, воротись, после долгого отсутствия, опять на родину, во всех родах этого стихотворения? «Уже старушки нет…»
Какая полнота и верность! какой напев! а между тем ни одной рифмы. Поставьте одну – и все пропало. Как бой часов прогоняет ночного духа, одна рифма – звонкий отголосок действительности – рассеяла бы задумчиво-сладостный, безмятежно-грустный сон давно минувшего. Говорят: следы сабельных ударов украшают мужественное лицо воина. Если это правда, то не как темно-красные полосы украшают они его, но как живая вывеска отваги, смотревшей прямо в глаза смерти, и силы, перенесшей жестокие удары. Не то же ли с нашим сердцем? Не потому ли воспоминания его тем слаще, чем глубже некогда оно было уязвлено? Не оттого ли так весело и больно тревожить язвы старых ран? Казалось, если б не дела, не поехал бы я домой: незачем! Дом пустой; одних уж нет, а те далече… Выходит, не то. Я здесь молодею многими годами. где-то теперь Василий Васильич? Где Сережа? Вот сиреневые кусты, под которыми ловились синицы. Вот Старые липы. Как-то они потемнели и шепчутся между Собою. На днях был у меня Морев и упросил приехать к нему. На замечание, что ни я, ни мои люди не знают к нему дороги, он принялся ее толковать:
– Знаешь, верстах в сорока постоялый двор, на большой проселочной дороге?
– Знаю.
– Помнишь, на десятой версте, за ним дорога разделилась: одна пошла направо, к Мизинцеву, а другая налево, ко мне. Только ты по ней не езди: верст пять крюку будет, а будет с нее направо полевая дорога, так ты по ней поезжай. Отъедешь версты четыре, увидишь церковь направо, а там всякий мальчишка тебе скажет, где Дюково.
В условленный день, на десятой версте за постоялым двором, мы повернули налево. При первой полевой дороге вправо я велел кучеру свернуть на нее.
– Должно быть, эта дорога не туда; что-то она больно вправо заворачивает, – пробормотал кучер.
– Пожалуйста, не умничай; сказано вправо, и поезжай вправо.
Лошади пустились большой рысью.