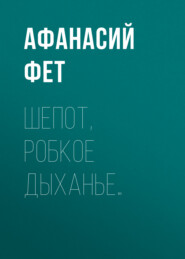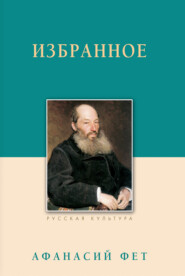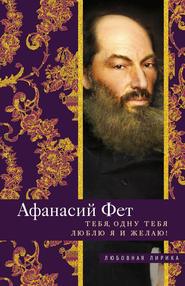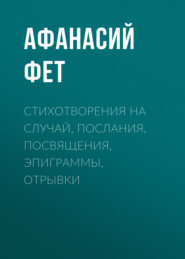По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Und was der Verstand der Verstand’gen nicht sieht
Das ubet in Einfalt ein Kindlich Jemuth»[61].
Эти стихи Александр Андреевич продекламировал, ходя уже по комнате.
– А теперь, – сказал он, подходя к дочери и гладя ее по голове, – перестань плакать, успокойся и будь умница.
Всю ночь затем Луиза провела в каком-то мучительном бреду. Своими беспощадными словами, смысла которых он сам, вероятно, хорошо не понимал, отец возмутил в ней все чувства, надорвал нервы. Мысли ее бродили в каком-то безвыходном лабиринте. «Я люблю отца, – думала она, – и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра, а выходит, что все меня любят, а я только всем мешаю. Все это какая-то ложь. Отец, может быть, и прав, и мое беспричинное нерасположение к Гольцу, может быть, тоже ложь. Одно ясно и несомненно, если я недовольно люблю отца, если я, как он говорит, люблю только себя, то мне нельзя оставаться в этом доме. Кто знает, может быть, судьба действительно посылает Гольца спасти меня? Недаром он сказал: «Es muss biegen oder Brechen!» Вот оно, я чувствую, сердце мое разрывается». После жгучей бессонницы, в продолжение которой все, что могло болеть, переболело в душе девушки, кризис совершился, и к утру она уснула. Проспав долее обыкновенного, она встала как бы другим существом. Она решилась и за кофеем объявила отцу о своем согласии выйти за Гольца. Отец расцеловал ее, называл всеми ласкательными именами и заключил тем, что вчерашние слова его были намеренно преувеличены, а что, в сущности, он никогда ничего другого не ожидал от ее нежного сердца. Словом, мир состоялся полный, и через две недели m-me Гольц была в городке К…, а еще через месяц Александр Андреевич сам ввел в обновленный дом свой жену-красавицу. Правда, он недолго наслаждался счастьем. Неотвязчивые поклонники, которых m-me Зальман принимала с самой откровенною любезностью, заставляли его ежечасно пылать адским огнем бессильной ревности, которая в один год иссушила его до совершенного подобия скелета и окончательно свела в могилу.
II
С первых дней водворения в доме мужа Луиза Александровна ревностно принялась устраивать то домашнее гнездышко, которого она лишилась со смертью матери и в котором ей было когда-то так хорошо. Вкусу у нее было много, а давно состоявший на службе Гольц из порядочного содержания сумел составить небольшой капиталец. В те времена жить в Новороссийском крае можно было на самые небольшие средства. Гвльц нисколько не мешал молодой жене в ее хозяйственных затеях. Ему, очевидно, нравился тот недорогой комфорт, каким она его окружила. Луиза старалась изучить вкусы мужа и, не входя в обсуждение его привычек, служила им с правильностью хронометра. Просыпаясь рано, Гольц любил полежать и даже напиться кофею в постели, – и душистый кофе приносился ему женой в самую раннюю утреннюю пору. Гольц любил обедать в одно время, и суповая чашка дымилась на столе в ту самую минуту, когда стенные часы били четыре раза, и т. д. По причине страшной ревности Гольца супруги не завели себе никакого круга знакомых. Сам он, так как в то время у него еще было много занятий по должности, рано уходил со двора и возвращался только к обеду. Уединенно просиживая долгие часы над рукоделием, Луиза невольно перебирала в уме свою жизнь. Чего бы не дала она, чтобы покойная мать хоть одним глазком посмотрела на ее хозяйство! Пусть бы она увидала, что я, Луиза, не какая-нибудь бестолковая белоручка. Взглянула бы, как свежи ее плющи на окнах, как у нее все чисто, в каком порядке белье и посуда, какой вкусный готовится бульон и как мастерски стала жарить кухарка, подававшая прежде какие-то засушенные кости. Какая бы это была блаженная минута! Конечно, мать не могла бы видеть того, что было у Луизы на душе, да и сама Луиза не могла ясно дать себе отчет, хотя живо, всем существом своим чувствовала это, – почему между ей и мужем стоит какая-то тень, даже и не тень, а какая-то пустота. Чего-то недостает. Между ними нет враждебности, зато нет и дружбы. Он ревнует ее, стало быть любит; но отчего же она не знает ни его образа мыслей, ни его убеждений? Да и как узнать их? С утра до пяти часов Гольц на службе. После обеда он садится у окна курить трехкопеечную сигару, затем пересматривает старые ветеринарные книги, или до чаю принимается за свое постоянное чтение, Мессиаду Клопштока[62]. В девять часов вечера Гольц уже в постели и тотчас засыпает. Впрочем, в короткие промежутки времени, когда жена могла обращаться к Гольцу с разговорами, ей нельзя было пожаловаться на его несообщительность. Он охотно говорил о служебных планах или домашнем быте. Сам, с видимым удовольствием, приготовлял, по просьбе жены, шарики для истребления мышей и отраву для мух. По опыту Луиза приноравливалась к симпатиям и антипатиям мужа, но когда разговор наталкивался на объяснения побудительных причин его требований, он сердился.
– Когда человек женится, – объявил он Луизе, – то жена к нему приходит в дом, а не он к ней. Кажется, ясно, punctum[63]. Говорю тебе раз навсегда, и, сделай милость, никогда не приставай ко мне с подобными глупостями.
Через год после свадьбы у них родилась дочь. Луиза сама кормила ребенка. Материнские заботы много развлекли и облегчили молодую женщину, но когда девочка засыпала и она садилась за рукоделье, прежнее раздумье и чувство одиночества овладевали ею. На второй год после рождения дочери весна была ранняя и дружная, что в Новороссийском крае не редкость. В начале апреля точно волшебный жезл тронет землю. Снег тает, в воздухе весна; жаворонки, копчики, орлы. Днепр уносит свой громоздкий лед и, разливаясь на целые версты по низменным берегам (плавням), вытесняет из русла все свои притоки. Травка зеленеет, и по затопленным низам буйными кустами лезет толстый камыш. Важные аисты и осторожные цапли безмолвно стерегут пробуждающихся лягушек. Чайки, кружась, и кувыркаясь над бесчисленными гагарами и утками, стараются высоким фальцетом перекричать их втору, за которой явственно слышны могучие басы оживших черепах. Солнце уже печет. Изредка набежит густое облако и обмоет землю чистым дождиком; затем тот же блеск и тот нее весенний гам. Во время половодья в прибрежных селениях и городах улицы нередко бывают залиты водой, а иногда жителям приходится на лодках переезжать на бивуаки под открытое небо, на соседние возвышенности.
«Но небо здесь к земле так благосклонно»[64].
Неизвестно, находил ли это Гольц, отправляясь весной ежедневно странствовать в воловий парк, где содержались все подъемные животные округа. Разлив рек, как мы уже заметили, был необыкновенно силен. Нижние улицы и городская площадь стояли в воде. Не залитой оставалась одна верхняя, так называемая Полковничья улица, и то в одном месте приходилось переходить через воду. Как ни жался Гольц к забору, но неглубокие калоши его каждый раз в этом месте черпали воду. Однажды утром, снова промочив ноги, Гольц почувствовал нестерпимую зубную боль. Ворочаться домой было далеко, да и не к чему, а идти на службу с такой болью почти не под силу. Вырвать этот зуб – и делу конец, подумал Гольц. Но кто вырвет?
Здесь необходимо сказать, что заштатный город К… [65], с самого учреждения военных кавалерийских поселений в Новороссийском крае, был центром военного округа, а следовательно, и штабом полка, и в нем одновременно были два ведомства: поселенное, к которому, между прочим, принадлежал сам Гольц, и действующее, то есть полковой командир и 1-й эскадрон поселенного полка. Квартиры полкового фельдшера Гольц не знал, да без докторской записки фельдшер, пожалуй, рвать не станет. Пришлось зайти к доктору, который кстати жил на большой улице, в стареньком, деревянном доме, против единоверческого священника. Так как заболевающие нижние чины поступали в военный госпиталь, а офицеры редко хворали, то полковому лекарю положительно делать было нечего. Таким счастливым положением Иринарх Иванович Богоявленский[66] пользовался вполне и в душе благодарил начальство, избавившее его, во внимание к его значительной тучности, от обязанности являться у фронта верхом. Ходить по чужим квартирам Иринарх Иванович не любил. Получив за женой в приданое небольшой дом с садом, Богоявленский постоянно копался в этом саду, который содержал в примерном порядке и даже развел в нем худо вызревавший виноград. Отяжелев в последнее время, он уже не с прежней ревностью занимался садоводством, а, наблюдая только за плантацией красного перца, большую часть времени проводил в кабинете, изредка заглядывая в древних классиков и перечитывая своего любимца Вольтера. Форменного платья он терпеть не мог. Постоянным его костюмом было широкое, парусинное пальто. Утром и вечером, ища прохлады, объемистый Иринарх Иванович помещался у растворенного на улицу окна. В это время под рукой на столике стояли около него селедка, маленькая рюмочка и графин с настойкой из красного перца, которую он называл anticholericum. Небольшие глотки из рюмки возбуждали в Иринархе Ивановиче веселое и созерцательное расположение, но окончательно до пьяна он никогда не напивался. Привлекаемый такой соблазнительной обстановкой, к Богоявленскому с давних пор повадился ходить сосед через улицу, известный всему городу под именем Сидорыча. Худощавый, сгорбившийся брюнет, с воспаленными глазками, Сидорыч, выгнанный из духовной академии за пьянство, проживал у родственника своего, единоверческого священника. Летом он ходил в затасканном длиннополом нанковом сюртуке, а зимой сверх него надевал гороховую фризовую шинель в три воротника. Заходил Сидорыч к Богоявленскому только по утрам, так как вечером, по слабости, не мог этого исполнить, да и Богоявленский бы его не принял. В то утро, когда Гольц, почувствовав зубную боль, решился зайти к доктору, Сидорыч, заметив, что у Богоявленского ставни открыты и доктор уже сидит с расстегнутою грудью у растворенного окна, согнувшись, перешел через улицу и, не подымая головы, робко спросил под окном:
– А что, Иринарх Иванович, можно?
– А! червь злосчастный! – воскликнул Богоявленский, – заходи, ничего!
Сидорыч юркнул в калитку, но, увидав на дворе докторшу, смутился. Женщина в грязном капоте и таком же чепце развешивала на заборе белье.
– Опять! – крикнула она, сердито взглянув на Сидорыча.
– Сам позвал, – внушительно ответил Сидорыч и прошмыгнул в сени.
– С добрым утром, Иринарх Иванович! – сказал Сидорыч, три раза перекрестясь на образ и низко кланяясь хозяину.
– Садись, – сказал Богоявленский, указывая жирным пальцем на грязный кожаный стул. – Рассказывай, что нового в городе и как вчера подвизался по части крючкотворства?
– Алтухину важнейшее, могу сказать, прошенье смастерил и был за то подобающим образом ублаготворен очищенной. Даже целковнику приполучил; но «infandum regina jubes renovare dolorem!»[67] попадья наша пронюхала и отняла. Орлом на меня, смиренного агнца, налетела: «In ovilia demisit hostem vividus impetus»;[68] я было вспомнил reluctantes dracones[69], да куда тебе, так и подхватила мой карбованчик. Много, говорит, вас, дармоедов.
– Дома доктор? – спросил Гольц, остановись пред растворенным окном.
– Дома, пожалуйте! – отвечал Богоявленский.
Через минуту Гольц вошел в кабинет и, объяснив причину прихода, стал просить записки к фельдшеру.
– Позвольте взглянуть на ваш зуб, – сказал Иринарх Иванович, – ну, батюшка, прибавил он, окончив осмотр, зуб, на который вы жалуетесь, совершенно крепок, и рвать его не следует. Вспомните-ка quae medicamenta non sanant ferrum sanat[70]. Так сперва попробуем medicamenta, a ferrum – то всегда у нас в руках. Вот уж сейчас поколдуем. Только с условием – вполне слушаться врача, коли пришли!
– О, конечно, конечно! – промычал Гольц.
Богоявленский прошел в соседнюю комнату и, через минуту выходя, вынес кусочек ваты и пузырек.
– Эту штуку вы положите на больной зуб и садитесь вот сюда на диван. Прекрасно, – сказал он, когда Гольц уселся на указанном месте, – а теперь потрудитесь снять ваши сапоги.
– Помилуйте, зачем же? – возразил Гольц.
– Помните уговор слушаться – и снимайте. Червь! – обратился он к Сидорычу, – сходи-ка ко мне в спальню и под кроватью поищи валенки, а докторские сапоги и калоши отдай на кухню просушить. Проворней изгибайся! Ну, что ваш зуб? – спросил он Гольца, когда все его распоряжения были исполнены.
– Еще подергивает, но стал затихать.
– Погодите и совсем пройдет. А я очень рад, что хоть этот и пустой случай завел вас в мою хату. Вы-то меня не знаете, а я вас давно знаю. Вы тут каждый день проходите перед моим окном к должности. Вот, думаю, гордый collega, чтоб этак зайти да перекинуться словечком. Как ни говорите, хоть и в разных местах учились, а все мы дети одной и той же науки.
– Я сам завсегда очень рад, – бормотал Гольц, которому, очевидно, было лестно попасть в коллеги к Богоявленскому. – Ви позволяйте мене, – обратился он к хозяину, – малинька сигара закуривайть?
– Сделайте одолжение, это в настоящем случае даже может быть вам полезно. А что зуб? – спросил он Гольца немного погодя.
– Совсем замолк, – улыбаясь, отвечал Гольц.
– Ну теперь вату-то вон и наливайте рюмочку. Рекомендую – anticholericum.
– Не рано ли будить?
– А уговор? Червь! наливай и подавай лекарство.
Гольц выпил, и через минуту приятная теплота пробежала по телу.
– А мне можно червяка-то заморить? – робко проговорил Сидорыч.
– Мори, – отвечал Богоявленский, – да ведь у меня ты его не заморишь, а только раздразнишь.
– Редкостнейший, можно сказать, у вас, Иринар Иванович, опрокидант, – воскликнул Сидорыч, осушив полную рюмку.
– Ведь вот, даром что червь, – сказал Богоявленский, указывая на Сидорыча, – а тоже одного с нами поля ягода. Отлично учился, да своего-то запасу больно скудно и тот на шкалики разменял. Вот и вышел червь-ничтожество.
– Это вы сатиру Персия вспомнили: «Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti»[71], – продекламировал Сидорыч.
– Молодец червь! Удивительная у него память! – обратился Богоявленский к Гольцу. – Только заведите, так и засыплет цитатами. Ведь чем дороги древние? Вон за него даже думают. Так сболтнул, а возражение во второй половине стиха вышло превосходное. Коли ничто не может обратиться в ничтожество, стало быть, и Сидорыч не nihil[72].
– Как вы это прекрасно повернули! – вставил Гольц.
– А между тем вам пора лекарство принимать.
– Не много ли будет, я право… – мямлил Гольц.
– Полноте, вы мужчина, да еще бывший бурш. Вспомните-ка старину.
– Да, да, точно. О! – отвечал Гольц и осклабился, поддаваясь набегающему на него веселью.
– Червь, repeticio![73]
Das ubet in Einfalt ein Kindlich Jemuth»[61].
Эти стихи Александр Андреевич продекламировал, ходя уже по комнате.
– А теперь, – сказал он, подходя к дочери и гладя ее по голове, – перестань плакать, успокойся и будь умница.
Всю ночь затем Луиза провела в каком-то мучительном бреду. Своими беспощадными словами, смысла которых он сам, вероятно, хорошо не понимал, отец возмутил в ней все чувства, надорвал нервы. Мысли ее бродили в каком-то безвыходном лабиринте. «Я люблю отца, – думала она, – и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра, а выходит, что все меня любят, а я только всем мешаю. Все это какая-то ложь. Отец, может быть, и прав, и мое беспричинное нерасположение к Гольцу, может быть, тоже ложь. Одно ясно и несомненно, если я недовольно люблю отца, если я, как он говорит, люблю только себя, то мне нельзя оставаться в этом доме. Кто знает, может быть, судьба действительно посылает Гольца спасти меня? Недаром он сказал: «Es muss biegen oder Brechen!» Вот оно, я чувствую, сердце мое разрывается». После жгучей бессонницы, в продолжение которой все, что могло болеть, переболело в душе девушки, кризис совершился, и к утру она уснула. Проспав долее обыкновенного, она встала как бы другим существом. Она решилась и за кофеем объявила отцу о своем согласии выйти за Гольца. Отец расцеловал ее, называл всеми ласкательными именами и заключил тем, что вчерашние слова его были намеренно преувеличены, а что, в сущности, он никогда ничего другого не ожидал от ее нежного сердца. Словом, мир состоялся полный, и через две недели m-me Гольц была в городке К…, а еще через месяц Александр Андреевич сам ввел в обновленный дом свой жену-красавицу. Правда, он недолго наслаждался счастьем. Неотвязчивые поклонники, которых m-me Зальман принимала с самой откровенною любезностью, заставляли его ежечасно пылать адским огнем бессильной ревности, которая в один год иссушила его до совершенного подобия скелета и окончательно свела в могилу.
II
С первых дней водворения в доме мужа Луиза Александровна ревностно принялась устраивать то домашнее гнездышко, которого она лишилась со смертью матери и в котором ей было когда-то так хорошо. Вкусу у нее было много, а давно состоявший на службе Гольц из порядочного содержания сумел составить небольшой капиталец. В те времена жить в Новороссийском крае можно было на самые небольшие средства. Гвльц нисколько не мешал молодой жене в ее хозяйственных затеях. Ему, очевидно, нравился тот недорогой комфорт, каким она его окружила. Луиза старалась изучить вкусы мужа и, не входя в обсуждение его привычек, служила им с правильностью хронометра. Просыпаясь рано, Гольц любил полежать и даже напиться кофею в постели, – и душистый кофе приносился ему женой в самую раннюю утреннюю пору. Гольц любил обедать в одно время, и суповая чашка дымилась на столе в ту самую минуту, когда стенные часы били четыре раза, и т. д. По причине страшной ревности Гольца супруги не завели себе никакого круга знакомых. Сам он, так как в то время у него еще было много занятий по должности, рано уходил со двора и возвращался только к обеду. Уединенно просиживая долгие часы над рукоделием, Луиза невольно перебирала в уме свою жизнь. Чего бы не дала она, чтобы покойная мать хоть одним глазком посмотрела на ее хозяйство! Пусть бы она увидала, что я, Луиза, не какая-нибудь бестолковая белоручка. Взглянула бы, как свежи ее плющи на окнах, как у нее все чисто, в каком порядке белье и посуда, какой вкусный готовится бульон и как мастерски стала жарить кухарка, подававшая прежде какие-то засушенные кости. Какая бы это была блаженная минута! Конечно, мать не могла бы видеть того, что было у Луизы на душе, да и сама Луиза не могла ясно дать себе отчет, хотя живо, всем существом своим чувствовала это, – почему между ей и мужем стоит какая-то тень, даже и не тень, а какая-то пустота. Чего-то недостает. Между ними нет враждебности, зато нет и дружбы. Он ревнует ее, стало быть любит; но отчего же она не знает ни его образа мыслей, ни его убеждений? Да и как узнать их? С утра до пяти часов Гольц на службе. После обеда он садится у окна курить трехкопеечную сигару, затем пересматривает старые ветеринарные книги, или до чаю принимается за свое постоянное чтение, Мессиаду Клопштока[62]. В девять часов вечера Гольц уже в постели и тотчас засыпает. Впрочем, в короткие промежутки времени, когда жена могла обращаться к Гольцу с разговорами, ей нельзя было пожаловаться на его несообщительность. Он охотно говорил о служебных планах или домашнем быте. Сам, с видимым удовольствием, приготовлял, по просьбе жены, шарики для истребления мышей и отраву для мух. По опыту Луиза приноравливалась к симпатиям и антипатиям мужа, но когда разговор наталкивался на объяснения побудительных причин его требований, он сердился.
– Когда человек женится, – объявил он Луизе, – то жена к нему приходит в дом, а не он к ней. Кажется, ясно, punctum[63]. Говорю тебе раз навсегда, и, сделай милость, никогда не приставай ко мне с подобными глупостями.
Через год после свадьбы у них родилась дочь. Луиза сама кормила ребенка. Материнские заботы много развлекли и облегчили молодую женщину, но когда девочка засыпала и она садилась за рукоделье, прежнее раздумье и чувство одиночества овладевали ею. На второй год после рождения дочери весна была ранняя и дружная, что в Новороссийском крае не редкость. В начале апреля точно волшебный жезл тронет землю. Снег тает, в воздухе весна; жаворонки, копчики, орлы. Днепр уносит свой громоздкий лед и, разливаясь на целые версты по низменным берегам (плавням), вытесняет из русла все свои притоки. Травка зеленеет, и по затопленным низам буйными кустами лезет толстый камыш. Важные аисты и осторожные цапли безмолвно стерегут пробуждающихся лягушек. Чайки, кружась, и кувыркаясь над бесчисленными гагарами и утками, стараются высоким фальцетом перекричать их втору, за которой явственно слышны могучие басы оживших черепах. Солнце уже печет. Изредка набежит густое облако и обмоет землю чистым дождиком; затем тот же блеск и тот нее весенний гам. Во время половодья в прибрежных селениях и городах улицы нередко бывают залиты водой, а иногда жителям приходится на лодках переезжать на бивуаки под открытое небо, на соседние возвышенности.
«Но небо здесь к земле так благосклонно»[64].
Неизвестно, находил ли это Гольц, отправляясь весной ежедневно странствовать в воловий парк, где содержались все подъемные животные округа. Разлив рек, как мы уже заметили, был необыкновенно силен. Нижние улицы и городская площадь стояли в воде. Не залитой оставалась одна верхняя, так называемая Полковничья улица, и то в одном месте приходилось переходить через воду. Как ни жался Гольц к забору, но неглубокие калоши его каждый раз в этом месте черпали воду. Однажды утром, снова промочив ноги, Гольц почувствовал нестерпимую зубную боль. Ворочаться домой было далеко, да и не к чему, а идти на службу с такой болью почти не под силу. Вырвать этот зуб – и делу конец, подумал Гольц. Но кто вырвет?
Здесь необходимо сказать, что заштатный город К… [65], с самого учреждения военных кавалерийских поселений в Новороссийском крае, был центром военного округа, а следовательно, и штабом полка, и в нем одновременно были два ведомства: поселенное, к которому, между прочим, принадлежал сам Гольц, и действующее, то есть полковой командир и 1-й эскадрон поселенного полка. Квартиры полкового фельдшера Гольц не знал, да без докторской записки фельдшер, пожалуй, рвать не станет. Пришлось зайти к доктору, который кстати жил на большой улице, в стареньком, деревянном доме, против единоверческого священника. Так как заболевающие нижние чины поступали в военный госпиталь, а офицеры редко хворали, то полковому лекарю положительно делать было нечего. Таким счастливым положением Иринарх Иванович Богоявленский[66] пользовался вполне и в душе благодарил начальство, избавившее его, во внимание к его значительной тучности, от обязанности являться у фронта верхом. Ходить по чужим квартирам Иринарх Иванович не любил. Получив за женой в приданое небольшой дом с садом, Богоявленский постоянно копался в этом саду, который содержал в примерном порядке и даже развел в нем худо вызревавший виноград. Отяжелев в последнее время, он уже не с прежней ревностью занимался садоводством, а, наблюдая только за плантацией красного перца, большую часть времени проводил в кабинете, изредка заглядывая в древних классиков и перечитывая своего любимца Вольтера. Форменного платья он терпеть не мог. Постоянным его костюмом было широкое, парусинное пальто. Утром и вечером, ища прохлады, объемистый Иринарх Иванович помещался у растворенного на улицу окна. В это время под рукой на столике стояли около него селедка, маленькая рюмочка и графин с настойкой из красного перца, которую он называл anticholericum. Небольшие глотки из рюмки возбуждали в Иринархе Ивановиче веселое и созерцательное расположение, но окончательно до пьяна он никогда не напивался. Привлекаемый такой соблазнительной обстановкой, к Богоявленскому с давних пор повадился ходить сосед через улицу, известный всему городу под именем Сидорыча. Худощавый, сгорбившийся брюнет, с воспаленными глазками, Сидорыч, выгнанный из духовной академии за пьянство, проживал у родственника своего, единоверческого священника. Летом он ходил в затасканном длиннополом нанковом сюртуке, а зимой сверх него надевал гороховую фризовую шинель в три воротника. Заходил Сидорыч к Богоявленскому только по утрам, так как вечером, по слабости, не мог этого исполнить, да и Богоявленский бы его не принял. В то утро, когда Гольц, почувствовав зубную боль, решился зайти к доктору, Сидорыч, заметив, что у Богоявленского ставни открыты и доктор уже сидит с расстегнутою грудью у растворенного окна, согнувшись, перешел через улицу и, не подымая головы, робко спросил под окном:
– А что, Иринарх Иванович, можно?
– А! червь злосчастный! – воскликнул Богоявленский, – заходи, ничего!
Сидорыч юркнул в калитку, но, увидав на дворе докторшу, смутился. Женщина в грязном капоте и таком же чепце развешивала на заборе белье.
– Опять! – крикнула она, сердито взглянув на Сидорыча.
– Сам позвал, – внушительно ответил Сидорыч и прошмыгнул в сени.
– С добрым утром, Иринарх Иванович! – сказал Сидорыч, три раза перекрестясь на образ и низко кланяясь хозяину.
– Садись, – сказал Богоявленский, указывая жирным пальцем на грязный кожаный стул. – Рассказывай, что нового в городе и как вчера подвизался по части крючкотворства?
– Алтухину важнейшее, могу сказать, прошенье смастерил и был за то подобающим образом ублаготворен очищенной. Даже целковнику приполучил; но «infandum regina jubes renovare dolorem!»[67] попадья наша пронюхала и отняла. Орлом на меня, смиренного агнца, налетела: «In ovilia demisit hostem vividus impetus»;[68] я было вспомнил reluctantes dracones[69], да куда тебе, так и подхватила мой карбованчик. Много, говорит, вас, дармоедов.
– Дома доктор? – спросил Гольц, остановись пред растворенным окном.
– Дома, пожалуйте! – отвечал Богоявленский.
Через минуту Гольц вошел в кабинет и, объяснив причину прихода, стал просить записки к фельдшеру.
– Позвольте взглянуть на ваш зуб, – сказал Иринарх Иванович, – ну, батюшка, прибавил он, окончив осмотр, зуб, на который вы жалуетесь, совершенно крепок, и рвать его не следует. Вспомните-ка quae medicamenta non sanant ferrum sanat[70]. Так сперва попробуем medicamenta, a ferrum – то всегда у нас в руках. Вот уж сейчас поколдуем. Только с условием – вполне слушаться врача, коли пришли!
– О, конечно, конечно! – промычал Гольц.
Богоявленский прошел в соседнюю комнату и, через минуту выходя, вынес кусочек ваты и пузырек.
– Эту штуку вы положите на больной зуб и садитесь вот сюда на диван. Прекрасно, – сказал он, когда Гольц уселся на указанном месте, – а теперь потрудитесь снять ваши сапоги.
– Помилуйте, зачем же? – возразил Гольц.
– Помните уговор слушаться – и снимайте. Червь! – обратился он к Сидорычу, – сходи-ка ко мне в спальню и под кроватью поищи валенки, а докторские сапоги и калоши отдай на кухню просушить. Проворней изгибайся! Ну, что ваш зуб? – спросил он Гольца, когда все его распоряжения были исполнены.
– Еще подергивает, но стал затихать.
– Погодите и совсем пройдет. А я очень рад, что хоть этот и пустой случай завел вас в мою хату. Вы-то меня не знаете, а я вас давно знаю. Вы тут каждый день проходите перед моим окном к должности. Вот, думаю, гордый collega, чтоб этак зайти да перекинуться словечком. Как ни говорите, хоть и в разных местах учились, а все мы дети одной и той же науки.
– Я сам завсегда очень рад, – бормотал Гольц, которому, очевидно, было лестно попасть в коллеги к Богоявленскому. – Ви позволяйте мене, – обратился он к хозяину, – малинька сигара закуривайть?
– Сделайте одолжение, это в настоящем случае даже может быть вам полезно. А что зуб? – спросил он Гольца немного погодя.
– Совсем замолк, – улыбаясь, отвечал Гольц.
– Ну теперь вату-то вон и наливайте рюмочку. Рекомендую – anticholericum.
– Не рано ли будить?
– А уговор? Червь! наливай и подавай лекарство.
Гольц выпил, и через минуту приятная теплота пробежала по телу.
– А мне можно червяка-то заморить? – робко проговорил Сидорыч.
– Мори, – отвечал Богоявленский, – да ведь у меня ты его не заморишь, а только раздразнишь.
– Редкостнейший, можно сказать, у вас, Иринар Иванович, опрокидант, – воскликнул Сидорыч, осушив полную рюмку.
– Ведь вот, даром что червь, – сказал Богоявленский, указывая на Сидорыча, – а тоже одного с нами поля ягода. Отлично учился, да своего-то запасу больно скудно и тот на шкалики разменял. Вот и вышел червь-ничтожество.
– Это вы сатиру Персия вспомнили: «Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti»[71], – продекламировал Сидорыч.
– Молодец червь! Удивительная у него память! – обратился Богоявленский к Гольцу. – Только заведите, так и засыплет цитатами. Ведь чем дороги древние? Вон за него даже думают. Так сболтнул, а возражение во второй половине стиха вышло превосходное. Коли ничто не может обратиться в ничтожество, стало быть, и Сидорыч не nihil[72].
– Как вы это прекрасно повернули! – вставил Гольц.
– А между тем вам пора лекарство принимать.
– Не много ли будет, я право… – мямлил Гольц.
– Полноте, вы мужчина, да еще бывший бурш. Вспомните-ка старину.
– Да, да, точно. О! – отвечал Гольц и осклабился, поддаваясь набегающему на него веселью.
– Червь, repeticio![73]