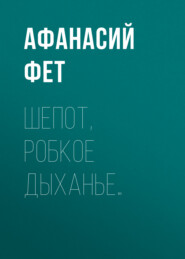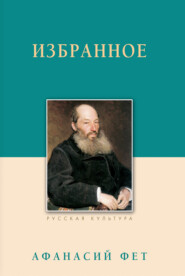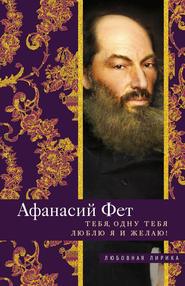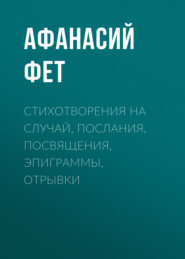По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да скажи же что-нибудь! – умоляла Луиза, – может быть, тебе понадобились деньги и ты сам взял их?
– Понадобились, я и взял собственные деньги, – отвечал Гольц, разводя руками. – Ну, что еще надо? А мне надо обедать.
Луиза Александровна не сказала ни слова, но на другой день стала проситься у мужа в Кременчуг. Гольц и слушать не хотел. Тем не менее, поручив преданной Фекле надзор за детьми, Луиза отправилась при первой возможности с попутчиком в Кременчуг и там отыскала генеральшу Лесовскую. Тридцатипятилетняя богатая вдовушка-генеральша, одна из учениц покойной госпожи Зальман, с малолетства была очень, дружна с Луизой, и к ней-то последняя решилась, обратиться за советом, как к единственной особе, могущей принять в ней участие. Луиза не обманулась в своей надежде. Переговорив с Лесовскою, известной франтихой, она устроила дело так, что генеральша, получавшая через Одессу все новости дамского туалета из Парижа, стала пересылать Луизе образчики, по которым последняя с замечательной спешностью и искусством приготовляла модное белье. Лесовская взялась рекомендовать и продавать товар знакомым богатым барыням и невестам, и таким образом Луиза Александровна, вырабатывая до тридцати рублей серебром в месяц, снова оградила семейство от крайней нищеты. Вероятно, Лесовская, под предлогом удачной продажи, тайно прибавляла денег от себя. Дела пошли своим порядком. Никто не слыхал ни малейшей жалобы от Луизы Александровны, но мало-помалу зрение от усиленной работы стало изменять ей, и домашние обстоятельства снова расстроились. Преданная Фекла, уже два года не получавшая жалованья, несмотря на просьбы Луизы, ни за что не хотела оставить семейства, которому ее услуги были необходимы; но не видя возможности платить жалованье, Луиза наотрез отказала ей и со слезами отпустила свою кухарку. Целое лето сама исполняла все работы по домашнему хозяйству. Но что предстояло осенью и зимой – страшно было подумать. Да и кому нужно было думать о деле, о котором не думал сам хозяин?
IV
В сороковых годах полком нашим командовал всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б… Штаб полка находился в городке К…, лежащем на берегу одного из днепровских притоков. Замечательный кавалерист и тонкий знаток лошадей, барон Б… весьма серьезно смотрел на службу, что не мешало ему с жадностью читать новейшие произведения французской и русской литературы, быть самым любезным собеседником и страшным хлебосолом. Он бывал не в духе, когда штабные офицеры не все у него за обеденным столом. Правда, обед барона не отличался дорогими тонкостями и высокими винами: это не позволяли его небольшие средства; но повар его из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями. Барон вставал рано, особенно летом (а лето в Новороссии чуть не круглый год), и прямо отправлялся пешком в конный лазарет, хотя последний находился, по крайней мере, в полутора верстах от его квартиры. В этих утренних странствиях ему ежедневно приходилось проходить мимо моей квартиры; но, зная, что его полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность) не выходит в канцелярию до восьми часов, он никогда не тревожил меня ранними визитами. Хотя письменная отчетность о поступающих в лазарет и возвращающихся в эскадроны лошадях и лежала на мне и барон требовал большого порядка по этой части, тем не менее смотреть за лазаретом не входило в круг моих непременных обязанностей. Но, бывало, ничем нельзя так расположить почтенного Карла Федоровича, как добровольным сопутствованием в его прогулках в конный лазарет. Там он делался особенно сообщителен. Не было конца его сожалениям, соображениям, надеждам и практическим замечаниям. Строгий рационалист во всем остальном, он делался в области конного лазарета каким-то эмпириком, чуть не колдуном. Вполне доверяясь образованному и примерному молодому ветеринару, барон тут же из-под руки пичкал больным лошадям бог знает откуда почерпнутые секретные средства, и, надо сказать правду, весьма часто с неожиданным успехом. Из числа многих привожу следующий пример: известное худосочие (тельчак) не уступает никакому так называемому рациональному лечению. Шея, передние и задние ноги лошади сначала изредка, потом все чаще и чаще покрываются круглыми худокачественными язвами, приводящими организм к окончательному разложению и смерти животного. Болезнь эта в высшей степени заразительна. Как теперь помню, приведена была лошадь, красавица, девяти вершков, фланговая 3-го эскадрона, Готф. Напрасно ретивый юноша ветеринар истощал свою ученость, совал меркуриальные препараты, прижигал ранки раскаленным железом, – ничто не помогало. Барон не мог без волнения говорить о красавце Готфе. «Знаете ли, – сказал он мне однажды, – пусть Григорий Иванович убивается над неизлечимою болезнью, а я дам Готфу ящерицу».
– Какую ящерицу? – невольно спросил я.
– Простую, серую, каких по степи тысячи. Только как поймать ее.
– На этот счет не беспокойтесь, – сказал я, – сейчас будет вам представлено десять, двадцать, сколько угодно.
– Пожалуйста.
Обещав уличным мальчикам гривенник и снабдив их поливенным горшком, я через час получил желаемое. Ящерицы были в завязанном горшке высушены в печи, а на другой день, в виде порошка, даны больному Готфу. После двух-трех приемов ранки стали заживать, и через две недели Готф веселый, отправился в эскадрон, где на моих глазах прослужил четыре года, а сколько после меня – не знаю.
Штабная жизнь наша не отличалась разнообразием. Утром манеж, канцелярия, а вечера мы почти неразлучно с бароном проводили у городских знакомых, кружок которых был весьма необширен. Добрейший холостяк – бригадный генерал. У него же был и бильярд, и потому мы нередко заглядывали к нему в однообразные зимние вечера. Еще два дома приезжих помещиков и неизменный Федор Федорович Гертнер, начальник округа. Нельзя на некоторое время не остановиться на этом лице. Представьте себе маленького, живого, с красным рябоватым лицом и картофельным носом старичка лет шестидесяти, в черном парике, с нафабренными усами, которые то и дело лезут ему в рот, с черными добродушными глазами, которые, одушевляясь, начинают сверкать и бегать. Прибавьте, что он и жена его, добродушнейшая и образованная Марья Ивановна, великие мастера заказать обед и охотники угостить, что никто раньше их не достанет дупелей, первых редисок, огурцов, арбуза и т. д., что он любит свою престарелую Маню, так он называет Марью Ивановну, обожает своих ребятишек: девочку двенадцати и мальчика восьми лет, никому не способен заведомо вредить, – все это еще не даст вам понятия о Федоре Федоровиче. Федор Федорович, рассказывая какой-либо забавный случай, сам нередко от души хохочет, но на такие темы он нападает случайно; по большей части в разговорах он нарочно подыскивает обстоятельства и столкновения, возбуждающие его стремительную раздражительность. Это, разумеется, бывает в кругу людей близких, и тут свои любимые слова «Боже мой! Боже мой! ах, какая каналья!» он произносит таким гортанным голосом, как будто щелкает большой грецкий орех. Дело в том, что трагизм полковника Гертнера нисколько не сообщителен, а напротив, постоянно возбуждал в слушателях неудержимый, неизбежный смех. Бывало, сколько себя ни уговариваешь, что непристойно смеяться в глаза старому, добродушному человеку, но стоит Федору Федоровичу закипеть, и все пропало. Кажется, ожидай человека гильотина, и то бы не удержался. Закипал же и раздражался Федор Федорович даже при таких воспоминаниях, которые очевидно были ему приятны. Любя и понимая строительную часть, он, в качестве окружного начальника, действительно щегольски отстроил некоторые штабные помещения, в том числе и небольшой, занимаемый мною домик. Но когда речь заходила об этих постройках, никакие заявления признательности не могли удержать Федора Федоровича от восклицаний: «Помилуйте! разве я смею поставить эти медные замки, задвижки, ручки и заслонки в смету? Разве начальство примет на казенный счет лакированные полы? Вот я скоро брошу эту каторгу, тогда посмотрите, будет ли вам новый окружной доставлять такие удобства? А то все Федор Федорович не хорош…» и т. д. Я знал Федора Федоровича давно. При моем поступлении в полк Гертнер был еще во фронте дивизионером. На нем был тот же черный парик и тот же ореол комизма. Кажется, никого судьба не ставила в такие комические положения, в каких зачастую бывал Федор Федорович. Чтобы не утомить читателя, ограничимся следующим случаем. Во время первого моего майского компамента Федор Федорович, в качестве старшего дивизионера, выезжал пред дивизионом и, следовательно, появлялся в виду всех в одиночку во всей красе. Хотя по чересчур маленькому росту ему не следовало служить в кирасирах, но для офицеров нет определенной меры. Зато такая мера существует для лошадей, и на гусарской лошади нельзя ездить пред кирасирским фронтом. В наше время ниже четырех вершков у офицерской лошади не допускалось. Представьте же себе комическую фигуру старого полковника на широкой четырехвершковой матке, объем которой чуть не удвоился вследствие того, что она бережа. Всякий кавалерист вам скажет, что третья часть полка состоит из маток, и никогда не случается, чтобы простая, солдатская матка пришла в подобное состояние. Все условия присмотра таковы, что этого случиться не может. Под какою же комическою звездой должен родиться Федор Федорович, чтобы с его единственной маткой случился подобный казус? Нельзя было слишком осуждать наших кирасир, когда появление полковника Гертнера на его бережей матке возбуждало общую веселость. Разумеется, при появлении полкового командира пред фронтом хихиканье умолкало и все принимало серьезный вид. На одном учении, пред началом которого фигура Гертнера на его матке показалась всем что-то чересчур комичною, полку, после продолжительных и быстрых построений, скомандовано было выстроить фронт. Когда поднятая движением пыль стала опадать, заметили, что третьего дивизионера пред фронтом нет; когда же пыль окончательно улеглась, то увидали Федора Федоровича лежащим вместе с лошадью на земле и напрасно старающимся освободить свои ноги из поводьев, в которые он попал шпорами.
– Что такое? что такое? хи-хи-хи, – разнеслось по фронту.
Желая поскорей окончить эту сцену, полковой командир послал трубача слезть и помочь полковнику встать. Но и тот не тотчас освободил полковника, а между тем его лошадь мешала видеть подробности происшествия.
– Что ты там возишься? – крикнул полковой командир на трубача. – Что там случилось?
– Ожеребился, ваше высокоблагородие! – закричал трубач во все горло, стараясь, чтобы слова его были внятны полковому командиру. С этим словом вся дисциплина пропала. Раздался гомерический смех восьмисот человек. Сам полковой командир расхохотался и, скомандовав: палаши в ножны, пики за плечи, распустил полк. Трудно предположить, чтобы Федор Федорович в сущности изменился только потому, что из действующих перешел в поселенные.
Кажется, ни к чему в такой степени, как к провинциальной штабной жизни, не относится пословица: «Дела не делай и от дела не бегай». И поехал бы верст за шестьдесят или за сто к знакомым помещикам отдохнуть среди роскошной обстановки, освежиться общением с более широкими интересами, да как подумаешь, что, может быть, не успеешь выехать, а тут экстра из дивизии или, чего доброго, нагрянет сам начальник штаба, так и пойдешь к тому же бригадному генералу или к Федору Федоровичу. Нечего говорить, что однообразные уличные явления небольшого городка были нам знакомы до пресыщения и скуки. С некоторыми жителями, приходившими в Казенный сад слушать трубачей, у нас возникало даже так называемое шапочное знакомство, но на этом дело и кончилось, так как не было повода вникать в их домашнюю жизнь. Для меня исключением было на некоторое время семейство поселенного ветеринара Гольца. С самого поступления моего в полк глаза мои привыкли в известные часы дня встречать на тротуаре довольно оригинальную фигуру. В эти часы, вдоль серых заборов, торопливо и как бы желая поскорее скрыться от докучных наблюдателей, проходит небольшой человечек. С виду ему было лет под пятьдесят. Широкое, скулистое лицо с черными нависшими бровями, носом пуговицей, широкими плоскими губами крепко сложенным ртом и худо выбритым подбородком, постоянно выражало какое-то презрительное неудовольствие. Кроме этого выражения, лицо это представляло сплюснутость каучуковой кукольной головки, которую придавили пальцами сверху вниз. Зимой и летом неизменным костюмом знакомого незнакомца была камлотовая, когда-то коричневая, теперь совершенно серая, под цвет заборов, шинель и грязным блином лежащая на голове фуражка, из-под которой дикими, нечесаными завитками вырывались черные, с легкой проседью, волосы. Человек постоянно был, что называется, грузен. Не помню, кто мне пояснил, что это пьяный поселенный ветеринар Гольц. Успокоившись на таком сведении, я о нем более не расспрашивал.
V
Однажды, в начале июля, когда полк готовился к походу на дивизионный и корпусный компаменты, я, против обыкновения, проснулся часов в пять утра. На это могла быть особая причина. Молодцы солдатики сплели мне к компаменту великолепную корневую плетенку для брички (нетычанки) и в настоящую минуту нетычанка, искусно выкрашенная под солому и покрытая лаком, была выставлена сохнуть на крутом пригорке между моею конюшней и квартирой. Меня беспокоила мысль, не налипла ли опять вчерашняя мошкара на лак, и с этой целью, наскоро одевшись, я побежал на гору. К большому моему удовольствию, все оказалось в порядке и даже лак стал мало отлипать. Не успел я окончить обзора, как внизу на тротуаре показалась высокая фигура барона. Самому мне было весело на душе – почему, думаю, не потешить добряка? Я поспешно сошел к нему навстречу.
– Вот какая вы сегодня ранняя птица, – сказал полковник, протягивая мне руку. – Что, батюшка! любовались своей обновкой по части изящных искусств?
– Нет, это я так взглянул, но главное, я поджидал вас, чтобы пройтись в конный лазарет. Какое чудное утро, просто рай!
– О, о! прекрасно, похвально! Право, я иногда удивляюсь, глядя на нашу молодежь. Подумаешь, что иной из-под палки служит. Не любишь кавалерийского дела, ну и не служи, найди себе другое занятие по душе. Но кавалерист, не любящий лошади, по-моему, грустное явление. Да знаете ли, уж коли на то пошло, по-моему, он и человек-то дрянной. Я бы ему не доверил ничего. В нем нет любви к делу.
Беседуя таким образом, Карл Федорович широко шагал своими длинными ногами и шел так шибко, что мне приходилось рядом с ним чуть не бежать. На половине пути я увидал шагах в ста впереди нас, на тротуаре, колыхание давно известной мне серой камлотовой шинели с блинообразною фуражкой.
– Карл Федорович, – невольно воскликнул я, – ведь это Гольц! Зачем его несет в эту сторону?
– Он идет в конный лазарет.
– Зачем?
– Вы не помните унтер-офицерскую кобылу второго эскадрона, Прозерпину?
– Как же не помнить. Недели две тому назад ее привели ко мне, и она жаловалась на левую заднюю ногу.
– Та самая. Мы с Григорием Ивановичем расчистили ей стрелку в копыте и с грустью убедились, что у нее рак. Григорий Иванович и вырезал и выжигал, но дело все ухудшается, а ужасно жаль этой лошади. Вчера утром мой Петр докладывает, что доктор Гольц желает меня видеть. «Что ему угодно?» – «Говорит, желает переговорить». Думаю, верно, пришел под каким-либо предлогом выпросить на выпивку. Однако делать нечего. Проси его в залу. «Что вам угодно?» – спросил я эту дрожащую беззубую фигуру. «Я слышал, вас очень беспокоит рак в копыте, и хотел вам помочь. У меня есть секрет, и через четыре дня все выпадет, и ранка очистится», – словом, наговорил с три короба. Врет, подумал я, этот пьяница, но ведь попытка не штука, лошадь все равно пропала. «Очень хорошо, говорю. Пожалуйте завтра в конный лазарет, а я скажу Григорию Ивановичу, чтобы он вам отпустил каких будет нужно медикаментов». – «Нет, позвольте, медикаменты я сам принесу, а вы прикажите кожаную калошу по ноге сшить и больше ничего». Я ему дал пять рублей на лекарство, то есть на выпивку, заказал калошу и обещал, в случае успеха, еще пятьдесят рублей, а теперь увидим его прыть.
Когда мы пришли в конный лазарет, там все уже было готово. Гольц с видом знатока осмотрел рану и, проворчав: «нишево», принялся дрожащими руками намазывать какую-то коричневую мазь на корпию и затем, при помощи коновалов, заложив ей рану, надел кожаный башмак.
– Тепериша карашо. Послезавтра – посмотрить, – прибавил он, умывая руки. Григорий Иванович смотрел на операцию со сверкающими глазами. Умилялся ли он, насмехался ли? Кто его знает. Мы пошли навестить других пациентов.
Принужденный часто и в разное время отлучаться из дому, я, во избежание беспрестанных отпираний-запираний парадного крыльца, ходил через каменную террасу своего домика, обращенную во внутренний двор, к конюшне. Тут же на террасе, в чулане, хранился овес для моих лошадей, и, вероятно, это обстоятельство много споспешествовало охоте моего слуги разводить самых разнообразных и красивых кур, которых он потом распродавал любителям. В это птицеводство я не вмешивался, хотя, проходя через террасу, нередко находил ее обсыпанною курами, индейками и гусями. Однажды, выходя утром к должности, я увидал какую-то женщину. Завидя меня, женщина с воплем повалилась в ноги:
– Помилуй меня, батюшка, защити сироту!
– Встань, ради бога, и говори просто, что тебе надо.
– Не встану, мой отец! Я жалобу тебе произношу.
– А не встанешь, я и слушать не стану. Прощай.
Женщина встала и, заливаясь искренними слезами, продолжала:
– Я тебе жалобу произношу на твоего слугу Наумыча. Он, колдун, меня измучил.
Думаю: господи, что за чепуха!
– Он моих индеек приколдовал к вашему крыльцу. Кличу, кличу, ничего не поделаю, из сил выбьюсь.
– Да ты откуда?
– Суседская, Рыбниковская.
В соседнем домике, действительно, стоял поселенный казначей Рыбников, человек женатый.
– Жалко мне тебя, матушка, что ты так измучилась с своею птицей, но дам тебе совет кормить индеек так нее хорошо, как, вероятно, они питаются у этого крыльца, и все колдовство пропадет.
Видя, что я ухожу, женщина, утирая слезы, торопливо прибавила:
– Барин приказал спросить, можно ли ему прийти к вам.
– Скажи, что я иду к должности, но если ему угодно меня видеть, то пусть пожалует в канцелярию.
Через несколько времени в канцелярию, в новом сюртуке и эполетах, вошел белокуренький, лысенький и, точно с перепугу, передергивающийся Рыбников. Более распевая по-птичьему, чем произнося слова, он затянул:
– Извините, что я в таком месте, но я решился беспокоить вас. Сегодня день ангела жены, и она убедительно просит сделать нам одолжение пожаловать в двенадцать часов закусить. Она поручила мне звать вас.
Я поблагодарил и обещался быть. «Что за притча? – подумал я, – отчего это Рыбниковы, у которых я никогда не переступал порога, вздумали сегодня звать меня?» Выйдя из большого помещичьего дома в качестве перезрелой девицы замуж за поселенного офицера, Рыбникова не забывала своего былого величия и, встретив знакомого в ее прежнем обществе, не могла отказать себе в удовольствии воскликнуть:
– Ах! скажите, давно вы видели мою кузину Аnnеte? Как вас хвалит Sophie, попеняйте, пожалуйста, Alexandrine, что она нас забыла!
– Понадобились, я и взял собственные деньги, – отвечал Гольц, разводя руками. – Ну, что еще надо? А мне надо обедать.
Луиза Александровна не сказала ни слова, но на другой день стала проситься у мужа в Кременчуг. Гольц и слушать не хотел. Тем не менее, поручив преданной Фекле надзор за детьми, Луиза отправилась при первой возможности с попутчиком в Кременчуг и там отыскала генеральшу Лесовскую. Тридцатипятилетняя богатая вдовушка-генеральша, одна из учениц покойной госпожи Зальман, с малолетства была очень, дружна с Луизой, и к ней-то последняя решилась, обратиться за советом, как к единственной особе, могущей принять в ней участие. Луиза не обманулась в своей надежде. Переговорив с Лесовскою, известной франтихой, она устроила дело так, что генеральша, получавшая через Одессу все новости дамского туалета из Парижа, стала пересылать Луизе образчики, по которым последняя с замечательной спешностью и искусством приготовляла модное белье. Лесовская взялась рекомендовать и продавать товар знакомым богатым барыням и невестам, и таким образом Луиза Александровна, вырабатывая до тридцати рублей серебром в месяц, снова оградила семейство от крайней нищеты. Вероятно, Лесовская, под предлогом удачной продажи, тайно прибавляла денег от себя. Дела пошли своим порядком. Никто не слыхал ни малейшей жалобы от Луизы Александровны, но мало-помалу зрение от усиленной работы стало изменять ей, и домашние обстоятельства снова расстроились. Преданная Фекла, уже два года не получавшая жалованья, несмотря на просьбы Луизы, ни за что не хотела оставить семейства, которому ее услуги были необходимы; но не видя возможности платить жалованье, Луиза наотрез отказала ей и со слезами отпустила свою кухарку. Целое лето сама исполняла все работы по домашнему хозяйству. Но что предстояло осенью и зимой – страшно было подумать. Да и кому нужно было думать о деле, о котором не думал сам хозяин?
IV
В сороковых годах полком нашим командовал всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б… Штаб полка находился в городке К…, лежащем на берегу одного из днепровских притоков. Замечательный кавалерист и тонкий знаток лошадей, барон Б… весьма серьезно смотрел на службу, что не мешало ему с жадностью читать новейшие произведения французской и русской литературы, быть самым любезным собеседником и страшным хлебосолом. Он бывал не в духе, когда штабные офицеры не все у него за обеденным столом. Правда, обед барона не отличался дорогими тонкостями и высокими винами: это не позволяли его небольшие средства; но повар его из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями. Барон вставал рано, особенно летом (а лето в Новороссии чуть не круглый год), и прямо отправлялся пешком в конный лазарет, хотя последний находился, по крайней мере, в полутора верстах от его квартиры. В этих утренних странствиях ему ежедневно приходилось проходить мимо моей квартиры; но, зная, что его полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность) не выходит в канцелярию до восьми часов, он никогда не тревожил меня ранними визитами. Хотя письменная отчетность о поступающих в лазарет и возвращающихся в эскадроны лошадях и лежала на мне и барон требовал большого порядка по этой части, тем не менее смотреть за лазаретом не входило в круг моих непременных обязанностей. Но, бывало, ничем нельзя так расположить почтенного Карла Федоровича, как добровольным сопутствованием в его прогулках в конный лазарет. Там он делался особенно сообщителен. Не было конца его сожалениям, соображениям, надеждам и практическим замечаниям. Строгий рационалист во всем остальном, он делался в области конного лазарета каким-то эмпириком, чуть не колдуном. Вполне доверяясь образованному и примерному молодому ветеринару, барон тут же из-под руки пичкал больным лошадям бог знает откуда почерпнутые секретные средства, и, надо сказать правду, весьма часто с неожиданным успехом. Из числа многих привожу следующий пример: известное худосочие (тельчак) не уступает никакому так называемому рациональному лечению. Шея, передние и задние ноги лошади сначала изредка, потом все чаще и чаще покрываются круглыми худокачественными язвами, приводящими организм к окончательному разложению и смерти животного. Болезнь эта в высшей степени заразительна. Как теперь помню, приведена была лошадь, красавица, девяти вершков, фланговая 3-го эскадрона, Готф. Напрасно ретивый юноша ветеринар истощал свою ученость, совал меркуриальные препараты, прижигал ранки раскаленным железом, – ничто не помогало. Барон не мог без волнения говорить о красавце Готфе. «Знаете ли, – сказал он мне однажды, – пусть Григорий Иванович убивается над неизлечимою болезнью, а я дам Готфу ящерицу».
– Какую ящерицу? – невольно спросил я.
– Простую, серую, каких по степи тысячи. Только как поймать ее.
– На этот счет не беспокойтесь, – сказал я, – сейчас будет вам представлено десять, двадцать, сколько угодно.
– Пожалуйста.
Обещав уличным мальчикам гривенник и снабдив их поливенным горшком, я через час получил желаемое. Ящерицы были в завязанном горшке высушены в печи, а на другой день, в виде порошка, даны больному Готфу. После двух-трех приемов ранки стали заживать, и через две недели Готф веселый, отправился в эскадрон, где на моих глазах прослужил четыре года, а сколько после меня – не знаю.
Штабная жизнь наша не отличалась разнообразием. Утром манеж, канцелярия, а вечера мы почти неразлучно с бароном проводили у городских знакомых, кружок которых был весьма необширен. Добрейший холостяк – бригадный генерал. У него же был и бильярд, и потому мы нередко заглядывали к нему в однообразные зимние вечера. Еще два дома приезжих помещиков и неизменный Федор Федорович Гертнер, начальник округа. Нельзя на некоторое время не остановиться на этом лице. Представьте себе маленького, живого, с красным рябоватым лицом и картофельным носом старичка лет шестидесяти, в черном парике, с нафабренными усами, которые то и дело лезут ему в рот, с черными добродушными глазами, которые, одушевляясь, начинают сверкать и бегать. Прибавьте, что он и жена его, добродушнейшая и образованная Марья Ивановна, великие мастера заказать обед и охотники угостить, что никто раньше их не достанет дупелей, первых редисок, огурцов, арбуза и т. д., что он любит свою престарелую Маню, так он называет Марью Ивановну, обожает своих ребятишек: девочку двенадцати и мальчика восьми лет, никому не способен заведомо вредить, – все это еще не даст вам понятия о Федоре Федоровиче. Федор Федорович, рассказывая какой-либо забавный случай, сам нередко от души хохочет, но на такие темы он нападает случайно; по большей части в разговорах он нарочно подыскивает обстоятельства и столкновения, возбуждающие его стремительную раздражительность. Это, разумеется, бывает в кругу людей близких, и тут свои любимые слова «Боже мой! Боже мой! ах, какая каналья!» он произносит таким гортанным голосом, как будто щелкает большой грецкий орех. Дело в том, что трагизм полковника Гертнера нисколько не сообщителен, а напротив, постоянно возбуждал в слушателях неудержимый, неизбежный смех. Бывало, сколько себя ни уговариваешь, что непристойно смеяться в глаза старому, добродушному человеку, но стоит Федору Федоровичу закипеть, и все пропало. Кажется, ожидай человека гильотина, и то бы не удержался. Закипал же и раздражался Федор Федорович даже при таких воспоминаниях, которые очевидно были ему приятны. Любя и понимая строительную часть, он, в качестве окружного начальника, действительно щегольски отстроил некоторые штабные помещения, в том числе и небольшой, занимаемый мною домик. Но когда речь заходила об этих постройках, никакие заявления признательности не могли удержать Федора Федоровича от восклицаний: «Помилуйте! разве я смею поставить эти медные замки, задвижки, ручки и заслонки в смету? Разве начальство примет на казенный счет лакированные полы? Вот я скоро брошу эту каторгу, тогда посмотрите, будет ли вам новый окружной доставлять такие удобства? А то все Федор Федорович не хорош…» и т. д. Я знал Федора Федоровича давно. При моем поступлении в полк Гертнер был еще во фронте дивизионером. На нем был тот же черный парик и тот же ореол комизма. Кажется, никого судьба не ставила в такие комические положения, в каких зачастую бывал Федор Федорович. Чтобы не утомить читателя, ограничимся следующим случаем. Во время первого моего майского компамента Федор Федорович, в качестве старшего дивизионера, выезжал пред дивизионом и, следовательно, появлялся в виду всех в одиночку во всей красе. Хотя по чересчур маленькому росту ему не следовало служить в кирасирах, но для офицеров нет определенной меры. Зато такая мера существует для лошадей, и на гусарской лошади нельзя ездить пред кирасирским фронтом. В наше время ниже четырех вершков у офицерской лошади не допускалось. Представьте же себе комическую фигуру старого полковника на широкой четырехвершковой матке, объем которой чуть не удвоился вследствие того, что она бережа. Всякий кавалерист вам скажет, что третья часть полка состоит из маток, и никогда не случается, чтобы простая, солдатская матка пришла в подобное состояние. Все условия присмотра таковы, что этого случиться не может. Под какою же комическою звездой должен родиться Федор Федорович, чтобы с его единственной маткой случился подобный казус? Нельзя было слишком осуждать наших кирасир, когда появление полковника Гертнера на его бережей матке возбуждало общую веселость. Разумеется, при появлении полкового командира пред фронтом хихиканье умолкало и все принимало серьезный вид. На одном учении, пред началом которого фигура Гертнера на его матке показалась всем что-то чересчур комичною, полку, после продолжительных и быстрых построений, скомандовано было выстроить фронт. Когда поднятая движением пыль стала опадать, заметили, что третьего дивизионера пред фронтом нет; когда же пыль окончательно улеглась, то увидали Федора Федоровича лежащим вместе с лошадью на земле и напрасно старающимся освободить свои ноги из поводьев, в которые он попал шпорами.
– Что такое? что такое? хи-хи-хи, – разнеслось по фронту.
Желая поскорей окончить эту сцену, полковой командир послал трубача слезть и помочь полковнику встать. Но и тот не тотчас освободил полковника, а между тем его лошадь мешала видеть подробности происшествия.
– Что ты там возишься? – крикнул полковой командир на трубача. – Что там случилось?
– Ожеребился, ваше высокоблагородие! – закричал трубач во все горло, стараясь, чтобы слова его были внятны полковому командиру. С этим словом вся дисциплина пропала. Раздался гомерический смех восьмисот человек. Сам полковой командир расхохотался и, скомандовав: палаши в ножны, пики за плечи, распустил полк. Трудно предположить, чтобы Федор Федорович в сущности изменился только потому, что из действующих перешел в поселенные.
Кажется, ни к чему в такой степени, как к провинциальной штабной жизни, не относится пословица: «Дела не делай и от дела не бегай». И поехал бы верст за шестьдесят или за сто к знакомым помещикам отдохнуть среди роскошной обстановки, освежиться общением с более широкими интересами, да как подумаешь, что, может быть, не успеешь выехать, а тут экстра из дивизии или, чего доброго, нагрянет сам начальник штаба, так и пойдешь к тому же бригадному генералу или к Федору Федоровичу. Нечего говорить, что однообразные уличные явления небольшого городка были нам знакомы до пресыщения и скуки. С некоторыми жителями, приходившими в Казенный сад слушать трубачей, у нас возникало даже так называемое шапочное знакомство, но на этом дело и кончилось, так как не было повода вникать в их домашнюю жизнь. Для меня исключением было на некоторое время семейство поселенного ветеринара Гольца. С самого поступления моего в полк глаза мои привыкли в известные часы дня встречать на тротуаре довольно оригинальную фигуру. В эти часы, вдоль серых заборов, торопливо и как бы желая поскорее скрыться от докучных наблюдателей, проходит небольшой человечек. С виду ему было лет под пятьдесят. Широкое, скулистое лицо с черными нависшими бровями, носом пуговицей, широкими плоскими губами крепко сложенным ртом и худо выбритым подбородком, постоянно выражало какое-то презрительное неудовольствие. Кроме этого выражения, лицо это представляло сплюснутость каучуковой кукольной головки, которую придавили пальцами сверху вниз. Зимой и летом неизменным костюмом знакомого незнакомца была камлотовая, когда-то коричневая, теперь совершенно серая, под цвет заборов, шинель и грязным блином лежащая на голове фуражка, из-под которой дикими, нечесаными завитками вырывались черные, с легкой проседью, волосы. Человек постоянно был, что называется, грузен. Не помню, кто мне пояснил, что это пьяный поселенный ветеринар Гольц. Успокоившись на таком сведении, я о нем более не расспрашивал.
V
Однажды, в начале июля, когда полк готовился к походу на дивизионный и корпусный компаменты, я, против обыкновения, проснулся часов в пять утра. На это могла быть особая причина. Молодцы солдатики сплели мне к компаменту великолепную корневую плетенку для брички (нетычанки) и в настоящую минуту нетычанка, искусно выкрашенная под солому и покрытая лаком, была выставлена сохнуть на крутом пригорке между моею конюшней и квартирой. Меня беспокоила мысль, не налипла ли опять вчерашняя мошкара на лак, и с этой целью, наскоро одевшись, я побежал на гору. К большому моему удовольствию, все оказалось в порядке и даже лак стал мало отлипать. Не успел я окончить обзора, как внизу на тротуаре показалась высокая фигура барона. Самому мне было весело на душе – почему, думаю, не потешить добряка? Я поспешно сошел к нему навстречу.
– Вот какая вы сегодня ранняя птица, – сказал полковник, протягивая мне руку. – Что, батюшка! любовались своей обновкой по части изящных искусств?
– Нет, это я так взглянул, но главное, я поджидал вас, чтобы пройтись в конный лазарет. Какое чудное утро, просто рай!
– О, о! прекрасно, похвально! Право, я иногда удивляюсь, глядя на нашу молодежь. Подумаешь, что иной из-под палки служит. Не любишь кавалерийского дела, ну и не служи, найди себе другое занятие по душе. Но кавалерист, не любящий лошади, по-моему, грустное явление. Да знаете ли, уж коли на то пошло, по-моему, он и человек-то дрянной. Я бы ему не доверил ничего. В нем нет любви к делу.
Беседуя таким образом, Карл Федорович широко шагал своими длинными ногами и шел так шибко, что мне приходилось рядом с ним чуть не бежать. На половине пути я увидал шагах в ста впереди нас, на тротуаре, колыхание давно известной мне серой камлотовой шинели с блинообразною фуражкой.
– Карл Федорович, – невольно воскликнул я, – ведь это Гольц! Зачем его несет в эту сторону?
– Он идет в конный лазарет.
– Зачем?
– Вы не помните унтер-офицерскую кобылу второго эскадрона, Прозерпину?
– Как же не помнить. Недели две тому назад ее привели ко мне, и она жаловалась на левую заднюю ногу.
– Та самая. Мы с Григорием Ивановичем расчистили ей стрелку в копыте и с грустью убедились, что у нее рак. Григорий Иванович и вырезал и выжигал, но дело все ухудшается, а ужасно жаль этой лошади. Вчера утром мой Петр докладывает, что доктор Гольц желает меня видеть. «Что ему угодно?» – «Говорит, желает переговорить». Думаю, верно, пришел под каким-либо предлогом выпросить на выпивку. Однако делать нечего. Проси его в залу. «Что вам угодно?» – спросил я эту дрожащую беззубую фигуру. «Я слышал, вас очень беспокоит рак в копыте, и хотел вам помочь. У меня есть секрет, и через четыре дня все выпадет, и ранка очистится», – словом, наговорил с три короба. Врет, подумал я, этот пьяница, но ведь попытка не штука, лошадь все равно пропала. «Очень хорошо, говорю. Пожалуйте завтра в конный лазарет, а я скажу Григорию Ивановичу, чтобы он вам отпустил каких будет нужно медикаментов». – «Нет, позвольте, медикаменты я сам принесу, а вы прикажите кожаную калошу по ноге сшить и больше ничего». Я ему дал пять рублей на лекарство, то есть на выпивку, заказал калошу и обещал, в случае успеха, еще пятьдесят рублей, а теперь увидим его прыть.
Когда мы пришли в конный лазарет, там все уже было готово. Гольц с видом знатока осмотрел рану и, проворчав: «нишево», принялся дрожащими руками намазывать какую-то коричневую мазь на корпию и затем, при помощи коновалов, заложив ей рану, надел кожаный башмак.
– Тепериша карашо. Послезавтра – посмотрить, – прибавил он, умывая руки. Григорий Иванович смотрел на операцию со сверкающими глазами. Умилялся ли он, насмехался ли? Кто его знает. Мы пошли навестить других пациентов.
Принужденный часто и в разное время отлучаться из дому, я, во избежание беспрестанных отпираний-запираний парадного крыльца, ходил через каменную террасу своего домика, обращенную во внутренний двор, к конюшне. Тут же на террасе, в чулане, хранился овес для моих лошадей, и, вероятно, это обстоятельство много споспешествовало охоте моего слуги разводить самых разнообразных и красивых кур, которых он потом распродавал любителям. В это птицеводство я не вмешивался, хотя, проходя через террасу, нередко находил ее обсыпанною курами, индейками и гусями. Однажды, выходя утром к должности, я увидал какую-то женщину. Завидя меня, женщина с воплем повалилась в ноги:
– Помилуй меня, батюшка, защити сироту!
– Встань, ради бога, и говори просто, что тебе надо.
– Не встану, мой отец! Я жалобу тебе произношу.
– А не встанешь, я и слушать не стану. Прощай.
Женщина встала и, заливаясь искренними слезами, продолжала:
– Я тебе жалобу произношу на твоего слугу Наумыча. Он, колдун, меня измучил.
Думаю: господи, что за чепуха!
– Он моих индеек приколдовал к вашему крыльцу. Кличу, кличу, ничего не поделаю, из сил выбьюсь.
– Да ты откуда?
– Суседская, Рыбниковская.
В соседнем домике, действительно, стоял поселенный казначей Рыбников, человек женатый.
– Жалко мне тебя, матушка, что ты так измучилась с своею птицей, но дам тебе совет кормить индеек так нее хорошо, как, вероятно, они питаются у этого крыльца, и все колдовство пропадет.
Видя, что я ухожу, женщина, утирая слезы, торопливо прибавила:
– Барин приказал спросить, можно ли ему прийти к вам.
– Скажи, что я иду к должности, но если ему угодно меня видеть, то пусть пожалует в канцелярию.
Через несколько времени в канцелярию, в новом сюртуке и эполетах, вошел белокуренький, лысенький и, точно с перепугу, передергивающийся Рыбников. Более распевая по-птичьему, чем произнося слова, он затянул:
– Извините, что я в таком месте, но я решился беспокоить вас. Сегодня день ангела жены, и она убедительно просит сделать нам одолжение пожаловать в двенадцать часов закусить. Она поручила мне звать вас.
Я поблагодарил и обещался быть. «Что за притча? – подумал я, – отчего это Рыбниковы, у которых я никогда не переступал порога, вздумали сегодня звать меня?» Выйдя из большого помещичьего дома в качестве перезрелой девицы замуж за поселенного офицера, Рыбникова не забывала своего былого величия и, встретив знакомого в ее прежнем обществе, не могла отказать себе в удовольствии воскликнуть:
– Ах! скажите, давно вы видели мою кузину Аnnеte? Как вас хвалит Sophie, попеняйте, пожалуйста, Alexandrine, что она нас забыла!