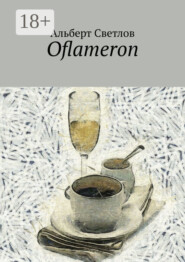По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное. Сборник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Смотри—ка! Вон твоя одноклассница. Не узнаёшь? Чума любви в накрашенных бровях…
И указал на стоящий через дорогу вишнёвый «жигуль», и женщину за рулём.
– Кто это? – переспросил я, подслеповато щурясь, приподнимая очёчки, различая предательски неясные расплывающиеся очертания.
– Мильсон! Снежана! – с нажимом упрекнул он, будучи в курсе, с каким пиететом и нежностью я в юности относился к даме в «Жигулях». И, закурив, с укоряющей издёвочкой подколол:
– Эх ты, герой-любовник! Жинтыльмен неудачи!
Я промолчал, протёр глаза, отвернулся.
Ладно, подчинимся воле всевышнего, под злодейски хрипящий граммофон склоним покорно выю, – значит, не судьба. В ином случае, её и мои тропинки обязательно бы сошлись. Зато у меня в шкафу, в синей папке, меж редких подростковых снимков, лежит фотка нашего 11-го класса, вручённая вместе с аттестатом. На ней фотограф, монтируя коллаж, разместил нас рядом.
Меня и Снежку.
Face to face…
Я считал сей факт неким знаком.
Ребячество… Глупо, конечно. Без малейшего повода…
Вообще—то, я определённо напутал, ибо прощальная встреча с Мильсон произошла не на выпускном, а следующим утром. Мне не забыть её белые запястья, аккуратно подстриженные ноготки без маникюра; Снежа споласкивала под краном чайные, с сиреневым цветочком и позолоченным ободком, чашки. Стройную фигуру подчёркивали плотно обтягивающие бёдра джинсики. Я смирился, уже не жалел о вечной разлуке с той, что любил десять школьных лет; просто рассеянно, не отрываясь и не моргая смотрел на её тонкие музыкальные пальчики. Она, знакомясь с лестью, пафосом, изменой, стряхивала в раковину капли воды с влажных чашечек, разливала в них кипяток из самовара и добавляла туда по ложечке растворимого кофе.
Мы расположились в кабинете литературы, казавшимся получужим, слушали классного руководителя, Ольгу Геннадьевну, в неформальной обстановке подводящую итоги, говорившую напутственные слова, частыми крохотными глотками отхлёбывали горячий ароматный напиток и договаривались, куда пойдём, разжившись вином, прощаться друг с другом неискренне, пространно и шаблонно. Меня мучила головная боль, напоминавшая о ночном банкете и двухчасовом беспокойном хмельном забытье, внутри всё дрожало, мучительно хотелось пить и спать.
Снежана Мильсон (Художник Виктор фон Голдберг)
И не нашлось на столе, за коим я устроился, подперев подбородок руками, ни одного яблока, которое можно было бы бросить моей путеводной звёздочке. Лишь покрасневшие огрызки в тарелке на подоконнике. Только вот, любимой не бросают огрызок. Увы, подарить Снежане яблоко под луной я не решился. А теперь – поздно. Наше с ней время под шелест дождливого июня скукожилось до размера коричневого полузасохшего объедка.
А потом, пользуясь терпимой погодой, компания вчерашних школяров отправилась в сторону пляжа; и у меня имелся припасённый флакон «Медвежьей крови», выцыганенный с боем у бабушки. Единственная бутылка на ораву в 15 рыл. Мильсон родители увезли в Беляевку, и я вскоре заскучал.
Миновав пригорок и пройдя берегом Светловки около километра, мы развалились на опушке леса. По простору простёртой рати неба плыли грузные серые батальоны туч, обещавшие дождь, град, изредка из—за них выбиралось солнце, словно стремившееся, но не успевавшее, т. к. очередное облако скрывало нас от него, сообщить нечто важное. Светловка полоскала берег тяжёлыми свинцовыми волнами, рассыпавшимися о ноздреватые скользкие камни брызгами душа и превращающимися в желтоватую пену. Похолодало, с реки потянуло запахом водорослей, йода и сырого дёрна. Разведя костерок из сухих веток, собранных в подлеске, рассевшись прямо на траве, мы, пуская по кругу стакан с еле заметной щербинкой у края, занялись пузырём, и нектар в нём закончился очень быстро, после первого же глотка. Пятнадцать похмельных выпускников на 700 мл.! «По усам текло, в рот не попало!» Изрекали сентиментальные благоглупости, в запале давали зарок регулярно встречаться, дорожить детскими годами, братством (какое, к чёрту, братство? Откуда ему взяться в глухой и неживой пустыне эгоизма? Оно секунду назад за рюмкой образовалось, и исчезнет спустя полчаса), искренне и наивно веря в исполнимость этого, хотя, буквально назавтра и не думали о сгоряча выпаленных обещаниях.
Сосна (Художник Виктор фон Голдберг)
Танька Широва, невысокая худенькая девчонка с выступающими ключицами и короткой пергидроленой чёлкой, лихо отплясывала в купальнике под песни группы «Шахерезада», нёсшиеся с кем—то прихваченного с собой магнитофона. Танюха кричала, в танце размахивая над головой белым платьишком с легкомысленными розовыми лепестками:
– Ребята, навсегда запомните меня такой!
«Ночка, ночка,
ночка-черноночка,
подари мне миг услады!
а-ха-ха-ха-ха!»[1 - гр. «Шахерезада»]
Такой я её и запомнил. Танцующей и поющей на фоне жёлтого прибрежного песка, с оспинами мелких камушков, сочной зелёной осоки и стелющегося слезой дыма костра.
Через 26 лет, в течение которых, мы поговорили всего единожды, Татьяны не стало. Инсульт. Мне написали о похоронах за сутки, и я, торопясь в безвременье пересыхающим родником, не смог скорректировать планы. Да и был ли я там необходим? А остальные? Спорно… Зыбко… Вряд ли я свыкнусь с мыслью, что ко мне на кладбище притащится какой—нибудь малознакомый субъект. Полагаю, не велико количество добра, сделанное мною людям, ну и они также испытывали к моей персоне мало симпатии, и не стоит посмертно ворошить прошлое, приглашать на проводины тяготившихся общением. Валите сразу к отцу лжи, лицемеры!
Раньше высшей похвалой мужчине звучало: «Я б пошёл с тобой в разведку!»
А сейчас?
Есть те, кому б ты подмигнул из гроба?
И сколько их? А?
Или больше других, при чьём приближение ты незаметно сплюнул бы и тихонько, дабы посторонние не услышали, с липкой лаской в голосе, вопросил: «Где ж, вы, падлы, шкерились, когда я вас звал?»
А тебя многие пожелают увидеть среди плакальщиков?
Однако… в стыдливой теплоте заката мёртвому не безразлично ли…
Хм…
Давным—давно – 1 (сб. «Мой друг Марсель Кузьмич»)
Случилось это так давно, что и подумать страшно. (Поэтому, чтоб не пугаться, писать я стану, не думая) Много спирта с того времени испарилось, ещё больше сигарет искурилось, а те, о ком речь ведётся, живы ли, нет ли, неведомо. Вестимо, трава тогда росла зелёная, тучки над буйными головушками проплавали прозрачно-серые, а вода из-под крана казалась чистой-чистой, настолько чистой, что некоторые рисковали заливать ею похмельный пожар. Правда, Президент был уже тот же, что и ныне, ну, да не о нём речь, раздолья ему с корешами в офшорах!
Служил я в ту пору мытарем в одной крупной телекоммуникационной компании. Должность официально называлась – менеджер по работе с дебиторами, а мытарями нас, изгаляясь, обзывал технический директор, отец наш двоюродный, обладавший специфическим чувством постоянного юмора. Одно слово – полковник. Бывший военный.
В обязанности мои тогда входило посещение несознательных граждан, не оплативших предоставленную им услугу, напоминание о необходимости погашения образовавшейся задолженности, да приём наличности, коли проштрафившиеся соглашались раскошелиться немедля. Буде, неплательщики настаивали на своём и злостно от платежей уклонялись, я через некоторое время навещал их с лестницей да чёрной-чёрной сумкой с инструментом, и тв на их жилплощади с той минуты транслировало исключительно чёрно-белые хаотичные сигналы, посылаемые гуманоидами откуда-то из созвездия Лебедя.
Работёнка, надо понимать – собачья. План – 40 квартир. Обход в вечернее время. Зимой и летом, под дождём, снегом и градом. До отдалённых районов добираешься своим ходом, за свой счёт. И согласился я на неё не от хорошей жизни. Впрочем, как у любого явления, у неё были и положительные стороны. Применительно к мытарству они заключались в постоянном окладе и процентах от собранных сумм. Больше соберёшь – больше получишь.
Суббота и воскресенье считались выходными. Да, именно считались. Ибо с каждым месяцем количество обслуживаемого жилого фонда увеличивалось, а вторая пара ног меня всё никак не отрастала. Оттого в особо жаркие периоды приходилось пахать без роздыху, ежедневно. Порой я находил в этом даже некое извращённое удовольствие и если для отдыха мне выделяли один из упомянутых дней, то я брал папку со списком адресов и отправлялся на прогулку. Правда, уже в дневное время.
Вот, в одну из таких-то суббот и пересеклись мои пути с тропками сибирского кота Вилли.
Погоды стояли в то майское утро удивительные. Стучащееся в окно солнышко шептало: «Займи и выпей», тёплый ветерок насвистывал «А нам всё равно!», а клейкие листочки тополя пахли, казалось, шампанским, и их аромат так же ударял в голову.
Но я стоически показал им всем язык и кукиш, вырядился в костюмчик с галстучком, начистил до блеска туфельки и сказав соседскому рыжему пекинесу, повертевшему мне вслед когтем у виска: «Сам дурак», отправился шакалить и промышлять на большую дорогу.
Долго ли коротко ли бродил я, но список привёл меня на адрес: Гамбитная Три Дробь Четыре кв. 18. Второй подъезд, первый этаж, сразу направо.
Бывал я у того дома не в первый раз, прекрасно помнил и покосившиеся качели, на которых рисковали качаться только пьяные старшеклассники, и песочницу без песка, у которой сейчас гуляла молодая женщина с трёхлетней девочкой.
До того содрать деньгу мне удалось только в одном месте, но я не унывал и подкатывал к подъезду, напевая:
Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
Ой, день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки[2 - Сл. Ю. Кима. Из к/ф «Сватовство гусара»]
И указал на стоящий через дорогу вишнёвый «жигуль», и женщину за рулём.
– Кто это? – переспросил я, подслеповато щурясь, приподнимая очёчки, различая предательски неясные расплывающиеся очертания.
– Мильсон! Снежана! – с нажимом упрекнул он, будучи в курсе, с каким пиететом и нежностью я в юности относился к даме в «Жигулях». И, закурив, с укоряющей издёвочкой подколол:
– Эх ты, герой-любовник! Жинтыльмен неудачи!
Я промолчал, протёр глаза, отвернулся.
Ладно, подчинимся воле всевышнего, под злодейски хрипящий граммофон склоним покорно выю, – значит, не судьба. В ином случае, её и мои тропинки обязательно бы сошлись. Зато у меня в шкафу, в синей папке, меж редких подростковых снимков, лежит фотка нашего 11-го класса, вручённая вместе с аттестатом. На ней фотограф, монтируя коллаж, разместил нас рядом.
Меня и Снежку.
Face to face…
Я считал сей факт неким знаком.
Ребячество… Глупо, конечно. Без малейшего повода…
Вообще—то, я определённо напутал, ибо прощальная встреча с Мильсон произошла не на выпускном, а следующим утром. Мне не забыть её белые запястья, аккуратно подстриженные ноготки без маникюра; Снежа споласкивала под краном чайные, с сиреневым цветочком и позолоченным ободком, чашки. Стройную фигуру подчёркивали плотно обтягивающие бёдра джинсики. Я смирился, уже не жалел о вечной разлуке с той, что любил десять школьных лет; просто рассеянно, не отрываясь и не моргая смотрел на её тонкие музыкальные пальчики. Она, знакомясь с лестью, пафосом, изменой, стряхивала в раковину капли воды с влажных чашечек, разливала в них кипяток из самовара и добавляла туда по ложечке растворимого кофе.
Мы расположились в кабинете литературы, казавшимся получужим, слушали классного руководителя, Ольгу Геннадьевну, в неформальной обстановке подводящую итоги, говорившую напутственные слова, частыми крохотными глотками отхлёбывали горячий ароматный напиток и договаривались, куда пойдём, разжившись вином, прощаться друг с другом неискренне, пространно и шаблонно. Меня мучила головная боль, напоминавшая о ночном банкете и двухчасовом беспокойном хмельном забытье, внутри всё дрожало, мучительно хотелось пить и спать.
Снежана Мильсон (Художник Виктор фон Голдберг)
И не нашлось на столе, за коим я устроился, подперев подбородок руками, ни одного яблока, которое можно было бы бросить моей путеводной звёздочке. Лишь покрасневшие огрызки в тарелке на подоконнике. Только вот, любимой не бросают огрызок. Увы, подарить Снежане яблоко под луной я не решился. А теперь – поздно. Наше с ней время под шелест дождливого июня скукожилось до размера коричневого полузасохшего объедка.
А потом, пользуясь терпимой погодой, компания вчерашних школяров отправилась в сторону пляжа; и у меня имелся припасённый флакон «Медвежьей крови», выцыганенный с боем у бабушки. Единственная бутылка на ораву в 15 рыл. Мильсон родители увезли в Беляевку, и я вскоре заскучал.
Миновав пригорок и пройдя берегом Светловки около километра, мы развалились на опушке леса. По простору простёртой рати неба плыли грузные серые батальоны туч, обещавшие дождь, град, изредка из—за них выбиралось солнце, словно стремившееся, но не успевавшее, т. к. очередное облако скрывало нас от него, сообщить нечто важное. Светловка полоскала берег тяжёлыми свинцовыми волнами, рассыпавшимися о ноздреватые скользкие камни брызгами душа и превращающимися в желтоватую пену. Похолодало, с реки потянуло запахом водорослей, йода и сырого дёрна. Разведя костерок из сухих веток, собранных в подлеске, рассевшись прямо на траве, мы, пуская по кругу стакан с еле заметной щербинкой у края, занялись пузырём, и нектар в нём закончился очень быстро, после первого же глотка. Пятнадцать похмельных выпускников на 700 мл.! «По усам текло, в рот не попало!» Изрекали сентиментальные благоглупости, в запале давали зарок регулярно встречаться, дорожить детскими годами, братством (какое, к чёрту, братство? Откуда ему взяться в глухой и неживой пустыне эгоизма? Оно секунду назад за рюмкой образовалось, и исчезнет спустя полчаса), искренне и наивно веря в исполнимость этого, хотя, буквально назавтра и не думали о сгоряча выпаленных обещаниях.
Сосна (Художник Виктор фон Голдберг)
Танька Широва, невысокая худенькая девчонка с выступающими ключицами и короткой пергидроленой чёлкой, лихо отплясывала в купальнике под песни группы «Шахерезада», нёсшиеся с кем—то прихваченного с собой магнитофона. Танюха кричала, в танце размахивая над головой белым платьишком с легкомысленными розовыми лепестками:
– Ребята, навсегда запомните меня такой!
«Ночка, ночка,
ночка-черноночка,
подари мне миг услады!
а-ха-ха-ха-ха!»[1 - гр. «Шахерезада»]
Такой я её и запомнил. Танцующей и поющей на фоне жёлтого прибрежного песка, с оспинами мелких камушков, сочной зелёной осоки и стелющегося слезой дыма костра.
Через 26 лет, в течение которых, мы поговорили всего единожды, Татьяны не стало. Инсульт. Мне написали о похоронах за сутки, и я, торопясь в безвременье пересыхающим родником, не смог скорректировать планы. Да и был ли я там необходим? А остальные? Спорно… Зыбко… Вряд ли я свыкнусь с мыслью, что ко мне на кладбище притащится какой—нибудь малознакомый субъект. Полагаю, не велико количество добра, сделанное мною людям, ну и они также испытывали к моей персоне мало симпатии, и не стоит посмертно ворошить прошлое, приглашать на проводины тяготившихся общением. Валите сразу к отцу лжи, лицемеры!
Раньше высшей похвалой мужчине звучало: «Я б пошёл с тобой в разведку!»
А сейчас?
Есть те, кому б ты подмигнул из гроба?
И сколько их? А?
Или больше других, при чьём приближение ты незаметно сплюнул бы и тихонько, дабы посторонние не услышали, с липкой лаской в голосе, вопросил: «Где ж, вы, падлы, шкерились, когда я вас звал?»
А тебя многие пожелают увидеть среди плакальщиков?
Однако… в стыдливой теплоте заката мёртвому не безразлично ли…
Хм…
Давным—давно – 1 (сб. «Мой друг Марсель Кузьмич»)
Случилось это так давно, что и подумать страшно. (Поэтому, чтоб не пугаться, писать я стану, не думая) Много спирта с того времени испарилось, ещё больше сигарет искурилось, а те, о ком речь ведётся, живы ли, нет ли, неведомо. Вестимо, трава тогда росла зелёная, тучки над буйными головушками проплавали прозрачно-серые, а вода из-под крана казалась чистой-чистой, настолько чистой, что некоторые рисковали заливать ею похмельный пожар. Правда, Президент был уже тот же, что и ныне, ну, да не о нём речь, раздолья ему с корешами в офшорах!
Служил я в ту пору мытарем в одной крупной телекоммуникационной компании. Должность официально называлась – менеджер по работе с дебиторами, а мытарями нас, изгаляясь, обзывал технический директор, отец наш двоюродный, обладавший специфическим чувством постоянного юмора. Одно слово – полковник. Бывший военный.
В обязанности мои тогда входило посещение несознательных граждан, не оплативших предоставленную им услугу, напоминание о необходимости погашения образовавшейся задолженности, да приём наличности, коли проштрафившиеся соглашались раскошелиться немедля. Буде, неплательщики настаивали на своём и злостно от платежей уклонялись, я через некоторое время навещал их с лестницей да чёрной-чёрной сумкой с инструментом, и тв на их жилплощади с той минуты транслировало исключительно чёрно-белые хаотичные сигналы, посылаемые гуманоидами откуда-то из созвездия Лебедя.
Работёнка, надо понимать – собачья. План – 40 квартир. Обход в вечернее время. Зимой и летом, под дождём, снегом и градом. До отдалённых районов добираешься своим ходом, за свой счёт. И согласился я на неё не от хорошей жизни. Впрочем, как у любого явления, у неё были и положительные стороны. Применительно к мытарству они заключались в постоянном окладе и процентах от собранных сумм. Больше соберёшь – больше получишь.
Суббота и воскресенье считались выходными. Да, именно считались. Ибо с каждым месяцем количество обслуживаемого жилого фонда увеличивалось, а вторая пара ног меня всё никак не отрастала. Оттого в особо жаркие периоды приходилось пахать без роздыху, ежедневно. Порой я находил в этом даже некое извращённое удовольствие и если для отдыха мне выделяли один из упомянутых дней, то я брал папку со списком адресов и отправлялся на прогулку. Правда, уже в дневное время.
Вот, в одну из таких-то суббот и пересеклись мои пути с тропками сибирского кота Вилли.
Погоды стояли в то майское утро удивительные. Стучащееся в окно солнышко шептало: «Займи и выпей», тёплый ветерок насвистывал «А нам всё равно!», а клейкие листочки тополя пахли, казалось, шампанским, и их аромат так же ударял в голову.
Но я стоически показал им всем язык и кукиш, вырядился в костюмчик с галстучком, начистил до блеска туфельки и сказав соседскому рыжему пекинесу, повертевшему мне вслед когтем у виска: «Сам дурак», отправился шакалить и промышлять на большую дорогу.
Долго ли коротко ли бродил я, но список привёл меня на адрес: Гамбитная Три Дробь Четыре кв. 18. Второй подъезд, первый этаж, сразу направо.
Бывал я у того дома не в первый раз, прекрасно помнил и покосившиеся качели, на которых рисковали качаться только пьяные старшеклассники, и песочницу без песка, у которой сейчас гуляла молодая женщина с трёхлетней девочкой.
До того содрать деньгу мне удалось только в одном месте, но я не унывал и подкатывал к подъезду, напевая:
Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
Ой, день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки[2 - Сл. Ю. Кима. Из к/ф «Сватовство гусара»]