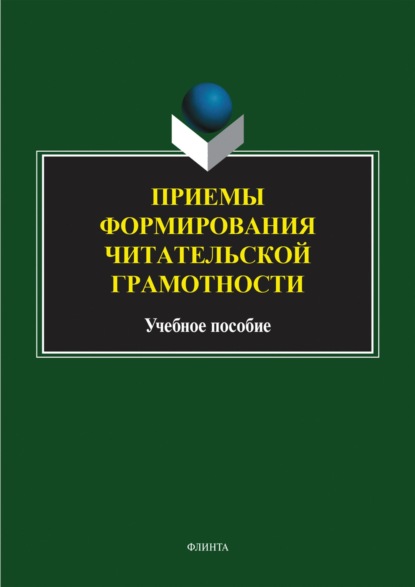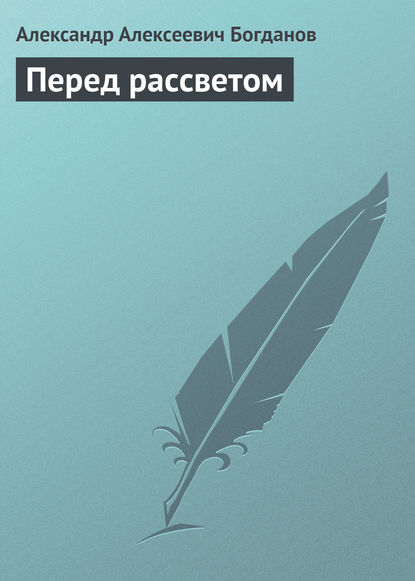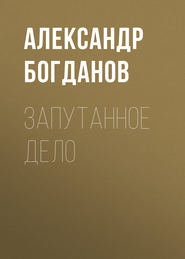По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перед рассветом
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тартыга бесцельно бродит вдоль порядка… На нем новые сапоги с высокими простроченными голенищами и в руках тульская гармоника; все куплено на деньги, которые он получил от Игошина.
Ходуном ходят бумажные мехи, подклеенные красной лайкой, и гармоника, как живой человек, выговаривает:
Си-дит милка, ждет ми-ло-го,
У него для ней обно-ва,
Э-эх, да!..
Бе-лай шел-ко-ваи пла-точек,
Люб за-вет-ный пер-стенечек,
Э-эх, да!..
Под ветлами колодец. Высоко поднятый журавель черной бороздой перечертил небо. К осклизлому бревенчатому срубу приставлено корыто с присохшими на краях отрубями; оно наполнено водой и мокнет.
Тартыге скучно. Он останавливается и выискивает глазами, нет ли поблизости чего интересного… Около колодца босоногая девочка. Тартыга перестает играть и кричит:
– Грушка, подь сюда!..
Девчонка боязливо жмется и топчется на месте… Она не решается подойти к Тартыге и выжидательно стоит, подняв по-птичьи ногу с наростами дикого закорузлого от пыли мяса…
Тартыге вспоминается детство, когда он сам вот таким босым и голодным мальчуганом бегал в деревне… И жгучая непонятная волна, поднявшаяся из далекого прошлого, внезапно входит в него и наполняет смутным беспокойством…
Он дружелюбно и нежно манит Грушку:
– Подь, глупая, не бойся!.. Орех дам…
Грушка опускает ногу и идет робко к нему, дичась, как маленький зверек. Тартыга гремит в кармане пиджака, достает грецкий орех, раскусывает его и половинки дает Грушке. От неожиданной радости она вспыхивает. Сбегают пугливые тени… Тартыге приятно следить за веселой игрой круглых ямочек на ее щеках. Он снова трясет в кармане и достает еще горсть орехов.
– Грызи!.. Только зубов не сломай!..
Грушка краснеет гуще. Глаза ее делаются ласково-влажными.
– Не сломаю, дяденька…
– Вот, вот!.. Беззубую замуж не возьмут, – нежно говорит Тартыга. Он смеется, и усы у него движутся, как хорьковые хвостики, вверх и вниз.
А Грушка обеими руками крепко защемливает в пригоршню орехи и бежит к избе…
Тартыга смотрит ей вслед… Неясные мысли, может быть печаль о прошлом, утраченном, может быть радостное ожидание чего-то лучшего и неизведанного бродят по его лицу…
На повороте в Афонькины выселки попадается батюшка, отец Петр.
«Коли поп, добра не будет», – думает Тартыга. И светлое настроение его, на мгновение завладевшее душой, вдруг исчезает… Он угловато кривит лицо, делается снова жестким и злым и вызывающе останавлил вается поперек дороги.
Отец Петр в сером подряснике, поярковой шляпе и с яблоневой суковатой палкой в руках. Поравнявшись с Тартыгой, он оглядывает строго его гармонику, потом попеременно то клетчатый пиджак, то сапоги… Тартыга не кланяется и в упор смотрит на попа черными насмешливыми глазами…
А когда отец Петр проходит мимо, Тартыга забирает грудью в полную силу воздух и на весь порядок кричит:
– Бать, а бать!.. Не торопись, бать, поспешь на плешь!.. Увидишь своих, кланяйся нашим!.. Скажи Василисе, чтоб вечером на гумно приходила!..
Василиса, молодая безродная бобылка, живет у отца Петра в кухарках. За короткое время жизни в деревне Тартыга успел познакомиться и сойтись с ней. Почему-то оба они сразу почувствовали влечение друг к другу…
Отец Петр ничего не отвечает, только крепче сжимает в руках палку и крупными сердитыми шагами идет быстро вперед.
Площадь перед волостным правлением изрезана колеями в разные стороны от беспорядочной езды. Посредине площади церковь с малиновыми стеклянными шарами на зеленых вырезах ограды. Церковь приземистая, осевшая от старости и выбеленная. Рядом колокольня. Над столбами возведен тесовый навес. Веревочные концы спускаются от колоколов почти до земли и завязаны тройчаткой в крепкий узел.
Пустырь около волостного правления занят складом материалов для постройки. Горкой навалены бревна и доски.
На бревнах мужики и Тартыга беседуют. Фуражка Тартыги примята с боков, маслящиеся пьяные глаза любовно обнимают и церковку, и зеленый луг, и загородь поповского палисадника, где время от времени в сетке кустов рыжим пятном мелькает простоволосая голова Василисы.
Мужики каждый по своему делу ждут очереди в волостном правлении.
– Порешил с землей? – спрашивает Тартыгу бывший выборный учетчик сельской кассы Наум, серьезный мужик, с завитками на крупной бороде и весь почерневший, как поднятая плугом земля…
Тартыга по привычке щурится… Яркий свет дня зыблется над площадью прозрачным блестящим пологом и слепит глаза… И на солнце отливают глянцем голенища его новых сапог…
Мужики с интересом ждут, что ответит Тартыга… Смотрят холодными и чуждыми глазами, как он забрасывает беспечно и небрежно ногу на ногу. Даже дальний родственник Тартыги, сватушка Игнат, в избе которого Тартыга ночует и платит за харчи по двугривенному в день, – и тот недружелюбно замкнулся теперь сам в себе и молчит…
Тартыга сознает, что он чужой всем, и от этого в нем сильней поднимается задорное желание посердить Наума. Насмешливо он отвечает:
– Ну да, порешил! Вот провалиться на месте, если вру… Чего мне в назьме да грязи ковыряться?..
Наум выравнивается и кажется выше. Сверху вниз он оглядывает Тартыгу, не скрывая своего презрения, и продолжает:
– Легкой жисти, парень, захотелось?.. Неохота, видно, землю-матушку холить да мужицкий хлебушко исти!..
Тартыга не смущается от этих слов. Он смеется длительным и деланным смехом. В пустоте его ощерившегося рта видны желтые обкуренные зубы.
– Правильно сказал, дядя Наум!.. Ей-богу!.. Чего я здесь у вас не видал?.. Лаптем воду не хлебал нешто? А?.. В городу я по крайности на какую хошь работу встану…
Наум мрачно поводит бровями…
– Много тоже и нашего брата там под забором дохнет!..
– А и дохнет… Вот, ей-богу же, дохнет… – дурачливо отвечает Тартыга.
Он играет своими словами, и каждый мускул на его лице тоже играет и живет. Своей уступчивостью он хочет показать превосходство перед Наумом… Незачем! мол, спорить – все равно не переспоришь…
– В городу, дядя Наум, – проирджает Тартыга, все более входя в свою роль, – людей, как жомарей в лесу: кои дохнут, а кои на изс место прибавляются… Чудное дело: откуда такая сила народу берется!.. Выйдешь на панель в самую гущу, – тут тебе и генералы в лентах, и господа с тросточками, и барыни (всякие… А умереть,! щто ж… везде с голодухи наш брат помирает… Только в городу смерть веселая, – не то што в деревне… Выпил сороковку, послушал машинку в трактире, хлопнул картузом оземь – и кр-рышка!..
Наум следил за Тартыгой. И по мере того как Тартыга одушевляется, лицо Наума становится строже, веки тяжелеют и надвигаются на темные, глубоко вырезанные глаза… Растет нестерпимая злоба ко всему, о чем так легко болтает Тартыга. Наум весь собирается для ответного удара, прицеливается мрачно в противника и говорит опять… Но он не тратит всех зарядов сразу, не высказывает всего, что думает, а только задает пустяшный, по-видимому, ничего не значащий вопрос:
– Ну, а дальше что?
Тартыге ясен этот хитрый маневр, и он, с своей стороны, считает, что лучше продолжать в прежнем дурашливом тоне.
– Что дальше?.. Сволокут, как собаку, за казенный счет на Пичугино – дальше ничего…
Наум пренебрежительно скользит глазами по Тартыге и незначительно бросает два-три слова: