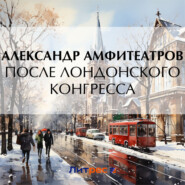По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В стране любви
Год написания книги
1893
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но ведь вы все равно давно разошлись во взглядах и в жизни, и живете, как чужие!
– Да, но об этом знаю я, знает он и – вот теперь знаешь ты; остальные могут, если им угодно, догадываться, – до догадок мне нет дела. Меня пугают только определенности и резкости. Я создана для смешанных тонов и полутеней. Ты все ломишь по прямой линии, а, по-моему, описывать кривые – куда как приятнее и веселее. Но, увы, как всегда, крайности сходятся. Сошлись и мы…
– Ты не была такою, когда я тебя узнал, – бормотал Лештуков, покачивая головою.
– Нет, была. Только ты не видал. Ты не хотел видеть. Ты слишком поэт и фантазер. Когда ты полюбил, ты, в сущности, сперва полюбил не меня. Ты сочинил меня по своему вкусу, а потом ты влюбился в свою выдумку. Я это хорошо видела, но не могла тебя предостеречь.
– Почему?
– Во-первых, ты мне не поверил бы. Больного любовью ничем не переубедить. Ты сказал бы, что я на себя клевещу, что я напускаю на себя неподходящую роль, ломаюсь, играю. Это свойство любовной слепоты – видеть в правде ложь и во лжи правду. Затем, я должна тебе сознаться, – мне очень льстило, что ты так красиво обо мне думаешь. Я одно время, под твоим влиянием, чуть-чуть было и сама не поверила, будто я и глубокая, и особенная… И, наконец, ты мне очень нравился… Я не хотела отпускать тебя от себя. Мне хотелось угодить тебе… И… я немножко шрала…
– Сознавая, что из этого не выйдет ничего доброго?
– Я тогда и предположить не могла, что мы зайдем так далеко.
– Как? Разве ты не понимала, что мне не до шуток, не до твоего флирта?..
– Нет, я тебе не верила. Я думала, что ты тоже только красиво играешь и немножко заигрываешься.
– В тридцать-то шесть лет?..
– Э! У кого актерство в натуре, тот и в семьдесят два играть будет. Думала, что мы немножко порисуемся друг перед другом, приятно проведем время и – расстанемся приятелями… Да вот и доигрались. Кто же мог предположить, что на свете водятся еще такие бешеные, как ты?
– Ах, Маргарита, Маргарита! Она смотрела жалобно.
– Право, я сама не рада, что у меня такая сухая натура, что я могу выделить из своего сердца лишь так мало любви. Но зато, сколько ее есть у меня, она вся твоя и надолго твоею останется. Мне подумать страшно, как я буду без тебя… Я так к твоей любви привыкла!
Она заплакала.
– Ты поступаешь жестоко, а не я, – продолжала она сквозь слезы. – Ты ставишь мне свои ужасные «или-или». Точно топором рубишь. А я люблю проще, как любится и как можно любить. Если бы ты действительно меня любил, не был только болен мною, ты бы сумел победить свой мужской эгоизм, свою сатанинскую гордость, бросил бы свои громкие фразы о гражданском браке, о бесчестности обмана, сумел бы примириться и ужиться с Вильгельмом. Подумай, глупый! Чем мешает он тебе, если я вся – твоя, а ему принадлежу только по имени? Ты всюду последовал бы за мною, не оставил бы меня одну на муку этой проклятой любви!
– Лгать, обманывать, притворяться, унижаться – разве это жизнь?
– Не знаю… Но знаю, что мы были бы близки друг другу… Что мы имели бы счастливые минуты, никого ими не оскорбляя, а тягость лжи… Как будто она одному тебе страшна! Мне, с моим беспокойным и робким характером, тоже жутко приходится. Надо очень любшъ, чтобы ставить себя в рискованное положение, как сейчас мое. Жертвы измеряются не тем, сколько кто жертвует, а тем, каких усилий это стоит. Верь: мне ничуть не легче твоего! Но ты не хочешь рассуждать. Ты все предрек, уверовал в свои программы… Какой Папа непогрешимый!.. Затвердил свое: подло… честно… честно… подло… Все или ничего! А по-моему, и не все, и не ничего, но хоть что-нибудь. Лишиться меня вовсе – это ты называешь любовью?!
– Ты хочешь… – медленно заговорил Лештуков.
– Только одного: чтобы мы были счастливы, сколько можем.
– Ценою подлости?
– А!.. Постараемся не думать и не станем говорить об этом!
– Вечно лгать?
– Ну и лгать. Отчего это слово так тебя пугает? Что за правдивость особенная напала? Ты сейчас произносил слова пострашнее, чем «лгать»… Ты Вильгельма убить собирался. Разве ложь страшнее убийства? Как тебя разобрать?
– Чего же именно ты хочешь от меня? – угрюмо спросил Лештуков, поникая головою.
Маргарита Николаевна быстро на него взглянула.
– Ты как это спрашиваешь, – опять для сцены и криков, или в самом деле желаешь, чтобы я тебе сказала, как хотелось бы мне устроить наши отношения?
– Я не могу совсем потерять тебя, – еще глуше сказал Лештуков, не отвечая прямо на вопрос.
У Маргариты Николаевны сверкнули глаза, и весело задрожал подбородок.
– Мне бы хотелось, чтобы ты, месяца через два, приехал в Петербург.
– Зачем? Чтобы, как здесь, любоваться твоим семейным благополучием и слушать мудрые речи Вильгельма Александровича?
– Петербург – не Виареджио, ты можешь никогда не видать Вильгельма и каждый день видеть меня…
Оба умолкли. Тишина нарушалась только буханьем моря, час от часу рычавшего все громче и победнее, – словно гигантский зверь резвился в темноте, сам потешаясь своею силою и свирепостью.
– Приедешь? – робко вымолвила Маргарита Николаевна, кладя руку на руку Лештукова.
– Погоди… Не знаю я, ничего не знаю… Она прилегла к его плечу.
– Я буду думать, что ты приедешь…
Он молчал, неуклюже осунувшись в своем кресле.
– Ты позволяешь мне так думать?
Лештуков внезапно сполз с кресла и очутился у ее ног, уронив на ее руки лицо – мокрое от вырвавшихся на волю слез боли, стыда и гнева. Плечи его тряслись.
– Не знаю я… Ничего не знаю, – повторил он, захлебываясь истерическими спазмами, – думай, что хочешь… Сделать так, как ты просишь, отвратительно… гнусно… Потерять тебя – страшно… Я не могу еще разобраться… Это после придет… Но если я и приеду, это уже не то будет, что было здесь. Я прощаюсь с тобою… Прощаюсь с мечтою огромного, хорошего, умного и честного счастья… Со светом любви… А там будут потемки: рабская ложь и рабская чувственность!
…Когда Маргарита Николаевна простилась с Лештуковым, небо уже белело. Он долго стоял на балконе, хмуря брови над распухшими красными глазами. Дождавшись солнца, он взял шляпу и тихо вышел из дома. Он направился к купальням Черри. Большого труда стоило ему растолкать лодочного сторожа.
– Синьору требуется лодка? В такую-то погоду?
Старик неодобрительно покачал головою, однако не посмел отказать и помог Лештукову спустить на воду легкий челнок. Бешеное море подхватило лодку отливом только что разбившейся о берег волны. Лештуков едва успел взмахнуть веслами, как лодка уже очутилась на гребне двухаршинного вала и ухнула с него, точно с ледяной горы. Затем ее опять швырнуло к берегу, но Лештуков был настороже и, – с красным лицом, вытаращенными глазами, с жилами, вздутыми, как веревки, на лбу, – напрягал свою силу, чтобы прорваться сквозь прибой. Вокруг него, как в котле, клокотала вода, не успевая даже сбиться в пену: волна была – как изумруд, только насквозь пропитанный серебряными пузырьками. С Лештукова снесло шляпу. Он сразу набил себе веслами мозоли и в кровь изодрал руки. Лештукову удалось выбраться сажен на пятнадцать от берега; волна здесь была ниже, кипение слабее, но течение давило против весел непреоборимою силою: Лештуков пытался соломинкой остановить гору! Волны, набегающие из открытого моря, сталкивались здесь с волнами, отпрядывающими от берега, и трепали лодку в дикой качке, валяя ее с бока на бок, точно пирог. Доски трещали. Лештуков, чтобы усидеть на месте, должен был упираться так, что ноги немели, икры ломило тупою болью, а подошва будто пригорела к перекладине на дне лодки. Тем не менее, он еще не думал о возвращении. Борьба с валами тешила его. Седой вихрь возмущенной стихии своими грохочущими жемчугами исхлестал ему лицо и спину. Каждый всплеск волны бил его, как плетью, с размаху. Соль разъедала ему глаза, соль была в волосах, во рту было горько. Несмотря на теплую погоду, волны, когда ныряла в них лодка, заставляли Лештукова дрожать от холода, хотя, минуту спустя, пот катился с его лица градом, от усилий поединка с зверем-морем. Дикий восторг овладел Лештуковым, ему хотелось мчаться вперед и вперед, навстречу тайнам все нараставшего волнения. Мысль о гибели даже и в голову ему не приходила – так торжествовала ожесточенная до экстаза, возвышенная мечта борьбы. Но море было сильнее и вдаль от берега Дмитрия Владимировича не пускало. Ему оставалось довольствоваться тем, что он упорно держался на однажды достигнутой им полосе, предоставляя волнам таскать его взад и вперед вдоль береговой линии. На горизонте поднялся саженный вал и летел, тряся серебряною массою пены, точно сам Нептун вынырнул со дна и разметал седую бороду по рассерженному морю. От вала дохнуло холодом – и Лештуков почувствовал себя под тяжестью мутно-зеленого, едва прозрачного сугроба, в котором все кипело и ходило ходуном, вертя лодку, как волчок. Вал пробежал. Оглушенный Лештуков едва успел увидать, что у него сломалось весло, как новая волна опять покрыла его и поволокла к берегу. Тогда он бросил и другое весло и упал в лодку ничком, крепко схватившись за борта. Его поволокло и вышвырнуло на песок к ногам ругающихся сторожей, давно уже, с проклятиями и беспокойством, наблюдавших его поединок с морем.
Лештуков пришел домой избитый, изломанный, весь в рубцах и синяках, и спал почти целый день.
Сутки спустя, он проводил Рехтбергов из Виареджио – со спокойствием и выдержкою, каких сам в себе не понимал. Когда поезд двинулся, Маргарита Николаевна смотрела в одно окно вагона, муж ее в другое, – и как у него, так и у Дмитрия Владимировича, одинаково вежливо были приподняты на прощанье шляпы, одинаково любезные и спокойные улыбки освещали лица.
– Весьма милый человек этот ваш знакомый – господин Лештуков, – сказал Рехтберг жене, когда Виареджио осталось уже за ними.
Маргарита Николаевна не отвечала: ей плакать хотелось.
– Как жаль, что при его любезности и дарованиях он совершенно лишен характера, – продолжал супруг.
– По чему это вы заключили? – отрывисто отозвалась Маргарита Николаевна, усиленно глядя в окно – на вершины Массарозы…
– Прежде всего по тому, что он пьет слишком много вина, тогда как, при его нервности, это должно быть ему вредно, чего он, как умный человек, не сознавать не может…