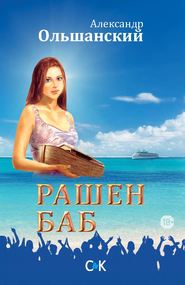По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Все люди – братья?!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я был всего лишь на три-четыре года старше одиннадцатиклассников, поэтому, чего греха таить, заглядывался на выпускниц, а они – на меня. В перерывах между уроками, особенно в большую переменку, я не ходил в учительскую. Меня окружали ученики, которые задавали множество вопросов. Их, видимо, интересовало, как я выкручиваюсь из довольно затруднительных положений.
Тогда произошел один любопытный случай. Одна ученица показала мне письмо американца, с которым она познакомилась где-то на юге. Не помню уж, почему обратилась, то ли хотела посоветоваться, то ли я проверялся на «вшивость» со стороны КГБ. Ведь я же, готовясь в Литинститут, выписывал журнал «Советский Союз» на двух языках – русском и английском. Короче говоря, я записал адрес американца и сказал ученице, что напишу ему. И написал, отстучав письмо на пишущей машинке «Товарищества Жъ. Блокъ».
Я забыл о письме американцу, как вдруг к нам пришел зять Николай Платонович Васильке Крайне расстроен и даже напуган. Оказалось, что его вызывали в КГБ и, как члена партии, просили предупредить меня, что американец – агент ЦРУ, посоветовать прекратить с ним переписку.
По совету изюмского поэта и замечательного человека Александра Ивановича Саенко, отвез рукопись повести «Шоферская легенда» в Харьковскую писательскую организацию. Прочел ее критик Григорий Гельфандбейн, руководивший там работой с молодыми авторами.
Встретил меня критик довольно благосклонно. Не стал анализировать повесть, подсказывать, как ее улучшить, ограничился лишь тем, что ее недостатки – следствие неопытности и юного возраста: мне в ту пору исполнилось всего двадцать лет. Гельфандбейну почему-то показалось, что я не очень доверяю его мнению, и он вдруг сказал:
– В свое время мне пришлось читать рукопись молодого Олеся Гончара. Я ему сказал, что он будет писателем. Так что верьте мне: вы тоже будете писателем. Всё будет зависеть от вас, от того, как вы реализуете свои несомненные способности. А повесть я пока не рекомендовал бы к печати – над нею надо поработать автору…
Надо ли говорить о том, что я возвращался из Харькова как на крыльях?
– Вы – властитель дум наших учеников, – однажды сказал мне директор школы Василий Ефимович Кремень. Не знаю, насколько искренне сказал. Но для меня такая оценка стала полнейшей неожиданностью. Василий Ефимович был, как сейчас говорят, трудоголиком, причем неутомимым.
Его заслуженно наградили орденом Ленина. Но я не знал, что он в войну попал в плен к немцам, а потом несколько лет провел и в наших лагерях. Поэтому высшая правительственная награда для него чрезвычайно дорого стоила.
Мне показалось, что мое намерение поступать в Литинститут директор школы воспринял не без иронии. Однако спустя несколько дней сказал:
– В Литинституте преподает мой товарищ. Мы вместе были с ним в плену. Борис Бедный, может, слышали о таком писателе?
О Борисе Бедном я в ту пору ничего не слышал. Василий Ефимович, конечно же, сказал мне о нем не для того, чтобы я попросил у него содействия. Об этом не могло быть и речи – Кремень не относился к таким, да и я к таким не принадлежал. К тому же, просьба оказалась бы бессмысленной – насколько я помню, творческие работы присылались под девизом.
– Если не поступите, возвращайтесь к нам, – сказал Кремень.
– Нет, я не вернусь, – ответил я, поскольку решил: если не поступлю, то пойду на Красную площадь, крутану ручку на брусчатке и в какую сторону перо покажет, туда и поеду.
В Литинститут!
Из школы я уволился. Июнь прошел в подготовке к экзаменам и в ожидании результатов творческого конкурса. Миновала и половина июля. И только в двадцатых числах наконец-то пришло долгожданное письмо: творческий конкурс прошел успешно, экзамены с 1 августа.
Больше всего меня беспокоил иностранный язык. И тут я где-то вычитал: если по иностранному языку абитуриент не аттестован, то и экзамен в таком случае не сдает. Я поехал в свой техникум, разыскал директора, объяснил суть своей просьбы. И. М. Сокол подергал нервически усом австро-венгерского фельдфебеля и изрек:
– Мы таких справок не выдаем.
Низзя, потому что низзя. А низзя сам изобрел. И ушел, похрустывая несмазанными сочленениями.
Поселили нас человек по шесть в комнатах, где жили обычно двое студентов или один слушатель Высших литературных курсов. Общежитие на Бутырском хуторе только построили. До этого студенты Литинститута и слушатели Высших литературных курсов жили на дачах в Переделкине.
Рядом с моей койкой стояла койка латыша Мариса Чаклайса. Из Грузии приехал Шота Топчиашвили, из Братска – бригадир бетонщиков, хватайте выше – бригады коммунистического труда, рязанец Алексей Труфилов. Как выяснилось потом, он блефовал насчет бригады. Из Магадана – Адам Адамов. Кое-кто поступал в институт по второму, третьему разу.
Допускали к экзаменам после собеседования на кафедре литературного мастерства. Когда я зашел в кабинет, увидел там довольно представительное собрание писателей – Всеволод Иванов, Владимир Лидин, Илья Сельвинский, Кузьма Горбунов, Александр Коваленков, Василий Захарченко, критик Александр Власенко, он же ответственный секретарь приемной комиссии. Находился здесь и Борис Васильевич Бедный – товарищ по плену моего бывшего директора. Председательствовал заведующей кафедрой Сергей Иванович Вашенцев, хотя тут присутствовал ректор института Иван Николаевич Серегин.
Наверное, прежде чем вызвать абитуриента, они знакомились с результатами творческого конкурса, с рецензиями и заключением комиссии. Потому что стали задавать вопросы по повести. Потом решили проверить мое знание современной литературы. Я несколько лет выписывал «Литературную газету», «Роман-газету», покупал «толстые» журналы, выпуски «Библиотечки «Огонька» – короче говоря, все, что можно было найти в Изюме.
– Какое последнее произведение Вадима Кожевникова вы читали? – спросил Всеволод Иванов.
– «Знакомьтесь, Балуев».
– И каково ваше отношение к этому произведению?
К счастью, я читал чью-то критическую статью о повести и разделял мнение автора: перегруженность производственным, организационным материалом в ущерб раскрытию внутреннего мира героя и героев. Так и ответил.
– Ну а что вы читали Всеволода Иванова? – задал вопрос Илья Сельвинский.
– «Партизанские повести», «Бронепоезд 14–69».
Естественно, не знал, что Всеволод Вячеславович написал уже роман «Ужгинский кремль» и что спустя двадцать лет, работая заместителем главного редактора Главной редакции художественной литературы Госкомиздата СССР, я буду выступать за издание этого сложного и глубокого произведения и убеждать в том же главного редактора Андрея Николаевича Сахарова – в будущем директора академического Института российской истории. Роман Вс. Иванова вышел в 1981 году.
Собеседование я прошел, получил экзаменационный лист с номером 545. Потом убедился, что номер – шифр для принимающих экзамены. Кому-то после собеседования рекомендовали поступать на заочное отделение, а кого-то вообще отсеивали – к сожалению, и Мариса Чаклайса, с которым мы немного сошлись. Марис Чаклайс со временем стал знаменитым латышским поэтом.
Сочинение я написал или на «хорошо», или на «отлично» – не помню даже темы. Но вот что запомнилось. Сдаю русскую литературу. Вопрос по советской литературе и дореволюционной – в данном случае «Писарев о Базарове». Ответил по советской литературе, а потом заявляю:
– А что Писарев написал о Базарове, извините, не знаю.
– А почему не знаете? – спросил профессор X.
– Если бы я знал, что написал Писарев о Базарове, то зачем бы тогда поступал в Литинститут? Я ведь поступаю сюда, чтобы изучить литературу.
– Плохо, – говорит профессор, а я кошу глаз на то, как он выводит в экзаменационном листе «хорошо».
Историю я любил, накануне прочел проект новой «Программы КПСС», так что получил пятерку без проблем.
Оставался иностранный язык. Какой сдавать? Из немецкого знал, кроме расхожих выражений, только слово besuchen – посещать, чем я не занимался в техникуме, поскольку был освобожден от немецкого языка, как ранее изучавший английский. Да и ввели немецкий язык только на третьем курсе. Английским занимался самостоятельно. Однако я, видимо, расхулиганился, когда вошел в аудиторию и, увидев трех молодых и симпатичных экзаменаторш, решил: пойду сдавать самой симпатичной, пусть она принимает экзамен хоть по китайской грамоте. Направился к самой симпатичной, поздоровался, отдал экзаменационный лист и вытащил билет. Посмотрел – английский!
Ответил на вопросы по грамматике, приступил к чтению отрывка под названием «In the garden», то есть «В саду». Читал я так: ин дзэ гарден… Довольно ловко справился с переводом.
– Поразительно, – заулыбалась моя красавица, – если бы не знала, что принимаю экзамен по английскому языку, ни за что не догадалась бы, что вы читаете текст на английском. А перевели совершенно точно.
– Учил его самостоятельно.
– Тогда всё ясно, – сказала красавица и поставила «хор». В приемной комиссии обещали тем, кто сдал экзамены, сообщить окончательное решение в двадцатых числах августа. Я вернулся в Изюм, прождал две недели, не выдержал ожидания и поехал в Москву. Плацкартный билет до столицы стоил всего восемь рублей тридцать копеек. Поездка в Москву занимала 12 часов. Да и ходило через Изюм множество поездов кавказского направления. Теперь билеты от Москвы до Изюма стоят так дорого, что мой 70-летний брат задумал приехать к нам в гости электричками. Теперь – надо переезжать границу, поезда ходят медленнее, чем полвека назад! Глупость человеческая беспредельнее Вселенной. А Вселенная бесконечна.
В институте на доске объявлений увидел свою фамилию в приказе о зачислении на первый курс дневного отделения. Верчение ручки на Красной площади откладывалось. В списке всего числилось около двух десятков фамилий. Человек сорок приняли на заочное отделение – на творческий же конкурс пришло около двух с половиной тысяч заявлений. Естественно, мы гордились тем, что прошли такое чистилище.
Не без оснований мы сравнивали свой вуз с пушкинским лицеем и считали Литинститут его преемником. В те времена вечера поэзии в Политехническом музее проходили под присмотром конной милиции. На общественную арену страны вышло поколение шестидесятников. Они не могли быть политиками, так как в стране политическая деятельность безраздельно принадлежала коммунистической партии. Поэтому шестидесятники могли проявить себя в литературе и искусстве или в науке.
Многие из наших преподавателей вернулись недавно из лагерей, но о своем недавнем прошлом не распространялись. Никита Хрущев в перерывах неустанных забот о кукурузе и реформах типа «шило на мыло», собирал в Кремле творческую интеллигенцию и устраивал разносы. На весь мир прозвучал скандал с публикацией в Италии романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Роман как роман, никаких особенных художественных открытий там нет, да и вреда для советского социализма никакого, если бы опубликовали в Советском Союзе, он не принес бы. Деятельность кремлевских властителей, самого Хрущева, нанесла ущерб делу социализма и коммунизма (в этом смысле У. Черчилль совершенно прав) больше, чем советская и антисоветская литература и искусство вместе взятые.
Не стоит усматривать в данном случае каких-либо противоречий в действиях Хрущева. Он понимал, что не только руки по локоть, но и лысина у него в крови. Естественно, всю вину за репрессии валил на Сталина, напяливая на себя тогу верного ленинца. Хрущев хотел отделить Сталина от Ленина, социализм и коммунизм от кровавых репрессий и бесчеловечности сталинского режима. Заодно и себя – от отца народов. Но общество стало сомневаться в правильности самого «верного учения», – вот чего не ожидал Никита.
Он эксплуатировал уважение народа к Ленину, причисляя себя к когорте «верных ленинцев». Из Ленина коммунистическая пропаганда делала бога. Вся отрицательная информация о его кровавой, буквально сатанинской деятельности замалчивалась и каралась самым жестоким образом. «Иконописцы» из числа творческой «интеллигенции», создавшие лживые образы вождя, процветали. Ложь прибыльна.
Хрущев же, ловкий, можно сказать, даже увертливый деятель, умел заметать за собой следы. Сталину служил верным псом, а после смерти хозяина – превратился в шакала по отношению к нему. По указанию Хрущева его захоронили в гробу из неструганых досок, со щелями. Акт глумления? На разоблачении культа Сталина Хрущев фактически заимел свой культ. И вдруг в последние годы пребывания в Кремле антисталинская риторика почти исчезла из уст Хрущева. Так в чем же причина того, что Никита приуныл?
В то время председателем КГБ был В. Семичастный. Якобы Хрущев вызвал его к себе и дал указание все решения троек и особых совещаний, завизированных им и другими членами политбюро, изъять из архивов и доставить ему. Прошел месяц, второй, а Семичастный не спешит с папками позорных решений. Вызывает его к себе Хрущев, мол, я давал указание, почему не выполняешь? «Его невозможно выполнить, – ответил Семичастный. – Эти решения рассеяны по всем делам. К примеру, находим внутри справки о собрании в каком-то воронежском колхозе…» Судя по всему, зная превосходно нравы своих подельников, Сталин повязывал их, вынуждал визировать расстрельные списки, а чтобы они не сумели быстро замести следы, распорядился рассеять документы по всем архивам. Не исключено, что наряду с недовольством антисталинской политикой, «неисполнительность» Семичастного тоже повлияла на Хрущева.
Наш институт был, пожалуй, самым малочисленным в стране по количеству студентов. Поэтов, прозаиков, драматургов и критиков на нашем курсе не набиралось и двадцати. Десять переводчиков с эстонского – в основном высокомерных вчерашних школьниц из Таллинна, и несколько иностранцев-арабов – из Судана, Йемена, Эфиопии, Ирака. Всего на очном отделении, а оно в творческом плане ставилось куда выше заочного, училось человек сто двадцать. Но в два раза было больше преподавателей, поскольку для обучения чрезвычайно разнообразной публики требовались подчас редкие специалисты.