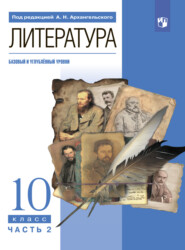По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Цена отсечения
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из темноты появились четверо: бывший водящий и его пацаны.
Били долго и молча.
Двое держали, двое лупили. Под дых, в нос, в глаз, ниже пояса, в зубы. Кровь смешалась с густыми слюнями и крошками зубной эмали. К его мокрым губам они прижали жестяную банку; при минус двадцати кислое железо пристало намертво.
Воткнули головой в сугроб и ушли.
Урок был преподан хороший, не забудется. Сразу все – и сразу ничего. Соленые ошметки кожи на губах. У других, похоже, такого опыта не было; они кайфовали. По центральным улицам гарцевали кавалькады черных джипов, у дорогих французских ресторанов стояли вылизанные «Бентли», Москва превращалась в наркотический восточный город; сытый, самодовольный, ночной. Сорокалетние сверстники Мелькисарова поделили страну и расслабились; отрастили животы навыпуск; вокруг сновали стайки острозубых девок, шлейфами вихрились сонмы приживал, допущенных к диванчикам вип-зоны. Из тени обычного зала злобно посверкивали взгляды молодых волчат: успешные, но не успевшие к большому переделу, состоятельные, но не до конца состоявшиеся, они обросли своими стайками, своими прилипалами. А за ними был и третий круг: безбедные. И четвертый: при деньгах. И пятый: просто обеспеченные; дым пожиже, изба пониже; Шахерезада со скидкой.
Летом 97-го в моду вошел плакат. Свежайшая кетовая икра, крупная, алая – надави зубом, вытечет клейкий сок. А по ней черной икрой, белужьей, выведено по-ученически округло: «Жизнь удалась». Плакат висел повсюду. Заходишь к Томскому – отдельный лифт, стеклянный бункер, три уровня защиты – плакат наклеен на стену комнаты отдыха. Спускаешься к девочкам-бухгалтерам в собственном офисе – кипы бумажек, электрический чайник, жирный столетник, рядом с фотографиями кошек – «Жизнь удалась». И в модном баре за спиной бармена. И в витрине книжного магазина на главной столичной улице. И даже у начальника ГАИ в приемной.
Жанка притащила плакат домой:
– Смотри, какая хохма!
Степан свернул плакат и легонько стукнул жену по башке:
– Чтоб я больше такого не видел. Нечего расслабляться.
И пошел к себе, считать доходность казначейских обязательств. Получалась странная картина. Впереди – никаких препятствий для роста, графики похожи на желоб бобслея, развернутый от земли к небу: лети без остановки, охая на поворотах, земного притяжения больше нет; здравствуй, прибыль; почва, прощай! Не вкладывать глупо, но и вкладывать невозможно. Нету пути назад, только вперед и вверх. Но что за следующим поворотом? В какой момент оборвется желоб, и разогнавшийся боб улетит в никуда? Неизвестно. Но точно что улетит. На подоконнике выставлен приз, над унитазом идет трясучка, деньги размножаются делением, но вот-вот скрипнет дверь и в проеме возникнет директор. Здравствуйте, товарищи. Что тут у вас? Пройдемтека-сь в мой кабинет.
Так что – стоп. Эту взятку он не возьмет и будет играть в мизе?р.
К зиме все облигации были слиты, совместный банчок полуподарен, полупродан партнерам, у них же взят огромный рублевый кредит – и переведен в доллары. В августе девяносто восьмого грянул кризис, восемнадцатого числа позвонил Томский. Он был единственный из карликовых олигархов, кто все еще сидел в Москве: самолет не выпускали таможенники; их счета зависли в его банках. Томскому было грустно. А Мелькисарову весело: он со смехом погасил кредит, подешевевший в четыре раза, стал скупать, как на магазинной распродаже, целые этажи в недостроенных зданиях, подхватывал птицефермы: на родных курей появился спрос…
Но. Все это у него уже было. В других масштабах, но – было. Он уже скупал, подгребал, жадничал. Разруливал, проскакивал, копил. Что впереди? еще полшага вверх, боковой обход, выигрыш, временная сдача, обскок противника, удар? Смертельная скука? Как разогретый парафин во время косметической операции, она растекается под кожей, терпко вяжет кровь, насылает тупость, неподвижность, пустоту. Потом отвердевает, стынет, начинается боль.
А еще он почуял соленый воздух. Как будто большая волна несется из сердцевины моря, а беспечный берег про это не знает. Откуда надвигается беда? Неясно. Когда обрушится? Пойди пойми. Но будет что-то нехорошее, неуютное. И Мелькисаров начал методично, неспешно продавать и дробить свои средние бизнесы, перебрасывая деньги на Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи. До?ма инвестировал в короткие проекты; быстро вошел, быстро вышел, быстро перевел. Вошел – вышел – перевел. И опять.
Но бизнес как подержанная вещь; продаешь – изволь пропылесосить. Как только проносится слух о продаже, раздаются звонки и звоночки. Ало-ало. Есть темка, надо встретиться. Заводи их на меня, обсудим цену вопроса. Лейтенант и майор были всего лишь посредники; реальные заказчики на связь не выходили.
12
Самолично распахнув входную дверь, хозяин как бы пьяно сказал майору:
– А знаешь, кто ведет баранов на убой?
– Не знаю, нет.
– Козел их ведет. Они за ним покорно тащатся, блеют… А он их – на скотобойню. Как ты думаешь, почему он у них в авторитете?
– Я не в теме.
– А я так думаю, рогами взял.
Майор задумался. Мелькисаров слегка подтолкнул его в спину: давай, давай, до встречи, – и почти трезво прошептал старлею на ухо:
– Утверждаете результат, товарищ начальник?
– В общем и целом.
Старлей даже не удивился тому, что его раскусили. Четкий парень, будет из него толк.
– Молодец, лейтенант. Телефончик оставь. Вдруг пригодится.
– Пишите, Степан Абгарович.
13
День, по существу, пропал. Часы показывали три; скоро наступят тяжелые январские сумерки; а ведь надо еще полежать, протрезветь. Мелькисаров посмотрел прищуренным взглядом на оранжевое, летнее семейство – Пастернак висел у него в кабинете, почти во всю стену. Прикрыл глаза, тут же открыл, а было уже шесть, темнота, головная боль. Теперь понятны чувства Гарика, когда он пьяно просыпался в Томске, между Репиным и Левитаном. Марш в спортзал, бороться за бессмысленное существование.
Перед выходом из дому Мелькисаров проверил почтовый ящик, вытащил письма; по склейке гаишного конверта провел длинным ногтем (специально отращивал на левом мизинце, шиковал). Распотрошил конверт, вытащил фотографию, сощурился – и разорвал в клочки.
Третья глава
1
У Грибоедова тусила молодежь. Длинные пальто и куртки угольного цвета, кожаные юбки до полу, волосы и брови как воронье крыло, глухие рюкзаки без надписей, уши троекратно окольцованы, ноздри в мелком пирсинге, как в полипах. Кто не знает, решит – сатанисты. А это несчастные готы, поклонники средневековья; она встречает их тут каждый день, некоторых узнает и здоровается. Они, застенчиво погогатывая, отвечают. Жанна смотрит на них с умилением, потому что думает – про Тёму. Бестолковые мальчики в прыщах хорохорятся, жирнобокие девочки превращают уродство в стиль; даст Бог, найдут себе тут пару, сойдутся, прикипят, поженятся, отмоются, детишек заведут и будут счастливы, пока не станут несчастны, как стала несчастна она.
Зачем ей Степа? Зачем ей вообще – мужчина? Для секса, прости ее грешную? Можно прожить и без секса; киношники-писатели навели тень на плетень, внушили, будто все вращается вокруг этого дела; глупость. Приятно, иногда необходимо, но не более того. Чтоб сделал ребеночка? Один ребеночек у нее уже есть, а другого не будет, поздно; так хочется еще хоть раз понянчиться с уютным комком человеческой плоти, потетешкаться, вжаться губами в сладкий живот и рыхлые складочки, поскрести шелудивую корочку на голове, ощутить опасное биение родничка, принюхаться к запаху прелой пшеницы на затылке и за ушами, обнять, согреть, упиться незаслуженным счастьем, – но придется обождать внучков. А для внуков Абгарыч не нужен. Для жизненного интереса? для общения? Ну да, когда-то было так; теперь иначе. Она его видит редко, а он ее, пожалуй, еще реже: запросто может быть рядом, а мыслями далеко. Низачем, низачем, низачем.
Но если низачем, то почему так больно? Привязанность? Срослась? Привычка? Почему ноги сами несут на улицу, заставляют брести кривыми чистопрудными дворами, мимо посольств и театриков, забегаловок и роскошных кафе, советских продуктовых, пахнущих лежалой рыбой, сияющих банковских офисов, и опять по той же траектории, и снова, снова, лишь бы не остаться дома, наедине с надоевшей – собой?
Года три назад она внезапно обнаружила, что разговаривает вслух. Не распевает песни в душе, не декламирует любимые стихи, как декламировал их папа, геодезический полковник Рябоконь, разгоняя ледяную воду жесткой губкой: «Любовь! – не вздохи – на – скамейке! – и не – прогулки – под луной!!!», а по-старушечьи бормочет, меленько подбирая губы и передразнивая собеседника: аах, выы вот тааак… вот вы кааакиие… В тот момент она стояла перед зеркалом и привычно разминала кожу под глазами; вдруг как будто бы со стороны услышала свой собственный голос: нет, Жанна, нет, подумай хорошенько, и поймешь! Перепугалась, очнулась, увидала перед собой чужую тетку с перекошенным лицом: кривляется, как маленькая обезьянка, взгляд пустой, нездешний; сомнамбула… Поклялась, что больше никогда, никогда! а через несколько дней осознала, что резко выворачивает руль, и почти кричит – не о дороге, не об этой скотине на «Волге», а о том, что грустно, грустно, тоскааа! И кричит не себе, а Степану. Который снова неизвестно где – и без нее.
Вчера, как это бывает при высокой температуре, время и тянулось, и неслось. Утро не кончалось, не кончалось, и сразу обернулось вечером; казалось, только что достала фото из конверта, а вот уже сидит в кафе и плачется девчонкам. Как раз по вторникам у них лекторий при спортивном клубе; послушали профессора Петровича про современное искусство (он их любимец, такой текучий и уклончивый, не то, что их прямолинейные мужья). Потом остались и попили кофе.
Девочки услышали про фотографию, охнули, засыпали советами. Яна призывала: затаиться! Ничего не знаю, ничего не происходит, Степочка, иди ко мне… Ну, затаится она, оттянет неизбежное, а дальше? Однажды Степа заглянет на кухню, сумрачно, бездушно покивает на ее словесные наскоки, и вдруг объявит: ну все, я пошел. В том смысле, что вообще – пошел. Спасибо за совместно прожитые годы. Таня Томская осторожно предлагала – в церковь. Но Степа – не Томский; что ему до батюшкиных поучений. Аня Коломиец твердо заявила: адвокат. И, пожалуйста, без промедлений. Степан Абгарович мужчина умный, твердый; ничего на себя не записывал: лишняя подпись – лишний срок; дойдет до развода, получишь квартиру, одну из двух; и машину, тоже одну из двух; тысяч сто наличными – напополам. А все остальное – она подгребет.
– Ой, Абгарыч, милый, ты откуда взялся? Позанимался уже? А мы тут болтаем о женском. – Янка сидела лицом ко входу в клуб, первой заметила Степана, немедленно задвинула ноги поглубже под стул: при росте сто шестьдесят шесть сантиметров размер стопы у нее был сорок пятый, она жутко этого стеснялась.
– Да уж вижу. И хорошо, что не слышу.
Степан поставил спортивную сумку, оглядел подруг. Жанне очень не понравилось, как он посмотрел на Аню, и особенно – как та взглянула на него. Взаимно, испытующе, заинтересованно. Только без подмигивания. Или это помешательство от ревности, пора показаться врачу?
Ночью она заставила себя увлечься, приманила Степочку; он смешно старался и потел, она поддавалась нежно; он даже на двадцать минут уснул, нарушив все свои гадкие правила. Лежал беспечный, умилительно всхрапывал; вертикальные морщины на щеках разгладились, волосы у корней слегка взмокли, хотелось потрепать его, как любимого бестолкового пса. На секунду вспыхнула надежда: Степа заснул глубоко, до утра; хоть что-то в их устоявшейся жизни будет впервые, появится новая точка отсчета. Но нет, содрогнулся всем телом, судорожно вздохнул, рывком сел на кровати.
– Странный сон. Мы откуда-то летим с пересадкой: то ли Куба, то ли Австралия, может, Южная Африка. Садимся на какой-то остров, взлетная полоса – посреди бассейна, поднимается пар, как ранней зимой на реке, но при этом жуткая жара, все сизое; несколько человек плывут не пойми куда, мы тоже ныряем, а что дальше – не помню… Пойду я, Рябоконь, спокойной ночи.
Чмокнул в щечку, сунул ноги в мягкие туфли, натянул халат, погасил ночник, и был таков. Так что Янин рецепт не сработал. Тогда она задумалась об адвокате; ворочалась, засыпала, тут же просыпалась; утром не смогла избавиться от тягучих мыслей. Налипли и размазались, как жвачка по ворсистой ткани; не соскрести. Ну да, в семейной жизни Аня ничего не понимает. Все ее мужики – по одному лекалу; подкатывает мачо на «Феррари», весь из себя, и остров у него на Карибах, и тусы затевает ого-го: пентхаус затемнен, по углам обнаженные девушки с плашками живого огня, со всех сторон в прозрачных стенах – заметенная снегом Москва, сине-желтая, густая. Пускает пыль в глаза, сорит деньгами; через полгода – залег на диван; в одной руке Толстой, в другой Аксёнов; в чем же смысл жизни, любимая? В тебе, дорогой… Ну, иди, поработай, а я почитаю. Но если Аня все же угадала? И пипетка, сикильдявка, кочебяшка начинает обкаладывать справа, снизу, сверху, пеленать желанием, опутывать нежностью, пропитывать умилением, проникать во все поры, бычий цепень, глиста, паразитка, пиранья. И – совсем как та, единственная, с которой он нарушил – хочет угнездиться еще глубже, влезть в его мысли и планы, перенаправить их изнутри, как будто он сам так решил. А где у нас тут, Степочка, финансы? А вот Тёмочкину сколько мы оставим? А этой – твоей – сколько? А мне ты дашь поуправлять немножко? Нет, ну правда-правда немножко? дашь? дашь, скажи? сейчас, сейчас скажи! как же я тебя лю, ты хороший! И лет через пять, через семь, через десять, всем до конца овладев и все из него выев, спокойно и насмешливо подытожит: спасибо, Мелькисаров, за науку. Что-то я тебе оставила, не пропадешь. А мне пора. Засиделася я. Не скучай.
Нет. Не дождется. Будем звонить Соломону. Спасать и себя, и Степана. Забельский, Забельский; где его телефон?
Она стояла на углу Покровки и бульвара; раздраженно звякал трамвай, которому загородили путь бокастые тойоты; прохожие толклись вокруг нее, чиркали одеждой об одежду, а Жанна не сдвигалась с места и упрямо искала в телефонной книге, на какую букву записала Соломона. На «З» – Забельский? Или все-таки «А» – адвокат? Не смогла припомнить, стала щелкать все подряд, по алфавиту, и уже дошла до буквы «Э», когда почувствовала мерзкий запах мокрого лежалого сукна и застоявшейся мочи; тут же проявился хриплый голос:
– Баришня, дай десять рублей на бухало, плз.
Она оторвала взгляд от экранчика; по-цирковому выгнувшись, из-за ее плеча выглядывал какой-то алконавт. Как старый змей, оплетающий дерево. Глаза разноцветные, пестренькие; пытается смотреть подобострастно.