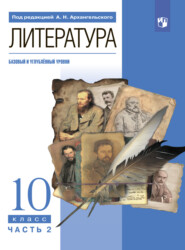По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тут они забрали Сережу в армию, хотя он не подлежал призыву: у него был какой-то страшный остеомиелит и одна нога короче другой. Незадолго перед тем как забрить, его, семнадцатилетнего мальчишку, доставили в Калугу и стали допрашивать. А он им отказался давать показания какие бы то ни было. И калужский следователь сказал ему: «Ты считаешь, что выиграл. Но помни, сука, тебе по земле не ходить. Ты еще за это отплатишь». И вскоре – военная комиссия, армия, дальний север.
Когда я просила Алика включить Сережу в список на высылку, мы не знали, что уже полгода идут переговоры об обмене заключенными – с американцами. Просто так сказала. Но свидание было в сентябре. А 27 апреля следующего года я уложила детей спать, села у приемника и стала гладить белье, прямо на столе. И вдруг где-то в двадцать минут первого ночи диктор объявляет: «Мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что по договоренности между правительством Соединенных Штатов Америки и Советского Союза подписано соглашение об обмене заключенных на двух сотрудников советской разведки, осужденных на пожизненное заключение в Америке». Уточняют: советские политзаключенные уже прибыли в США. Вот их имена… И называют Александра Гинзбурга.
Вот так я и узнала. Телефона у меня больше нет, позвонить никому не могу. Дома двое маленьких детей. А к нам уже приходили с угрозой погрома, обещали «гнев народа». Одному ребенку прыснули во дворе какой-то отравой из баллончика. Другого пытались сбить гэбэшной машиной, следившей за нами, когда он перебегал дорогу на Пушкинской, около скверика. Слава богу, он отделался разбитым лицом. Я боялась их одних оставлять. Вдруг прибегает ко мне Алик Бабенышев, приятель, который в нашем доме жил: посидеть с моими детьми.
В общем, той ночью, несмотря на тяжелый приступ и температуру под сорок, я провела две пресс-конференции. В десять утра явился какой-то посыльный из ОВИРа, сказал: «Собирайтесь срочно уезжать». Я сказала, что без Сережи мы не уедем. Врач, вызванный ими, подтвердил, что я тяжело больна и ехать не могу.
Позже Алик мне рассказывал, что они сидели с Кузнецовым на нарах, их подхватили, срочно отвезли на поезд, доставили в «Лефортово», где объявили: «Вы лишены гражданства, и завтра вас отправляют». Куда не сказали. Наглый Кузнецов, который сидел за угон самолета, сказал: «А пораньше нельзя?» Через день с мигалкой отвезли в американское посольство. И Алик попросил внести в бумаги, что членом семьи является Сережа. И американцы начали за Сережу бороться. Я все тянула время, девять месяцев мы сидели на чемоданах. А тут наступил Афганистан. И стало понятно, что все уже, этим море по колено. Меня вызвали и приказали уехать до 1 января 1980 года. Я говорю: «Вы шутите? Я не собрана, мне нужно оформить доверенность на дом в Тарусе, чтобы потом продать и раздать долги». В итоге американский консул уговорил их сдвинуть срок отъезда на 1 февраля. Это был максимум: соглашение об обмене действовало только один год, и он истек. Американцы подытожили: если 1 февраля вы не уедете, мы ничего сделать не сможем. И мы первого февраля уехали. Это было ужасно. Такого тяжелого периода в моей жизни я даже не помню. Алик там сходил с ума. Здесь и Сережа под ударом, и дети, и мама, которая уже еле-еле встает…
Когда Сережа освободился из армии, он ночью с поезда поехал в Беляево. И до утра сидел на лестнице возле нашей квартиры. Наутро позвонил в дверь. Какие-то люди там были. Он сказал: «Простите меня. Но я жил в этой квартире некоторое время назад. Вы мне позволите зайти хотя бы посмотреть на нее?» Они его пустили. Все, конечно, было уже другое… И он жил у наших друзей. У Юлика Кима, у Бахминых. Все ему помогали. И мы еще как-то надеялись, что нам удастся его вытащить к себе. Он поступил учиться, казалось, что жизнь его налаживается. И в декабре восемьдесят пятого года (и подождать-то было прям вот немного, да? вот-вот начнется перестройка) он покончил с собой…
А в феврале 1980-го мы попали в Париж. Потому что в связи с бойкотом Олимпиады самолеты из Америки в Москву не летали. Алик прилетел нас в Париже встречать.
Нас долго, долго, долго вели по аэропорту, выдавали какие-то бумажки. Вывели наконец на какую-то площадку. И вдруг я увидела, как дети (а они были очень смешные, в курточках с капюшонами, которые им привезла Наташа Солженицына; у одного серенькая, у другого голубенькая; и в руках у них были сумочки с игрушками в виде то ли кошки, то ли медведя) с криком: «Папа, папа!» кинулись по лестнице. А наверху сидел Алик на корточках и смотрел на них. Вокруг корреспонденты, щелкают вспышками…
Мы переночевали одну ночь у Максимовых. И наутро на «Конкорде» полетели в Штаты. Нас немедленно перевезли в Дом свободы, Фридом Хаус, где была огромная пресс-конференция. На ней присутствовал Андрей Седых, который был когда-то бунинским секретарем. И он опубликовал в «Новом русском слове» хвалебную статью на целый разворот. А в конце написал: «И потом она завернулась в черную шаль, и по лицу ее покатились крупные слезы». Гинзбург меня потом все время высмеивал.
Вскоре мы поехали к Солженицыным в Вермонт и жили там несколько месяцев. И туда нам позвонили из Парижа и предложили мне работать в газете «Русская мысль». И уже в июне мы уехали в Париж…
Да, сегодня диссидентство не востребовано. Оно не было востребовано даже в перестройку. Но на самом деле это глубинно важный момент в истории России. Потому что российское общество глубинно научилось милосердию. И еще. В советской России была уничтожена самая креативная часть российской культуры, науки и общественной жизни. И на фоне расчеловечивания диссиденты стали делать свою работу. Иногда казалось, что бьешься в глухую стенку. Но нет. Я думаю, что при всем том, что нынешние годы – это откат назад, все-таки многое дало результат.
Я не была никогда отважным диссидентом. Я не могла бы, наверное, как Наташа Горбаневская, с маленьким ребенком пойти на площадь. Но у каждого свои тропинки и пути. Я просто делала свое дело, была сама собой. Вообще это было замечательное время моей жизни, несмотря ни на что. «Мам, – говорит мне старший сын Санька. – Это значит, что у нас было счастливое детство». Понимаете?
Наталья Горбаневская
Родители у меня были – мама и бабушка. Что думала моя бабушка о советской власти и вообще о происходящем, я совершенно не знаю, тем более что бабушка умерла, когда мне было четырнадцать лет. В то время никаких таких вольных разговоров в доме не велось. Я помню, мама бывала у своей приятельницы, чьего мужа репрессировали в 37-м году, и говорила так: «Лес рубят – щепки летят, вот ее муж ни в чем виновен не был, но его тоже посадили». По тем временам сомневаться в том, что он был виновен, – это уже довольно смелая фраза.
А много лет спустя мне Люся Улицкая рассказала, что уже после моей эмиграции она была у моей мамы, и та ей говорит: «Как же так, у Наташи все-таки двое детей, надо было думать». Люся возражает: «Евгения Семеновна, Наташа не могла иначе». И вдруг мама рассказывает: «А к нам на работу в 37-м году приехали из НКВД на собрание и говорят: у вас Михаил Моисеевич – враг народа. Я встала и говорю: месяц назад мы ему здесь благодарность выносили, как же это он теперь оказывается врагом народа?» Люся на нее смотрит: «Евгения Семеновна, у вас же тоже было двое детей, а в 37-м году так выступить было куда опаснее».
То есть смелость и стремление к справедливости у нее всегда были. Это не политические взгляды, это другое. Я на маму очень похожа и внешне, и темпераментом, поэтому у нас бывали очень сложные отношения, мы с ней сталкивались. Но при этом тайно очень любили друг друга; тайно – потому что у нас в семье была принята сдержанность в отношениях.
Когда мне было семнадцать-восемнадцать лет, все вокруг читали стихи, поэтов начала XX века переписывали от руки, потому что машинки были редкостью, искали в букинистических магазинах – там можно было найти даже прижизненные издания Гумилева. Поэзия как бы взращивала в нас, ее читателях, свободу, потому что она с несвободой несовместима. Кроме того, поэзия Серебряного века не переиздавалась, и то, что ее от нас скрыли, уже настраивало антисоветски. Стихи меняли нас, мы становились другими людьми. Меняли настолько, что летом 1956 года, когда я во второй раз поступала в Московский университет, на филфак, мы с моим новым приятелем, который поступал на журналистику, оба ругали советскую власть, но я подумала: «Он ругает советскую власть с советских позиций, а я с антисоветских».
И тут произошло нечто страшное. Весной 1957-го моих друзей с филологического факультета МГУ арестовали по подозрению в антисоветчине, а меня взяли на три дня на Лубянку, и я дала на них показания. Полтора дня просидела, все отрицала, а потом во мне вдруг взыграло комсомольское сознание, и я начала их сдавать. Это самый мрачный момент в моей жизни, который я себе не простила никогда. После чего несколько лет старалась молчать в тряпочку и ни во что не лезть. Но друзья-диссиденты у меня оставались. Я познакомилась с Аликом Гинзбургом, влезла в «Синтаксис», который он издавал. Он тогда делал третий номер, я сразу стала ему помогать – на машинке печатать. Все это опять же происходило на фоне сочинения и чтения стихов; уже года с 54—55-го в обороте появились стихи моих ровесников. Это оставалось главным, и я думаю, что стихи меня и вытянули из ямы, в которую я сама себя загнала.
А еще был самиздат, которым занимались все. Своей машинки у меня не было вплоть до 1964 года, пока мама мне не подарила, чтобы я писала диплом. (Впрочем, я и раньше печатала – на чужих машинках.) Самая знаменитая история моей самиздатской деятельности – распечатка «Реквиема» Ахматовой. Я пришла к Ахматовой, которая жила тогда в Москве у Маргариты Алигер, она мне дала «Реквием», я села и в ее присутствии переписала. И Анна Андреевна сказала: «До вас тем же карандашиком Солженицын переписал». А «карандашик» – это была шариковая ручка. Потом я у кого-то нашла машинку, перепечатала и дальше давала людям экземпляр и говорила: «Вернете мне мой и еще один». Сама я сделала по крайне мере пять закладок по четыре штуки.
Один экземпляр я дала Анджею Дравичу, поляку-литературоведу. А когда «Реквием» вышел на Западе, Анна Андреевна сказала: «Мне сообщили, что „Реквием“ дошел туда через Польшу. Ох, Наташа, не надо было давать этому поляку». Потом качнула головой и говорит: «Ну конечно, я понимаю, такой красивый поляк». Много лет спустя я встретила Анджея уже в Париже, и он сказал, что не имел никакого отношения к передаче «Реквиема» на Запад. В общем, я думаю, что от моих двадцати экземпляров родилось не меньше двухсот, а всего тираж «Реквиема» по России доходил до нескольких тысяч, так что не «утечь» он просто не мог.
Через десять лет, в 1973 году, на Украине будут судить Рейзу Палатник, и «Реквием» станет основанием обвинения: распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Но в первой половине 60-х годов заниматься самиздатом, особенно поэтическим, было почти не опасно. Если это не был какой-то чисто политический, скажем национальный самиздат в республиках или религиозный самиздат, то даже если его забирали на обысках, сажали редко. Буковского, правда, посадили за фотокопию книги Джиласа «Новый класс», но это была матерая антисоветчина. В 1965 году прошли аресты и процесс в Ленинграде по делу «Колокола», посадили девять человек, но, опять же, это был чисто политический журнал, левый, полумарксистский, выражавший сомнения в том, что в Советском Союзе все правильно.
Кстати, уже после нашей демонстрации на Красной площади, в 1969-м, я ездила в Тарту забирать сына Ясика, которого на лето приютило семейство великого литературоведа Юрия Лотмана. И привезла им гору самиздата, ну просто гору. Что-то раздала, массу перепечаток оставила у Лотмана. Лотман в своих мемуарах пишет: «Наташа подумала, что у нас хорошее место, чтобы спрятать самиздат». А я ничего такого не думала. Я думала, что это хорошее место, чтобы все могли получить доступ к поэзии. Когда меня вскорости арестовали, у Лотманов прошел обыск, а в «Бутырке» мне следователи задали вопрос: «А знаете ли вы Лотман и Венцлова». Именно так – Лотман и Венцлова; они эти фамилии никак склонять не хотели. На что я сказала: «Как я написала в предварительном заявлении, я готова давать показания о себе и не собираюсь давать показания ни о своих друзьях, ни о знакомых, ни о незнакомых людях». У Лотмана, конечно, были потом неприятности, но это не только со мной связано и не только с самиздатом. Скорее с его основным делом – летними школами московско-тартуской семиотической школы, с научными изданиями. Его хотели хоть как-то прижать.
В общем, я стала активной участницей самиздата. Но все это тогда не вело еще к активному участию в протесте, не подталкивало к выходу из тени. Ни меня, ни других. И лишь после ареста, а потом и процесса против Синявского и Даниэля началось движение к демонстрации 5 декабря 1965 года (сама я в ней не участвовала), на которой требовали, во-первых: «Соблюдайте вашу Конституцию!», а во-вторых, открытого суда над Синявским и Даниэлем. Автор этих лозунгов и вообще отец правозащитного движения – Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, сын Есенина. Вот с этого момента можно отсчитывать начало довольно аморфного, расплывчатого гражданского движения. А следующий шаг был сделан после процесса Гинзбурга и Галанскова, когда началась кампания открытых писем; со мной как с редактором согласовывали протестные тексты. Лариса Богораз и Павел Литвинов показывали мне свое знаменитое обращение к мировой общественности, прежде чем его пускать в оборот. Я была редактором в самиздате, и от этого уже случился нормальный переход к изданию «Хроники текущих событий».
И когда пришла пора выйти на Красную площадь, я была уже внутренне готова. Мы, участники демонстрации, себя считали гражданами Советского Союза, страны, которая, может быть, нам не нравится, но мы не нарушаем ее законов. Групповое нарушение общественного порядка на Красной площади в августе 1968-го совершили не мы, а те, кто бил демонстрантов. (Я не говорю «бил нас», потому что мне лично не досталось, я сидела за коляской.) Нарушали те, кто рвал плакаты, кто нас захватывал и кто потом не остался в отделении милиции, чтобы быть свидетелями. Зато они появились как лжесвидетели на суде. Вот они и были действительно уголовными преступниками согласно 193-й статье. А мы были гражданами, которые не нарушали закона.
Всех замели, я осталась на площади одна, сидела с обломком древка и твердила: «Здесь была демонстрация против вторжения в Чехословакию. У нас порвали плакаты, у меня сломали чехословацкий флажок, моих товарищей увезли. По статье 125-й Конституции СССР существует свобода митингов, собраний, демонстраций». И тут сверху от меня, с Лобного места, раздается голос: «А что, это она правильно говорит. Че тут было, я не знаю, но это она права, про статью-то». Так что мы были просто законопослушными гражданами. Но еще послушнее, чем закону и тем более их толкованию законов, мы были послушны собственной совести.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: