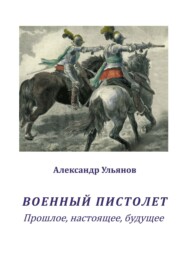По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отражение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через четверть часа, переодевшись в сухое и приведя себя в порядок, мы сидели за столом. Трапеза была незатейливой, но как нельзя лучше подходящей ко времени и месту. На столе появился чугунок, в котором оказалась ароматно пахнувшая тушеная картошка с мясом, рядом стояла небольшая деревянная плошка с квашеной капустой, тут же соленые грибочки. Венец стола Прохор прятал, с хитрым взглядом, за спиной.
– Алле-оп! – воскликнул он и водрузил на стол литровую бутыль, запечатанную воском. – Это для нас, Семен, как обещал, такого ты больше нигде не попробуешь.
Самогон, и правда, выглядел необычно. Насколько я помню, он должен быть мутный, именуемый, вроде, первачом, или уже прозрачный, второго или третьего перегона. Здесь же я наблюдал прозрачную жидкость без примесей, но янтарного цвета, с легким зеленоватым отливом.
– А для Катюши у меня тоже кое-что припасено, – он подмигнул девочке и, с видом заговорщика, достал из буфета графин, – земляничное вино, тоже собственного производства.
– Ей еще только четырнадцать, – напомнил я.
– Па-апа, – обиженно протянула дочка, – ну попробовать-то можно?
– Вот правильно говоришь, внучка. Семен, поверь старому человеку, пара бокалов хорошего домашнего вина, сделанного с любовью, еще никому не повредила. Так что я на правах старшего и хозяина дома разрешаю! – Прохор распушил бороду и сделал страшное лицо. Ринка прыснула со смеху, и я махнул рукой.
Напиток, в самом деле, был хорош. Язык не поворачивался назвать его вульгарным словом «самогон». Чувствовались травы, мед, и что-то еще, очень знакомое, но неуловимое, никак не удавалось сосредоточиться на отдельном фрагменте, букет постоянно менялся. Ринка, осторожно попробовав из своего бокала и заметив мой взгляд, довольно закатила глаза, давая понять, что вино такого же превосходного качества. Не удержавшись, позже я попробовал из её бокала: вино оказалось очень легким, не крепче пива, вкус был удивительно богатым и насыщенным, а послевкусие держалось очень долго, не торопя себя обновлять. Прохор был очень доволен произведенным эффектом, он действительно оказался мастером в этом деле. Бывал я в дорогих ресторанах, пробовал я элитные напитки, в том числе и бешеных лет выдержки, но они все меркли по сравнению с тем, что делал этот старик в богом забытой деревне.
Беседа текла легко и непринужденно. Прохор назвал своё отчество – Никитич; всё-таки, он не был тем стариком, к которому относишься с легкой иронией: мол, что с него взять – возраст. Я воспринимал его мужчиной намного старше и опытнее себя и испытывал значительную долю уважения. Он рассказал, что на фронт попал с первых дней войны, служил в разведке, был награжден многими медалями, а когда из-за чьей-то ошибки его взвод наткнулся на засаду, он единственный остался в живых, но был раненым схвачен. Из плена удалось сбежать; тяжело раненный он смог мало того, что вернуться в часть, а еще и захватить языка. Если бы не этот язык, говорил он, упекли бы его в штрафбат, как пить дать, но всё обошлось. После войны перебрался с семьей в город, работал на заводе.
Однажды они, с супругой и детьми, поехали в цирк, автобус попал в аварию; из сорока пассажиров выжил опять только он. Сыновья погибли у него на руках, над женой несколько дней трудились врачи, но и ее спасти не удалось.
Слушая рассказ о нелегкой судьбе, я и не заметил, как мы ополовинили бутылку. Потом Прохор Никитич переключился на нас, был удивлен, что я работаю обычным дальнобойщиком, признался, что сначала относился ко мне с опаской. Мы с Ринкой от души посмеялись над моей бандитской внешностью. Посочувствовал, что мне тоже довелось побывать в горячих точках. Мне не понятно, говорил он, мы сражались за свой дом, мы знали, на что идем и что защищаем, а ради чего эти войны? Он сокрушенно качал головой и чмокал губами.
Заметив, что Катеринка начала скучать, он перевел разговор на нее, интересовался нынешней молодежью, вспоминал свою юность, но без той нравоучительной нотки, мол, вот в наше время такого не было, а искренне сравнивал, о чем-то жалел, что-то ему не нравилось. Ринка звонко смеялась над шутками. Щеки ее порозовели, второй бокал стоял недопитый и был отодвинут, давая понять, что она прекрасно себя контролирует. Этого нельзя было сказать обо мне. Дедовский напиток имел еще одно свойство, он удивительным образом скрывал свой градус: я был полностью уверен, что употребляю нечто не крепче наливки, а оказалось, как признался сам Прохор Никитич, что в этой огненной воде почти шестьдесят градусов.
– Пап, ты что-то носом клюешь, – потрясла меня через стол Ринка. – Па-ап! – пришлось ей повысить голос, и я вздрогнул.
– Какой коварный напиток у вас, Прохор Никитич! – постарался улыбнуться я, глядя на Прохора. – Пойду курну на крылечке. – Я, пошатнувшись, вышел из-за стола.
Стихия бушевала пуще прежнего: к ливню добавилась гроза, раскаты которой приближались. Я, как в детстве, начал считать секунды – от молнии до раската, – получалось, что эпицентр в каких-то четырех километрах.
Крыльцо было открытое, но достаточно просторное и с пологой крышей, прямые струи не залетали, но водяная пыль все равно доставала. Я присел на относительно сухую лавку и закурил. Хмель постепенно отступал. Удивительный напиток, надо будет попросить продать пару литров, ребят угостить. Дверь открылась и на крыльцо вышла Рина. Присев рядом, она поёжилась и положила мою руку к себе на плечи, я прижал дочку.
– Пап, ты чего так, э-э, устал? – не сразу подобрала она нужное слово.
– Да нормально, напиток непривычный оказался, не почувствовал крепости, и вот результат. Ик! – неожиданно икнул я. Вот же напасть, этого ещё не хватало!
– О-о-о, – голосом матери протянула Ринка. – Как ты за руль-то завтра?
– Ты же хотела, ик, остаться, – не понял я, – или уже, это, передумала? – Язык отказывался слушаться, при этом сознание оставалось вполне ясным. Я украдкой закрыл глаза и ткнул себя пальцем в нос.
– М-м. Попал, – понимающе усмехнулась дочка. – А насчет остаться, не то, чтобы передумала, просто погода смотри какая, дедушка, конечно, клёвый, но не сидеть же целый день в доме, – скучно.
– Это не погода, это ливень, он как, ик, – да ёлки! – пришел, так и уйдет. Да, и кстати, – только сейчас осенило меня, – я не уверен, что мы отсюда сможем, ик, – блин, да что ж такое! – уехать.
– Это как так? – чуть отстранившись, Ринка заглянула мне в глаза.
– А ты обратила внимание на эту, как её, дорогу: мало того, что, ик, колея в полметра, так еще и глина сплошная. Эта поливка её сейчас в такую кашу превратит, что и танк увязнет!
– Но ты же говорил, что Навара классный говномес! – ввернула она понравившееся слово.
– Во-первых, не все слова, ик, – ё маё! – которые произношу я, стоит повторять, а во-вторых, я и сейчас это говорю, вот только колеса у нас не для замесов.
– Ну и не только для шоссе, как ты их называл э-э… – она на секунду задумалась вспоминая, – вседорожные, – во, вспомнила! – да и ты не чайник.
– Ну, попробовать-то всегда можно, но за трактором бежать тебе, имей в виду. – Я выбросил окурок в предусмотрительно оставленную банку. – Пойдем, твой «клёвый дедушка», наверно, уже постели, ик, приготовил, а завтра утром разберемся, точнее, уже сегодня.
Я, икнув, поцеловал дочку в макушку и поднялся. На столе уже был полный порядок, за исключением двух полных рюмок и тарелки с солеными грибами. Прохор Никитич поднялся при нашем появлении.
– Ну, по последней, на сон грядущий, – поднял он рюмку, – я вам уже постелил, Семен, ты ляжешь тут, – он указал на разобранную кровать, – а Катюшке я в той комнате постелил.
– А сами Вы где будете? – я чокнулся рюмкой и опрокинул содержимое в рот.
– Так я же вам не весь дом показал, – хлопнув себя по лбу, воскликнул Прохор, – Антонина же пришла и всё сбила, у меня еще две комнаты, хотя одна не совсем комната, скорее кухня, а еще одна – наверху, вот в ней я и обитаю, мне там удобнее.
Старик выпил свою порцию, закусил грибочком, собрал посуду и на удивление твердым шагом направился к выходу.
– Да, ребятки, у нас в деревне по-простому всё, чтобы, если что, на улицу не бегать по ночам, под кроватями горшки стоят. Не волнуйтесь, – всё чистое, – Дед подмигнул с лукавой улыбкой.– Ну, вроде, всё, спокойной ночи!
Он вышел. Мы смущенно переглянулись, и я заглянул под кровать: горшок был, большой металлический, с крышкой.
– Эвон оно как, – усмехнулся я и заметил, что икота отпустила.
На новом месте всегда плохо спится, особенно если за стеной грохочет стихия. Гроза была уже где-то над нами. Сверкало, громыхало не переставая. Я сел на кровати и, отодвинув занавеску, выглянул в окно. Интересного мало: кромешная тьма, разрезаемая молниями, ветер гудел и гнул лес, ливень хлестал без устали, впечатление было такое, что это навсегда. Снова забравшись под одеяло, я представил сиротливо стоявшую, под дождем, машину; почему-то вспомнился образ промокшего брошенного пса, свернувшегося калачиком, в попытках сохранить последнюю частицу тепла. Мы тогда с женой подобрали пса, долго он к нам привыкал, не рычал, видимо из благодарности, но и не признавал. Только через полгода, он проявил первую эмоцию, видимо, довелось ему натерпеться от людей. Сейчас он уже старенький; если верить ветеринару, то тогда ему было 3 года, сейчас, стало быть, двенадцать. Хорошо ему с Ленкой у тещи, – при всем прочем, надо отдать должное, животных тёща любит. Да и Ленка ездит с удовольствием; во-первых, мать видит редко, а во-вторых, она там выросла, как в той песне, все оно моё родное, в поле каждый колосок… как там дальше, – не помню… Мысли путались, звуки канонады перестали доноситься. Я спал…
Глава 4
Наглый солнечный луч, найдя лазейку между занавесками, запрыгнул мне на лицо. Почему-то солнечным лучам не дают покоя спящие люди. Как найдет лучик спящего человека, так давай сразу будить. Вот и этот, поблуждав по лицу, нашел все-таки веко и прочно обосновался на нем.
Я открыл глаза и, потянувшись, прислушался к ощущениям. Ни малейших намеков на похмелье, память ясная, голова свежая, выспавшаяся, даже сухости во рту нет. Потрясающий напиток! Подняв руку, я взглянул на часы: ого, четверть одиннадцатого! ну я и спать…
Вскочив с постели, я наскоро размялся и натянул шорты с футболкой, ноги нащупали и обули шлёпанцы. Оправив кровать, я достал сигареты и вышел на крыльцо. Щелкнув зажигалкой, я глубоко затянулся, и выпустил струйку дыма в небо. Небо было чистым, от минувшей бури остались только воспоминания. Я опустил глаза и по позвоночнику пробежал холодок. Дома напротив не было…
«Не понял!» – подумал я, замирая. Осторожно спустившись с крыльца, я осмотрелся. Деревня изменилась, точнее – вообще исчезла. Вон два куста сирени, между ними была калитка к дому Игоря, но теперь остались только кусты, да и те были какие-то пожухлые, заброшенные. Справа, поодаль, росла сосна; я еще вчера обратил внимание, как кто-то заботливо обрезал ветки, давая путь проводам. От сосны должен был отходить штакетник, – хозяева не хотели губить дерево и, как могли, вписывали его в свой участок, используя ствол вместо углового заборного столбика. Теперь же – сосна была, а все остальное пропало, даже краска, нанесенная на срезы сучьев, исчезла без следа, да и сучья выглядели скорее обломанными, а не отпиленными.
Да что за чертовщина.
Я вновь прислушался к своему организму: может, я еще сплю, пытаясь укрыться от назойливого солнечного лучика? В книгах в таких случаях герой себя обычно должен ущипнуть или уколоть каким-нибудь подручным предметом. Я последовал примеру книжных героев, – больно; а если бы я спал, то было бы не больно? Не знаю, не помню снов, в которых я бы себя щипал.
Я обошел вокруг дома, тщательно борясь с наступающей паникой и пытаясь найти объяснение происходящему. Вокруг дома наблюдался круг, насколько я мог судить, довольно правильной формы, центр круга был в районе крыльца, все, что попало в круг оставалось прежним, а вот вне круга всё изменилось. Круг не смог вместить в себя весь участок, забор по обеим сторонам калитки не уместился и исчез. По счастливой случайности машина попала в круг полностью и не пострадала, – хоть что-то радовало. Я поднял с земли камушек и бросил за круг: он послушно упал и, подпрыгнув пару раз, затих, впрочем, а что я ожидал: что он скажет «пфух» и исчезнет?
– Пап, доброе утро! – весело прозвучало сзади и тут же испуганно, – упс, что это?
– Да уж, воистину, утро добрым не бывает, – пробормотал я. – Не знаю, пока не знаю, Кать.
Я постарался улыбнуться самой ободряющей улыбкой. Ринка, опасливо озираясь, подошла ко мне и взяла за руку. В чем-то я ей сейчас завидовал: у нее есть отец, который все решит и во всем разберется.
– А дедушка Прохор где? – спросила Ринка, оглядываясь по сторонам.
Мы торопливо вернулись в дом, как можно было забыть про старика? кому как не ему знать, что тут происходит? Я поймал себя на мысли, что с удовольствием взвалил бы на чьи-нибудь другие плечи все эти вопросы.