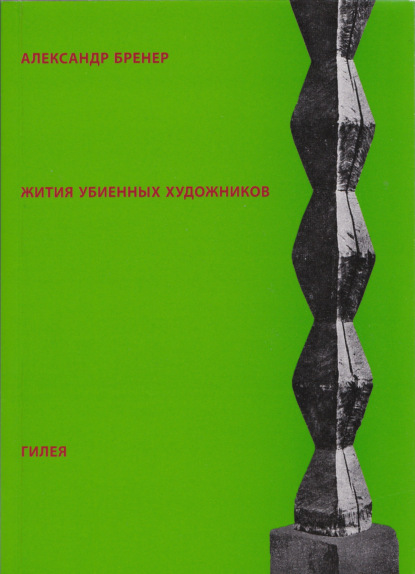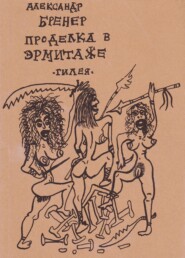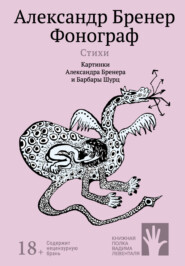По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жития убиенных художников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он подарил нам, деткам, узор бухарского уленшпигеля и памфалона.
Он оставил нам свою безвременную ошибку.
2.
А вот второе моё воспоминание о любимом художнике.
В Алма-Ате на широкой асфальтовой площади стоял могущественный и подлый Дом правительства. Он был с византийскими колоннами.
А по бокам его били струями в небо четыре гранитно-бронзовых фонтана. Окружены они были кустами благоухающей сирени.
И всё это – под васильковым небом, в солнечной тёплой атмосфере, в незапамятные Средние века в Средней Азии.
В один из этих фонтанов граждане пристрастились бросать мелкие монеты – на счастье.
А мальчишки эти монеты из фонтана вылавливали и прикарманивали. Это составляло ихнее счастье, тоже ненадёжное.
Как-то в жаркий полдень я в полном одиночестве залез в тот счастливый фонтан и увидел в нём медные копейки – на крем-брюле.
Но тут я поднял голову, и вот: Калмыков в тяжёлом промасленном плаще и засученных штанах стоит предо мной в воде и тоже ищет.
Древние бархаты его поникли, набухли, а лицо было тёмное, исхудалое.
Показался он мне в первый момент страшен, как прокажённый.
Однако заметив моё чрезвычайное волнение, он приосанился и скинул с плеч свою хламиду, бросил её на край фонтана.
Теперь он стоял передо мной голый по пояс, нисколько не смущаясь своего тощего бледного тела. А я в те времена страшно стеснялся своего, да и сейчас стесняюсь.
В следующую минуту гений искусства уже лез на каменное возвышенье фонтана – прямо туда, откуда взвивались в синеву роскошные струи.
Он был ловок и проворен – я и сейчас вижу его рёбра, хребет.
Вскоре старик стоял наверху в патрицианской позе, с чеканно поднятым к солнцу профилем Вельзевула.
Мощная струя, извиваясь, почти сбивала его с ног, но он держался.
Это было великолепное, архаическое видение – водяной Лаокоон!
И всё только для меня!
Таким и должно быть истинное Событие.
3.
А теперь третье и финальное воспоминание.
Я забрёл в сосновый парк и сел на скамейку.
Калмыков умер в 1967-м году, значит, мне никак не больше десяти.
И я сижу, погружённый в незрелую грёзу.
И тут опять вдруг вижу его, художника моего новобрачного, на соседней скамейке.
Он рисует что-то на бумаге графитным карандашом.
А рядом с ним лежит странная круговидная лоскутная сума, которую он носил на перевязи через плечо, совсем как странник из книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа».
И тут вдруг, как в сахарнопудренной сказке, идут мимо две чернобровые цыганки – большая в шали и крошечная цветастая девочка.
У большой тоже есть сума на боку, а в руке – бутыль.
Молочная то была бутылка – стеклянная, литровая.
И обе цыганки пьют на ходу молоко из горлышка.
И солнце светит.
И приближаются эти цыганки к скамейке оборванца-гения, которого ни НКВД не прикончило, ни Союз художников не изнасиловал, ни слава пошлая не сгубила.
И тут Калмыков тоже увидел эту бутыль. И вот бросил он рисовать, залез рукой в свою холщовую сумку и достал из неё не что иное, как резиновую длинную соску – были такие когда-то: жёлтые, вроде презерватива.
И он протянул эту соску большой цыганке: мол, надень на бутыль – будет удобнее пить.
А она взяла её и бросила в траву.
И вместо девочки эту соску стали сосать муравьи.
Так они друг друга признали – калмык и цыганки.
Тут сладкой сказочке и конец.
А сейчас я вот что подумал: какой же он был несчастный, этот гений!
Куда же завёл его этот Образ длинноногой мухи-блядушки, стрекозы-девчушки, мучивший его с младых ногтей?
Как беспросветны его картины!
Как беспощадна и злорадна судьба!
Голова его превратилась в нечто вроде стеклянной затуманенной тары, где образы и символы мировой культуры замариновались, скукожились, иссохли, превратились в коричневые крендельки и пропитанные хлороформом отходы!
И эти-то образы кромешные он таскал в себе, вынашивал и выхаживал, а потом страстно и уныло переносил на холсты, силясь вдохнуть в них жизнь цветуще-поникшего сада, тенистого парка-склепа, чудесного закоулка-погоста, катакомбы-бомбоубежища, захоронения тайного и постыдного!
А лучше бы он не силился, не бесновался, а спрятался, мальчишка, в жасминовых кустах да глядел на муравьёв и на пятнистых волосатых гусениц, и сосал мёд из цветочков махровых, и кушал пушистые незрелые персики, сорванные воровской рукой.
И пусть бы опасные образы остались на внутренней стороне его морщинистых век, а глаза бы всё смотрели на снежные хрящеватые горы, на верхушки пирамидальных тополей, на цветущие яблони да в журчащие арыки!