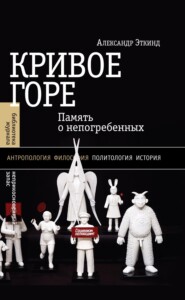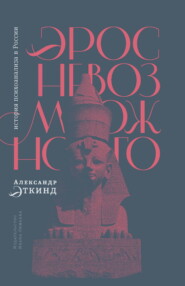По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хлыст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семиотическое
Догматическим содержанием хлыстовской веры была идея множественного воплощения Христа и представление о доступности личного отождествления с Богом – человекобожие, как стали формулировать в конце 19 века. Хлысты не различали между Богом-отцом, Богом-сыном и Святым Духом, соединяя три ипостаси в одну и, далее, сливая их с собственными лидерами[156 - Сведения о секте так называющихся в русском расколе Людей Божиих – Православный собеседник, 1858, март, 336; Бондарь, Секты хлыстов…, 8; о христологическом тропе в «личностном сознании» см.: М. Б. Плюханова. О некоторых чертах личностного сознания в России 17-го в. – Язык средневековой культуры. Москва: Наука, 1982, 184–200.]. В 1838 Синод писал о хлыстах, что «у них вкоренилась мысль, что посредством пророков, ими избранных, человек может сообщаться с небом и видеть божество в человечестве»[157 - Айвазов. Христовщина, 1, 49.]. Как пели сами хлысты:
Послушайте, верные мои! – был голос из-за облака,
Сойду я к вам бог с неба на землю;
Изберу я плоть пречистую и облекусь в нее;
Буду я по плоти человек, а по духу бог[158 - Е. И. Буткевич. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910, 19.].
Скопец и камергер Алексей Еленский писал в 1804 году: «следует каждому не довольно верою, но и житием, вообразить в себе Христа и в христа вообразиться»[159 - И. Липранди. Дело о скопце камергере Еленском – Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских, 1867, 4, отд. 5, 80.]. В этой характерной словесной игре тонко выражена как ключевая оппозиция, так и ее конъюнктивное решение: «вообразить в себе Христа» есть христианский идеал, «в христа вообразиться» – ересь. В оригинале имя Бога, вероятно, оба раза было написано одинаково; капитализация в одном из случаев скорее всего привнесена публикатором, который таким способом выражал свое понимание предмета. Православное и другие христианские учения, веря в единственность личности Христа, призывают каждого верующего к следованию за ним, «подражанию Христу», как называл долг христианина св. Фома Кемпийский. «Наши Божьи люди не старались, согласно с учением Христовым, вообразить в себе дух Христов, но отелесить в себе только личность Христа», – выразительно писало в 1862 году Православное обозрение[160 - И. Снегирев. Основатели секты «людей божиих» лжехристы Иван Суслов и Прокопий Лупкин. – Православное обозрение, 1862, 8, 325.]. Его автор противопоставлял «чувственное усилие воплотить в себе Христа», характерное для хлыстов, и способность «вообразить в себе дух Христов», к которой стремится православие. Это критически важная граница между подражанием Христу и отождествлением с ним, между репрезентацией и реинкарнацией. Теологическая проблематика тут формулируется на языке семиотики. Известный нам священник Сергеев рассказывал:
веруя в переселение душ, они так тесно сближают небо с землею и смешивают небесную иерархию с земною, что земля, по их понятию, ничем не отличается от неба; сам Бог будто бы, сходя к ним с небес со всеми святыми ангелами […] пребывает с ними во плоти, видимо, утешает и ублажает, и они пред ним ликуют и кружатся здесь на земле, думая, что также будут по смерти кружиться на небе […] Духовное (они) прелагают на чувственное, и чувственное на духовное; представляют невидимое – видимым, неосязаемое – осязаемым, а видимое и осязаемое – невидимым и неосязаемым[161 - Н. И. Барсов. Русский простонародный мистицизм. – Христианское чтение, 1869, 9, 442.].
Согласно этим поэтическим словам, записанным в 1809, а опубликованным в 1869, хлысты кажутся подлинными художниками, причем самого романтического направления, почти что символистами. Все же теология хлыстов была примитивной, хотя даже миссионерское ее изложение несет отпечаток модернистских веяний:
Вне человека, вне его интересов, Божество для хлыстов не существует […] Упростивши таким образом свой взгляд на Божество, хлысты свели Бога с неба на землю […] Он мыслим лишь в своем проявлении в каждом отдельном человеке, вне этого проявления Бог – что-то беспредметное […] В этом смысле Бог находится в полном распоряжении […] хлыстов. По их желанию, Бог может быть […] призван к активному бытию […] Такое «сманивание» Божества на людей и есть цель хлыстовской нравственности и хлыстовского богослужения[162 - П. Добромыслов. Несколько слов о современной хлыстовщине (по поводу тарусского дела о хлыстах) – Миссионерский сборник. Москва, 1895, 226.].
Накатывание духа бывает временным – на радениях, и постоянным; на хлыстовских христов и богородиц дух «накатывает» пожизненно. Веру сектантов в таких лидеров эксперт называл «изумительной»: «на него молятся, как на Бога, к нему обращаются со всеми нуждами, он может располагать не только имуществом и честью, но и жизнью и смертью каждого члена общины»[163 - Там же, 293, 312.]. Хорошо знавший хлыстов в 1900-х годах народник Виктор Данилов видел эту ситуацию изнутри:
Мы боги, говорят они, исходя из слов писания: будьте как боги. […] Девиз хлыста пустыня, которую нужно пройти; а конечная цель это Христос-утешитель. Не отвлеченный Христос; а реальный в плоти и крови. Хлыст только тогда достигает, когда делается как Он. […] И хлыст идет не к тому, чтобы молиться Ему, а к тому, чтобы сделаться подобным Ему. Это правда смешно для интеллигента, но если понять психику народа и его историю, полную угнетения и рабства; все отнято у народа […] одно место и остается незанятым – это место Христа и Бога, и хлыст берет то, что не занято. […] Радость Его в экстазе и хождении в духе доказывает, что он на пиру у Христа-утешителя – Бога светлого[164 - РНБ, ф. 238, ед. хр.55.].
Когда сакральным Именем называли то одного, то другого конкретного человека, это не казалось кощунством (как кажется современному человеку, верящему в богочеловеческую сущность Христа) или искажением истории (как кажется современному человеку, считающему Христа исторической личностью). Это было обозначением особой социальной роли, высшего и уникального титула, сходного по своей природе с царским. Миф называет разные явления одним и тем же именем и сакрализует само имя[165 - Ю. Лотман, Б. Успенский. Миф – имя – культура – в кн.: Ю. Лотман. Избранные статьи в 3 томах. Таллинн: Александра, 1992, 1, 73.]. В мистическом смысле, в который кто-то верил, а кто-то нет, евангельский Иисус, Данила Филиппович и его многочисленные преемники были одним и тем же Христом. В отличие от индуктивно-дедуктивной рациональности, не терпящей логического круга, мифо-логика вся построена на таком круге или, может быть, кружении. Имя определяет того, кто и до Имени достоин этого Имени; с другой стороны, его особые достоинства подтверждают сакральность Имени. Мифология омонимична. У Имени нет синонимов; но у него могут быть разные носители, особенно в разное время. «Разрушение мифологического сознания сопровождается бурно протекающими процессами: переосмыслением мифологических текстов как метафорических и развитием синонимии»[166 - Там же.]; в этом процессе и развивается свободная от вещей игра с их синонимическими именами – поэзия.
Для общины не важно, как описывает идентичность, связанную с Именем, культура и ее книги; важно то, подходит ли нынешний носитель имени самому Имени. В отличие от книжных споров вокруг раскола, вопрос о качестве хлыстовского Откровения был открыт для суждения каждого члена общины: оно было воплощено в живом и доступном для общения человеке. Получалось, что ключевой вопрос веры носил до некоторой степени эмпирический и, поскольку речь шла о человеке (хотя и особом человеке), психологический характер. Власть в общине – мистическая, ритуальная, сексуальная, экономическая – принадлежала тому, кто сумел самым эффективным способом поставить в зависимость от себя состояние душ и тел своих единоверцев. Конкуренция шла на радениях и вне их. Успешные исцеления, сбывающиеся пророчества, убедительные интерпретации, эффективные обращения новых членов и удержания старых были доказательствами бытия Божия, божественной сущности лидера.
Христами и богородицами становились по общему признанию и, вероятно, в ходе конкурентной борьбы. Основой этому были ничем не регламентированные, но признанные общиной процедуры мистической демократии. Власть, не подкрепленная ни силой, ни законом, всецело зависела от психологического влияния на общину; а это влияние обеспечивалось лишь личностными качествами, талантами и умениями лидера. Понятно, что лидеры отбирались в соответствии именно с этими психологическими качествами и в свою очередь делали все для сакрализации тех качеств, с которыми связывали свой успех. Риторика нового Адама, преображенного человека или, как часто говорили хлысты вместе с масонами, «перерождения человека» постепенно занимала центральную позицию в усложнявшемся дискурсе хлыстовских христов. Миф перерастал (или вырождался) в идеологию, а среди многих составляющих последней – более всего в психологию. «Есть две психологии», – рассуждал в 1906 году хлыстовский пророк, друживший с петербургскими писателями: «одна психология крови […], а другая психология – просто чистый янтарь, постав Божий»[167 - М. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Москва: Художественная литература, 1982, 1, 750.]. Психологическая заостренность русского сектантства воспринималась сочувствующими наблюдателями, пытавшимися осмыслить народный культ в терминах высокой культуры. Темпераментный Афанасий Щапов видел в хлыстовстве «болезненное выражение угнетенного, наболевшего сердца, духа народного […]; экзальтация больных сердец, мечтания и грезы больных, разгоряченных, экзальтированных фантазий»[168 - А. Щапов. Земство и раскол. II. Бегуны. – Сочинения, 1, 544.]. Для Василия Розанова русское сектантство было «явлением более психическим, нежели только церковным»[169 - В. Розанов. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). Петербург, 1914, 33.].
Оттачиваясь народным опытом так же, как совершенствовались в поколениях другие народные искусства, искусство психологического влияния соединяло техники, воспринятые из исторической традиции и заимствованные из высокой культуры: пророчества, имеющие корни в шаманизме; народные заговоры и другие языческие манипуляции нечистой силой; чудесные исцеления наподобие тех, которые практиковали православные и католические святые; христианскую исповедь с ее мистической тайной и отпущением грехов; интуицию православных старцев, которая согласно канону давалась не «знанием», а «благодатью»; магнетизм и гипноз, импортировавшиеся из Европы, в частности, через масонские круги и плавно налагавшиеся на народные умения; и, наконец, оригинальные методы группового экстаза, самостоятельно разрабатываемые поколениями людей Божьих. Микротехники власти оказывались профессиональным искусством хлыстовских лидеров, своего рода народным ремеслом, которое передавалось личным примером и оттачивалось столетиями. Всякое искусство имеет своих гениев, и имеет козлов отпущения; мы познакомимся с теми и другими.
Социологическое
Итак, хлысты и другие мистические сектанты обожествляли лидеров своих общин, считая мужчин христами, женщин богородицами. В момент распада общин за этим верованием уже могла не стоять развернутая религия реинкарнации. Имя Бога использовалось лишь как знак социального статуса, условное обозначение переходящего лидерства внутри общины. Описаны и любопытные варианты этой веры. Самарские хлысты-белоризцы, которые считались одной из самых старых общин, не признавали индивидуального воплощения Христа. «Христос во всех нас, а не в одном человеке», – говорили эти хлысты. Этнограф видел здесь «демократическое понимание идеи перевоплощения Христа»[170 - Бондарь. Секты хлыстов…, 84.], но всякому любителю русской литературы эти слова напомнят речи Шатова из Бесов. Между двумя этими пониманиями хлыстовского человекобожия – «Христос в нас» или «Христос в нашем лидере» – вряд ли было существенное различие. Община совмещала веру в свою божественность, воплощавшуюся во время радений в ее коллективном теле, с верой в божественность ее лидера, который организовывал радения и символизировал общину в перерыве между ними.
В радении хлысты достигали состояния, в котором переставали контролировать свои слова и действия так, как это было им свойственно в повседневной жизни. Ими владела высшая сила, которая творит свою волю через их послушные тела и души. В ритуале воплощаются нормы, которые действуют вне его, в бытовом поведении; ритуал воспитывает поведение, отвечающее этим нормам; и ритуал является риторическим тропом, метафорой или гиперболой в отношении повседневного поведения. Самоотдача божеству-общине-лидеру была безусловной. Повседневные отношения в общине так же основывались на передаче воли, инициативы, сознательного контроля в распоряжение лидера-общины-божества, как и сам экстатический обряд.
Функция подобных ритуалов есть собственный предмет социологии религии Эмиля Дюркгейма[171 - Emile Durkheim. The Elementary Forms of Religious Life. New York: Macmillan, 1915; Steven Lukes. Emile Durkheim: His Life and Work. New York: Harper, 1982, 482ff; о революционных ритуалах в этом ключе см.: Lynn Hunt. The Sacred and the French Revolution – in: Durkheimian Sociology: Cultural Studies. Ed. by Jeffrey C. Alexander. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 25–43.]. В ритуале общество/община воплощает главные свои ценности и, через его эмоционально напряженное действие, входит внутрь сознания и бессознательного своих членов. Ритуал – это спектакль, в котором люди разыгрывают миф; в этот миф они верят потому, что он вновь и вновь осуществляется в ритуале. Ритуал есть способ индоктринации, самый эффективный из многих ее способов. Ритуальное действие эффективнее, чем используемые в нем символы; значение последних далеко не всегда известно участникам, но смысл ритуала для них ясен и важен. В ритуале воображаемый и реальный миры сливаются воедино, смешиваясь в едином наборе символических форм[172 - Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973, 112.].
Несмотря на утопические и даже анархические ассоциации, которые вызывала идея общины, центральными в сектантском культе оставались идиомы ‘владения’, передачи индивидуальной воли вовне, восторженно принимаемой зависимости. «Мило-дорого глядеть, Как Господь стал нами владеть», – пели хлысты[173 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 91.]. Поразительно, как сходно, всегда в пассивном залоге, выражали свои ощущения хлысты из разных мест и даже из разных веков. В начале 18 века москвичка Фекла во время радения на Воробьевых горах «сидя на лавке трепеталась, и с той лавки бросало ее якобы ветром»[174 - И. А. Чистович. Дело о богопротивных сборищах и действиях. Москва: университетская типография М. Каткова, 1887, 4.]. Другой московский хлыст того же времени «вскочил с лавки высоко, якобы кем-то с той лавки оторван, и стал вертеться […] и говорил: братцы и сестрицы! не моя теперь воля, но Божия». Сибирская хлыстовка рассказывала так: «с лавок на пол – неведомо каким случаем и кем невидимо – сдергивало и вокруг по солнцу […] вертело […] хотя она, сидя на месте, и крепится, но неведомо кем сдернет и вертит»[175 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 86.]. Так же понимали происходившее с ними и высокопоставленные члены секты Татариновой, только они реагировали менее непосредственно, с опаской: «тайный советник В. М. Попов, слушая пророческое слово Татариновой, начал кружиться невольным образом, сам испугавшись столь сильного над собою духовного явления»[176 - Н. Дубровин. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий – Русская старина, 1895, ноябрь, 11.]. По мнению миссионера Ремерова, сектанты различали произвольные и бессознательные действия и на радении предпочитали последние. «Хлысты ясно отличают того, кто не по ‘духу’ пошел, кто хотел бы подделаться под это их вполне непроизвольное хождение»[177 - Ремеров, священник. Вероучение и культ хлыстов центральной России – Миссионерское обозрение, 1900, 2, 75–76.].
У закавказских прыгунов два-три человека в общине прыгали на каждом собрании, на остальных же дух сходил только в торжественных случаях, причем тогда прыгали все до единого. Свидетель сравнивал происходившее в тесной избе то с возней, то с гимнастикой, то с пантомимой. Наряду с этой физической активностью, многие собравшиеся громко рыдали или стонали; в паузах хором пели стихи, по сотне раз повторяя короткие строфы (стихи были рифмованными, что отличало от распевцев хлыстов и скопцов). Так продолжалось пять часов; окна были закрыты[178 - Н. Дингельштедт. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. Санкт-Петербург: типография М. М. Стасюлевича, 1885, 8–10.]. Прыгуны верили в близкий Конец Света, который трижды предсказывался на разные годы, начиная с 1857, основателем секты Максимом Рудометкиным. В тысячелетнем царстве царем будет он сам, разделяя власть с вернувшимся Христом. Болезней и печалей там не будет. Прыгуны будут начальниками над остальными людьми, и у каждого будут по две жены. Впрочем, несколько «духовных», то есть невенчанных, жен разрешалось иметь уже и в ожидании Пришествия. В ознаменовании Конца Света Рудометкин с 12 апостолами стал строить высокий столб, увешанный флагами и надписями. Поскольку Второе пришествие откладывалось, открытие этого монумента было приурочено к проезду мимо этой деревни двух великих князей. Этого власти вынести уже не могли, и в октябре 1858 года Рудометкина отправили на Соловки[179 - Там же, 74.]. Скоро, однако, прыгунство распространилось среди пересланных на Кубань степенных меннонитов так же быстро, как незадолго до того оно объявилось среди рационалистов-молокан.
Все описанные явления не вполне уникальны. И кружения, и глоссолалия, и обожествление лидера, и послушание ему известны в практике разных ересей, христианских и мусульманских. Но разнообразие русских сект, необычный характер их ритуала, трудность их изучения, малая достоверность знаний о них должны были бы привлечь сюда солидные исследования. Однако интерес русских этнографов к народным сектам не был особенно пристальным. В 19 веке ими чаще занимались люди, испытывавшие к ним не столько научный, сколько религиозный или политический интерес – миссионеры, революционные агитаторы, писатели. Значительная часть имеющихся описаний, и наверняка самые яркие из них, принадлежат этим наблюдателям. Достоверность их свидетельств всегда подлежит сомнению. В первое десятилетие 20 века сектантские общины впервые подвергаются систематическому исследованию. К этому времени, однако, наиболее колоритные явления либо вовсе исчезли, либо оказались редуцированными. Огромное исследование дерптского профессора Карла Гросса вышло на немецком языке в двух томах общей сложностью 1700 страниц (первый, посвященный хлыстам – в 1907 году; второй о скопцах в 1914)[180 - Karl K. Gross. Die russischen Secten. Leipzig: J.C.Hinrichs Verlages, 1907, 1; 1914, 2; 2nd ed.: Leipzig: Zental-Antiquariat, 1966.]; оно, однако, целиком основано на обзоре материалов, публиковавшихся в России. В 1908 вышло исследование Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве; суммируя множество миссионерских описаний и приводя их в феноменологическую систему, автор был бессилен проверить их достоверность. Французский этнограф Ж. Б. Северак посетил дважды, в 1903 и 1906 годах, кубанскую станицу Абинскую. Он наблюдал драматический упадок численности общин Божьих людей и забывание хлыстовского культа[181 - J.-B. Severac. La secte russe des Homme-de-Dieu. These de Doctorat. Paris: Cornely, 1906, 8–11, 122. Об этом исследовании с одобрением отзывался Лев Толстой (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки – Литературное наследство, 1979, 90, кн.2, 380).]. В 1911–1912 сотрудник Министерства внутренних дел С. Д. Бондарь обследовал общины Южной России. В отношении предшественников по изучению хлыстовства его выводы были скептическими:
Секта хлыстов имеет за собой огромную специальную литературу. Несмотря на это, она недостаточно обследована […] Нередко особенности, свойственные одному виду или толку хлыстовщины, приписываются всей хлыстовщине […] Изучение хлыстовщины привело меня к убеждению, что она не представляет из себя однородного религиозного явления[182 - Бондарь. Секты хлыстов…, 5.].
Быстрое распространение рационалистических и протестантских учений в России начала века вовлекало в себя старые мистические секты, быстро их трансформируя. По таким изданиям, как Миссионерское обозрение, видно, что хлысты меньше беспокоили православных миссионеров в начале 20 века, чем в конце 19-го. Описывались, впрочем, разного рода промежуточные культы, которые миссионеры обозначали искусственными понятиями ‘новохлыстовство’ или ‘штундохлыстовство’. В 1890-х главным предметом миссионерских забот Синода становится ‘штундизм’ (от немецкого Stunde – час), быстро распространявшийся по югу России. Так в синодальных отчетах без разбору именовались все протестантские секты, членами которых были этнически русские. Этим актом классификации церковная бюрократия пыталась справиться с более чем реальной проблемой: инородцам, например немецким колонистам, она не могла запретить быть иноверцами, но пыталась воспрепятствовать конверсии русских. Церковь особенно боялась связей русских протестантов с их могущественными западными единоверцами. Называя сектантов ‘штундистами’, экзотизируя русские общины, описывая их похожими на хлыстов, церковь отрицала их родство с протестантскими сектами и пыталась нарушить их общение. На деле, в ‘штундисты’ оказывались зачислены русскоязычные евангелисты, адвентисты, а более всего баптисты.
Определенную роль в уменьшении реального влияния мистических сект сыграла эмиграция наиболее активных общин: часть меннонитов сумела уехать в 1874 в США, часть духоборов в Канаду в 1898– 1900, часть хлыстов-новоизраильтян в Уругвай в 1912. Немалую роль в трансформации сектантских общин играло развитие толстовского движения[183 - О толстовстве как социальном движении см.: Edmund Heier. Religious Schism in the Russian Aristocracy 1860 – 1900. Radstokism and Pashkovism. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970; Alexander Fodor. A Quest for a Violent Russia. The Partnership of Leo Tolstoy and Vladimir Chertkov. New York: University Press of America, 1989.]. В итоге революции 1905 года раскол добился свободы вероисповедования; но определяющую роль в этом событии играли старообрядцы, а не сектанты[184 - О реакции сектантских и старообрядческих общин в 1905 см.: С. П. Мельгунов. Церковь и государство в России (к вопросу о свободе совести). Москва, 1907.]. В событиях 1917 года и гражданской войне мистические секты заметного участия не принимали. После большевистской революции новая власть предпринимала систематические усилия по установлению союза с народными сектами[185 - Эта история рассмотрена мной в: А. Эткинд. Русские секты и советский коммунизм: проект Владимира Бонч-Бруевича – Минувшее, 1996, 19, 275–319, и ниже, часть 8.]. Они, однако, не отзывались, либо не доверяя властям и предпочитая оставаться в подполье, либо будучи уже разрушенными. Отказ сектантов служить в армии определил невозможность сотрудничества между сектами и революционным правительством.
Для сект считается характерным взаимный антагонизм, отрицание другого, борьба за души и тела верующих. В тяжелые времена, однако, идейные разногласия уступали место сотрудничеству, которому способствовал постоянный переток членов между общинами. В 1883 Глеб Успенский наблюдал на Кавказе такую семью: «муж баптист, жена молоканка, мать ее православная, а отец ‘общий’»[186 - Г. Успенский. На Кавказе – Собрание сочинений. Москва: ГИХЛ, 1957, 8, 191. ‘Общими’ называли одну из самых радикальных мистических сект; см. ниже, часть 7.]. В 1917 году в Самаре был «сектантский центр или клуб», которым управляла пожилая хлыстовка А. Т. Казокина. Она оказала помощь десяткам сектантов – субботникам, добролюбовцам, ‘свободным’, которые подвергались преследованиям за отказ от военной службы. На ее дочери, которая вперемежку посещала собрания баптистской и хлыстовской общин, женился толстовец И. Ярков[187 - И. Ярков. Моя жизнь. Воспоминания. Часть 5. Скитания, 365, 394.]. Со слов этого мемуариста известна история Александра и Арины Баденковых, самарских хлыстов-‘мормонов’, которые около 1910 года сделались добролюбовцами[188 - Там же, 179.]. Арина долго еще тяготела к «радельному колесу», но когда здоровье ее испортилось, она окончательно покинула хлыстов. Как видно, до некоторой степени сектантство было единым миром, скрепленным человеческими связями и общим отношением к окружающему.
Остатки мистических сект продолжали существовать. Последние процессы над скопцами прошли в тридцатые годы[189 - О скопческих общинах советского времени см.: Claudio Sergio Ingerflom. Communistes contre castrats (1929–1920) – Preface de: Nikolai Volkov. La secte Russe de castrats. Paris: Les belles lettres, 1995.]; хлысты же в это время известны только по этнографическим опросам в сельской глубинке. В 1960 году численность сектантов и старообрядцев в России оценивали в 2–3 миллиона[190 - Н. А. Струве. Современное состояние сектантства в Советской России – Вестник русского христианского движения, 1960, 3–4, 33. Однако уже в 1930 кинооператор, участвовавший в антирелигиозной экспедиции в Поволжье, смог заснять одних только баптистов; от хлыстов остались только живые легенды и полуразрушенные тайники – см.: Ан. Терской. У сектантов. Путевые заметки. Москва: Политиздат, 1965.]. Антирелигиозная пропаганда советского времени была более всего озабочена протестантскими сектами, в наибольшей степени баптистами.
По-видимому, народные мистические секты к началу 20 века пришли в относительный упадок и не представляли из себя заметной социальной и, тем более, политической силы. В исторической борьбе за народное сознание они проиграли сначала рационалистическим сектам, ориентированным на религиозную реформу, а потом светским энтузиастам, ориентированным на политическую революцию. Возможно, развитие мистических сект в 18–19 веках надо интерпретировать как самостоятельный ответ низших классов на те же потребности, которые в странах Центральной Европы породили протестантскую Реформацию. Одним из механизмов успеха Реформации был союз между массовым религиозным движением и интеллектуальными усилиями религиозно-культурной элиты. В послепетровской России такого единства достичь не удалось. Интеллигенция не смогла стать лидером религиозной реформы общенационального значения. Несмотря на интерес отдельных интеллектуалов, протестная активность тысяч полуграмотных мистиков оставалась изолированной в своего рода культурных гетто, где подвергалась систематическим репрессиям церкви и не отделившегося от нее государства. Упадок мистических сект к началу 20 века определялся, наряду с глобальными процессами секуляризации, их поглощением протестантскими общинами.
В этом свете то значение, которое влиятельные лидеры культурной элиты как раз в это время стали придавать мистическим сектам, является парадоксом, требующим объяснения.
Этнографическое
В России отношения интеллигенции и народа представляли собой специальный вариант колонизации и потом деколонизации. В отличие от классических империй с заморскими колониями, колонизация России имела внутренний характер. Империя осваивала собственный народ. Внутренняя колонизация совпала с эпохой Просвещения, с расцветом и упадком идеалов полицейского государства. Интеллигенция и бюрократия понимали ‘народ’ как объект культурного воздействия, радикальной ассимиляции, агрессивного преобразования по образцу доминирующей культуры. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, характерные феномены колониализма, в России имели преимущественно внутренний характер. Все это делалось не в отношении заморских дикарей, а в отношении своего народа.
Народ есть Другой. Отсутствие географических, этнических и лингвистических признаков для такой оппозиции лишь усиливало значение признаков собственно культурных (в частности, религиозных и эстетических). Народ надо учить; его надо изучать; и наконец, у него надо учиться. Во всех случаях ‘народ’ конструировался как инверсия основных значений, которые культура приписывала самой себе. В этом внутреннем варианте, русская культура испытывала на себе те влияния, которые оказывают процессы колонизации/ деколонизации на культурный и политический дискурс[191 - О теориях имперского и пост-колониального дискурсов см.: Edward W. Said. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993; The Post-Colonial Studies Reader. Ed. by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. London: Routledge, 1995.]. В ожидании деколонизации, социальной эмансипации, политической революции приходит осознание привилегий ‘народа’, его моральной и метафизической ценности, его чистоты, безгрешности и несправедливой угнетенности. Классовые оппозиции переформулируются как оппозиции культурные. На закате империи чувства элиты принимают характер поклонения культуре Другого и отрицания собственной культуры. Если в ожидании географических потерь имперская культура окрашивается ориентализмом[192 - Edward W.Said. Orientalism. London: Routledge, 1978.], то на фоне классовых конфликтов доминирующая культура окрашивается в иные, хотя часто похожие, цвета популизма. Русские революции были актами деколонизации ‘народа’: актами непоследовательными, как всякая имперская политика; противоречивыми в силу внутреннего ее характера; и закончившимися новой, беспрецедентной по масштабу попыткой имперского завоевания собственного народа.
К концу 19 века интеллигенция относилась к ‘народу’ так, как имперская элита в момент распада империи относится к бунтующей колонии: с чувством вины, с подавленным страхом и с надеждой на примирение. На ‘народ’ нельзя накладывать собственные культурные представления. ‘Народ’ живет своей особой жизнью, о которой верхи знают очень мало; более того, они не вправе давать моральные оценки тому, что знают, а обязаны принимать на веру то, во что верит ‘народ’. Особенностью этого варианта постколониального дискурса было систематическое преувеличение культурной дистанции между ‘народом’ и образованными классами. Убежденная во вторичности и неполноценности собственной культуры в сравнении с ‘народной’, интеллигенция призывала саму себя преодолеть эту дистанцию за счет собственного ‘опрощения’, культурного самоуничтожения.
Между тем записи собирателей фольклора прошлого и этого века полны ситуациями, в которых неграмотные ‘сказительницы’ пели ‘народные’ песни, на деле оказавшиеся версией известных текстов Пушкина, Некрасова или Есенина[193 - Cр. сходный процесс в викторианской Англии: Dave Harker. Fakesong: The Manufacture of British Folksong. 1700 to the Present Day. Milton Keynes: Open University Press, 1985.]. Классический пример тому – превращение пушкинского стихотворения Гусар в представление народного театра Царь Максимилиан[194 - П. Г. Богатырев, Р. Якобсон. Фольклор как особая форма творчества – в: П. Г. Богатырев. Вопросы теории народного творчества. Москва: Искусство, 1971, 167–296.]. Гимны хлыстовской общины ‘Новый Израиль’ в Южной России пелись на мотив Марсельезы, революционной песни «Вы жертвою пали», стихотворений Некрасова[195 - Бондарь. Секты хлыстов…, 70, 72.]. Рецензент Вестника Европы сообщал в 1916: «Какие-нибудь самарские хлысты целыми сотнями выписывают себе стихи Клюева»[196 - П. Н. Сакулин (Рецензия) – Вестник Европы, 1916, 5, 201. Впрочем, удивительным это кажется только в том случае, если представлять себе «каких-нибудь самарских хлыстов» неграмотными изуверами. На деле лидером их в 1910-х годах был «скромный чиновник Самарского казначейства Петр Иванович Комлев». Он называл себя «самарским губернским христом», а в остальном, по характеристике водившего с ним знакомство толстовца Яркова, был «неглупый, приветливый человек»; см.: Ярков. Моя жизнь. Воспоминания, 181.]. Клюев рассказывал Блоку в 1911, что стихи из Нечаянной радости «поют в Олонецкой губернии»[197 - Блок. Собрание сочинений, 7, 71.]. По словам Яркова, изнутри знавшего жизнь поволжских сект начала века,
стихи поэтов Никитина, Надсона, Плещеева, Хомякова, Сурикова, Мережковского и некоторых других можно было в свое время неожиданно услышать в самых глухих, затерянных, мордовских уголках самарского степного края, причем услышать не […] в декламации и не в опытной, умелой аранжировке, а […] в хоровом, песенном исполнении так называемого «простонародья», […] глубоко слаженным хором «людей божиих» в сопровождении столь свойственной им ритуальной пляски[198 - Ярков. Моя жизнь. Воспоминания, 496.].
Вычленить ‘народные’ произведения среди всего массива бытующих таким способом текстов оказывается сложной проблемой, и не только методической. На деле это означает, что собственно фольклорная традиция, как способ устной передачи текстов, уже в 19 веке неотделима от письменной литературы. Это не значит, что фольклора не существует. Та версия пушкинской сказки, которую бабушка рассказывает внучке и которая, возможно, со своими оригинальными деталями будет передана через поколение, и есть фольклор[199 - О роли нянь в межпоколенной трансляции народной культуры внутри интеллигенции см.: Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России, гл.3.].
Воспроизведение не означает пассивного заимствования, и в этом смысле между Мольером, переделывавшим старинные пьесы, и народом нет принципиального различия[200 - Богатырев, Якобсон. Фольклор как особая форма творчества, 377. Более свежий пример дают «садистские стишки», изученные Александром Белоусовым. Они бытуют в детской и молодежной среде как подлинный фольклор, не знающий авторства и передающийся исключительно устными средствами. При более внимательном исследовании «садистские стишки» оказались написаны профессиональным петербургским литератором; см.: А. Ф. Белоусов. Воспоминания Игоря Мальского «Кривое зеркало действительности»: к вопросу о происхождении «садистских стишков» – Лотмановский сборник. Москва: ИЦ-Гарант, 1995, 1, 680–691.].
Иными словами, в значительной своей части фольклор есть обращение авторских текстов, снабженных искажениями, сокращениями и добавками разной степени. Такое понимание имеет мало общего с пониманием фольклора как внеисторического источника культуры, базы для романтического национализма[201 - Критику мифологической теории применительно к современному искусству см.: Mircea Eliade. Symbolism, thе Sacred, and the Arts. New York: Crossroad, 1986. О значении фольклорных записей, пейзажной живописи, исторических романов для европейского национализма в сравнительной перспективе см.: Anthony D. Smith. The Ethnic Origins of Nations. New York: Blackwell, 1986, ch.7–8. Об использовании фольклорных и религиозных символов французской революцией: Mona Ozouf. Festivals and the French Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1988; Susann Desan. Reclaiming the Sacred. Lay Religion and Popular Politics in Revolutionary France. Ithaca: Cornell University Press, 1990. О присвоении культурной традиции в нацистской Германии: George L. Mosse. The Nationalization of Masses. Ithaca: Cornell University Press, 1991; о сходных процессах в большевистской России: Richard Stites. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.].
Обрядовая поэзия русских сектантов составляет большой и важный массив народной культуры. В советской этнографии она, однако, не классифицировалась ни как фольклор, ни как народная поэзия. За несколькими важными исключениями, ее изучение практически прервалось после 1910-х годов. От собственно фольклора сектантскую поэзию отличает ряд существенных признаков. В основном это стихи, которые исполнялись во время религиозных ритуалов-радений. Они произносились лидером-пророком или же распевались хором, подобно псалмам. Сектанты называли эти стихи ‘рас-певцами’. В значительной части эти стихи были записаны, а иногда даже изданы, самими носителями сектантской традиции. В этом смысле, сектантская поэзия близка к профессиональной литературе. Распевцы, однако, не имеют авторства. Хлысты верили, что во время радения человек-пророк говорит не своим голосом, в нем живут высшие силы. В большей или меньшей степени пророки варьировали известные мотивы и формулы, изменяя и дополняя их в соответствии с требованиями момента. Поэтому записанные тексты нередко представляют собой серийные варианты. Многие распевцы мистических сект полны оригинального поэтического материала. Его своеобразие связано с подлинной необычностью верований и образа жизни сектантских коммун, производивших рискованные экономические, сексуальные и психологические эксперименты и выражавших свой опыт в религиозно-поэтическом творчестве.
Начиная с 1830-х годов и последующие полтора столетия, мистические секты считались «особо опасными» и подвергались полицейским репрессиям. Сектанты отвечали на репрессии особого рода конспиративностью, устраивая свои радения в строго секретной атмосфере. Посторонним людям редко удавалось бывать на них; к тому же к началу 20 века численность мистических сект и их активность находились в состоянии спада. За некоторыми важными исключениями, которые будут рассмотрены далее, знакомство интеллигенции рубежа веков с мистическими сектами не было основано на непосредственном общении и личном участии в народных культах. Напротив, чаще всего информация о хлыстах, скопцах, бегунах и прочих мистических сектах была книжной. Как правило, эта информация касалась не современных сект, а тех, которые существовали в 19 веке, и воспринятых так, как воспринимали их люди 19 века.
Журналы консервативного и официально-церковного направлений (Русский вестник, Христианское чтение, Православное обозрение, Миссионерское обозрение, Русский инок) были полны обличительных материалов о сектах. Не менее обильно печатали статьи о народных мистических сектах и толстые литературные журналы, традиционно доминировавшие в русской периодике. В особенности богаты такими материалами были популярные исторические издания (Русский архив, Исторический вестник, Русская старина, Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских) и журналы народнического и либерального плана (Отечественные записки, Дело, Русское богатство, Вестник Европы, Современный мир, Русская мысль, Ежемесячный журнал). Голос самих сект так и не вошел в профессиональный дискурс; единственным журналом, который регулярно издавался самими сектантами, был Духовный христианин под редакцией молоканина А. С. Проханова[202 - За этим журналом следил Лев Толстой, который отзывался о Проханове как о «поразительно умном человеке» – Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки – Литературное наследство, 1979, 90, кн. 2, 423.].
Библиография сектоведческой литературы, изданная Алексеем Пругавиным, уже в 1887 заняла целый том[203 - А. С. Пругавин. Раскол-сектантство. Материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа. 1. Библиография старообрядчества и его разветвлений. Москва: типография В. В. Исленьева, 1887.]. В последующие годы выходит обширная серия его книг, сочетавших профессиональное знание предмета с безудержной его романтизацией. Радикально настроенный интеллектуал, проходивший еще по нечаевскому делу, в будущем социалист-революционер, Пругавин доказывал здоровую сущность народного инаковерия, направленного в революционное будущее. Объясняя читателю 1895 года высокую степень просвещенности раскола (и, в сравнении со всем имеющимся материалом, сильно преувеличивая), Пругавин сравнивал русских сектантов с героем пушкинского Пророка:
Сектантство представляет собой обширное поле для свободной умственной деятельности, и потому те личности из народа, […] к которым можно применить слова поэта «Духовной жаждою томим» – обыкновенно идут в раскол. Здесь они находят целые общества людей начитанных, по-своему развитых, обширные библиотеки, читателей, издателей, переписчиков и все пособия для свободного общения мысли и слова[204 - А. С. Пругавин. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания. Санкт-Петербург, 1985, 497.].
Кульминацией сектоведения стали 1900-е и начало 1910-х годов, когда наряду с сотнями статей и брошюр всех направлений были изданы капитальные собрания сектантских документов и важные историко-теоретические исследования. «Все хотят изучать сектантство»[205 - Архив В. Д. Пришвиной. Картон «Богоискатели», 76.], – записывал Михаил Пришвин в январе 1909. Тогда вышло пионерское (впрочем, до сих пор не нашедшее продолжателя) исследование Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве[206 - Д. Г. Коновалов. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. Диссертация была защищена, но вскоре Синод по представлению архиепископа Антония Волынского лишил Коновалова ученой степени. О полемике вокруг Коновалова и о связи его подхода с идеями Джемса см.: А. Эткинд. Многообразие религиозного опыта на фоне заката империи. – НЛО, 1998. № 31. С. 102–122.]. Подготовленная для защиты в Московской Духовной Академии, а методологией своей основанная на Многообразии религиозного опыта Уильяма Джемса, эта диссертация сочетала анализ психофизиологических техник религиозного экстаза со сравнительно-историческим обзором поэтики и психологии мистических сект. В том же 1908 году глава о сектантских песнопениях впервые (и, кажется, в последний раз) появляется в Истории русской литературы; главу написал толстовец Павел Бирюков[207 - П. Бирюков. Песни, псалмы и гимны русских сектантов, раскольников и мистиков – История русской литературы. Под ред. Е. В. Аничкова, 2. Народная словесность. Санкт-Петербург: изд-во И. Д. Сытина, 1908, 396–421.]. Лучшим собранием поэзии русских сектантов является специальный том Записок Императорского Русского Географического общества по отделению этнографии, изданный в 1912 году T. С. Рождественским и М. И. Успенским. Более тенденциозными, но впечатляющими источниками были семь роскошно изданных томов Материалов к истории русского сектантства и старообрядчества под редакцией Владимира Бонч-Бруевича [1908–1916], подводившие итог многолетним симпатиям русских радикалов; и резко враждебное по отношению к своему предмету трехтомное собрание миссионера И. Г. Айвазова Христовщина. Материалы для исследования русских мистических сект [1915]. Квалифицированно написанные, снабженные большими библиографическими списками статьи о мистических сектах легко найти в русских энциклопедиях. Эти статьи, брошюры, книги и многотомные издания составляли обширный и расширявшийся поток, входивший в круг чтения двух поколений, которые участвовали в литературном и политическом процессе революционной России.
С политической точки зрения дискурс о сектах отчетливо делился на две противоположные линии[208 - Ср. обзор, в котором «обвиняющее» направление исследований сектантства в профессиональной литературе противопоставлялось «оправдывающему» направлению: Священник Георгий Чайкин. Современные искания в русском сектантстве (Опыт сектантской идеологии). – Миссионерское обозрение, 1913, 5, 32.]. Консервативная линия была представлена специалистами так называемой Внутренней миссии. Этот церковный институт, непосредственно подчиненный Синоду, ставил своей целью обращение русских сектантов и старообрядцев в православие. Его органами были Миссионерское обозрение, обильно печатавшее обличительные и часто очень агрессивные материалы о сектах, и газета Колокол. Миссионеры видели в сектантских общинах преступные и конспиративные группы, представлявшие непосредственную опасность для легковерных граждан, для православной церкви и для государства в целом. Другая линия сектоведческой литературы была, напротив, остро радикальной, и представлена она была этнографами. Традиция, передававшаяся от почвенника 1870-х годов Афанасия Щапова к социал-революционеру Алексею Пругавину и далее к большевику Владимиру Бонч-Бруевичу, интерпретировала мистические культы как проявления социального протеста, а сектантские общины – как огромный, тайный, перспективный ресурс грядущей революции. Нараставшее в течение всей второй половины 19 века противостояние этнографов и миссионеров в вопросе о сектах было, по-видимому, феноменом профессионализации культурного дискурса[209 - Ср. Engellstein. Keys to Happiness, passim.]. В оценочно-идеологической части две эти группы авторов расходились полярным способом; но они были согласны между собой в содержательной части своего интереса к сектам как к массовому религиозному движению, имеющему политическое значение.
Итак, знание о сектах – их идеях, нравах, ритуалах, поэзии – шло по развитым, высоко дифференцированным каналам письменной культуры: через журналы, книги, энциклопедии. Реальная картина общения интеллектуала с народом оказывается весьма отличной от народнического, и впоследствии советского, образа поэта как этнографа-любителя, который черпает из копилки народного опыта. В тех достоверных случаях, когда этнографу действительно удавалось записать устные фольклорные тексты (как это удалось Николаю Рыбникову в отношении былин, Александру Афанасьеву в отношении сказок или Елпидифору Барсову в отношении причитаний), он публиковал их с соблюдением профессиональных норм и вовсе не пытался выдать за собственное литературное творчество. Но на каждую такую публикацию приходятся десятки или сотни псевдо-фольклорных текстов русской литературы. Механизм их, начиная с баллад Жуковского, сказок Пушкина, повестей Гоголя, былин Лермонтова и песен Кольцова, прямо противоположен этнографической записи. Создавая свой текст, профессиональный литератор перерабатывает другие письменные же тексты, публиковавшие (более или менее достоверно) русский или зарубежный фольклор, а затем выдает (более или менее настойчиво) свой текст за собственно фольклорный. При этом он может работать с источниками первичными или уже прошедшими многократную литературную переработку; он может относиться к ним более или менее критично; он может учитывать фрагменты подлинных фольклорных текстов, которые слышал в детстве от няни или в зрелые годы на даче; а может и вовсе не иметь такого опыта или его игнорировать. Литературный результат, понятно, зависит совсем от другого.
Когда Сергей Соловьев в Весах производил русский символизм от ‘национального мифа’[210 - С. Соловьев. Символизм и декадентство – Весы, 1909, 5, 53–56.], он формулировал ситуацию в точных и профессиональных терминах. Литература есть основная форма существования мифологии Нового времени. Действенность национального мифа, или скорее мифов, мало зависит от их исторической достоверности. И в этом смысле русская культура не уникальна. В разноязычной литературной и политической культуре последних веков национальные мифы играли непременную роль, оживая перед революциями и умирая в диктатурах. Они питали собой несметное количество больших и малых текстов, от Сервантеса до Борхеса и от Андерсена до Вагнера; и сами питались этими текстами. Будучи частью целостного культурного дискурса, национальные мифы воплощают в себе основные настроения эпохи в других формах, чем это делает элитарная культура, по своему существу более космополитическая. Русский миф об общине, питавший надежды нескольких поколений радикальных политиков, соответствовал утопиям европейских социалистов. Русские истории о скопцах соответствовали раннекапиталистическим идеям пуританизма и аскетизма. Русские истории о хлыстах соответствовали романтической идее первобытного промискуитета. Русские истории о бегунах, босяках и, наконец, Распутине соответствовали идее сверхчеловека. Русская легенда о граде Китеже, на рубеже веков породившая тексты разных жанров от оперы до памфлета[211 - Ср. оперу Римского-Корсакова Сказание о невидимом граде Китеже, травелог Пришвина В поисках невидимого града, политическую брошюру Эрна и Свенцицкого Взыскующим града, книжку Дурылина Церковь Невидимого града, трактат Сергея Булгакова Два града, замысел романа Белого Невидимый град, сюжет о затонувшем Кэр-Исе в Розе и Кресте Блока, эмигрантский журнал Новый град.], соответствовала ницшеанской идее вечного возвращения.
Подражания, стилизации, освоения низших жанров и литературные воспроизведения народной жизни часто являлись последствием искреннего стремления к расширению читательской аудитории, к демократизации литературы как социального института. Не менее часто такого рода усилия приводили к самообману, являясь следствием идеализации ‘народа’ и революционной веры в то, что низшие классы являются носителями высших ценностей. Тяга к опрощению культуры, нашедшая свою кульминацию в этическом учении Толстого, в политической практике Николая II и, наконец, в культурном строительстве большевиков, вела к саморазрушению русской цивилизации. Писатели рубежа веков играли в этом ряду свою роль. Мифологизируя народ с помощью новых эстетических техник, они шли дальше своих славянофильских и народнических предшественников, и псевдо-фольклорных текстов здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Как писала Лидия Гинзбург:
Сочетание народнических, даже народовольческих тенденций с авангардизмом, модернизмом породило в начале ХХ века новую интеллигентскую формацию, которая привела бы в ужас честных народников 1870-х годов[212 - Л. Гинзбург. Литература в поисках реальности. Ленинград: Советский писатель, 1987, 314.].
Утопическое
Первая утопия содержится в Книге Бытия, и тут же описан механизм анти-утопий. Для сюжета нужны трое: мужчина, женщина и носитель власти. Райская жизнь продолжается до тех пор, пока люди не знают пола; обретение или осознание пола ведет к изгнанию из рая. Именно человеческая сексуальность и ее производные – любовь, семья и становящаяся нужной собственность – разрушает утопический мир. В самом деле, так разрушались утопические коммуны гернгутеров, сен-симонистов, толстовцев, когда кто-то из их членов находил себе пару и отгораживал свой угол.
Догматическим содержанием хлыстовской веры была идея множественного воплощения Христа и представление о доступности личного отождествления с Богом – человекобожие, как стали формулировать в конце 19 века. Хлысты не различали между Богом-отцом, Богом-сыном и Святым Духом, соединяя три ипостаси в одну и, далее, сливая их с собственными лидерами[156 - Сведения о секте так называющихся в русском расколе Людей Божиих – Православный собеседник, 1858, март, 336; Бондарь, Секты хлыстов…, 8; о христологическом тропе в «личностном сознании» см.: М. Б. Плюханова. О некоторых чертах личностного сознания в России 17-го в. – Язык средневековой культуры. Москва: Наука, 1982, 184–200.]. В 1838 Синод писал о хлыстах, что «у них вкоренилась мысль, что посредством пророков, ими избранных, человек может сообщаться с небом и видеть божество в человечестве»[157 - Айвазов. Христовщина, 1, 49.]. Как пели сами хлысты:
Послушайте, верные мои! – был голос из-за облака,
Сойду я к вам бог с неба на землю;
Изберу я плоть пречистую и облекусь в нее;
Буду я по плоти человек, а по духу бог[158 - Е. И. Буткевич. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910, 19.].
Скопец и камергер Алексей Еленский писал в 1804 году: «следует каждому не довольно верою, но и житием, вообразить в себе Христа и в христа вообразиться»[159 - И. Липранди. Дело о скопце камергере Еленском – Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских, 1867, 4, отд. 5, 80.]. В этой характерной словесной игре тонко выражена как ключевая оппозиция, так и ее конъюнктивное решение: «вообразить в себе Христа» есть христианский идеал, «в христа вообразиться» – ересь. В оригинале имя Бога, вероятно, оба раза было написано одинаково; капитализация в одном из случаев скорее всего привнесена публикатором, который таким способом выражал свое понимание предмета. Православное и другие христианские учения, веря в единственность личности Христа, призывают каждого верующего к следованию за ним, «подражанию Христу», как называл долг христианина св. Фома Кемпийский. «Наши Божьи люди не старались, согласно с учением Христовым, вообразить в себе дух Христов, но отелесить в себе только личность Христа», – выразительно писало в 1862 году Православное обозрение[160 - И. Снегирев. Основатели секты «людей божиих» лжехристы Иван Суслов и Прокопий Лупкин. – Православное обозрение, 1862, 8, 325.]. Его автор противопоставлял «чувственное усилие воплотить в себе Христа», характерное для хлыстов, и способность «вообразить в себе дух Христов», к которой стремится православие. Это критически важная граница между подражанием Христу и отождествлением с ним, между репрезентацией и реинкарнацией. Теологическая проблематика тут формулируется на языке семиотики. Известный нам священник Сергеев рассказывал:
веруя в переселение душ, они так тесно сближают небо с землею и смешивают небесную иерархию с земною, что земля, по их понятию, ничем не отличается от неба; сам Бог будто бы, сходя к ним с небес со всеми святыми ангелами […] пребывает с ними во плоти, видимо, утешает и ублажает, и они пред ним ликуют и кружатся здесь на земле, думая, что также будут по смерти кружиться на небе […] Духовное (они) прелагают на чувственное, и чувственное на духовное; представляют невидимое – видимым, неосязаемое – осязаемым, а видимое и осязаемое – невидимым и неосязаемым[161 - Н. И. Барсов. Русский простонародный мистицизм. – Христианское чтение, 1869, 9, 442.].
Согласно этим поэтическим словам, записанным в 1809, а опубликованным в 1869, хлысты кажутся подлинными художниками, причем самого романтического направления, почти что символистами. Все же теология хлыстов была примитивной, хотя даже миссионерское ее изложение несет отпечаток модернистских веяний:
Вне человека, вне его интересов, Божество для хлыстов не существует […] Упростивши таким образом свой взгляд на Божество, хлысты свели Бога с неба на землю […] Он мыслим лишь в своем проявлении в каждом отдельном человеке, вне этого проявления Бог – что-то беспредметное […] В этом смысле Бог находится в полном распоряжении […] хлыстов. По их желанию, Бог может быть […] призван к активному бытию […] Такое «сманивание» Божества на людей и есть цель хлыстовской нравственности и хлыстовского богослужения[162 - П. Добромыслов. Несколько слов о современной хлыстовщине (по поводу тарусского дела о хлыстах) – Миссионерский сборник. Москва, 1895, 226.].
Накатывание духа бывает временным – на радениях, и постоянным; на хлыстовских христов и богородиц дух «накатывает» пожизненно. Веру сектантов в таких лидеров эксперт называл «изумительной»: «на него молятся, как на Бога, к нему обращаются со всеми нуждами, он может располагать не только имуществом и честью, но и жизнью и смертью каждого члена общины»[163 - Там же, 293, 312.]. Хорошо знавший хлыстов в 1900-х годах народник Виктор Данилов видел эту ситуацию изнутри:
Мы боги, говорят они, исходя из слов писания: будьте как боги. […] Девиз хлыста пустыня, которую нужно пройти; а конечная цель это Христос-утешитель. Не отвлеченный Христос; а реальный в плоти и крови. Хлыст только тогда достигает, когда делается как Он. […] И хлыст идет не к тому, чтобы молиться Ему, а к тому, чтобы сделаться подобным Ему. Это правда смешно для интеллигента, но если понять психику народа и его историю, полную угнетения и рабства; все отнято у народа […] одно место и остается незанятым – это место Христа и Бога, и хлыст берет то, что не занято. […] Радость Его в экстазе и хождении в духе доказывает, что он на пиру у Христа-утешителя – Бога светлого[164 - РНБ, ф. 238, ед. хр.55.].
Когда сакральным Именем называли то одного, то другого конкретного человека, это не казалось кощунством (как кажется современному человеку, верящему в богочеловеческую сущность Христа) или искажением истории (как кажется современному человеку, считающему Христа исторической личностью). Это было обозначением особой социальной роли, высшего и уникального титула, сходного по своей природе с царским. Миф называет разные явления одним и тем же именем и сакрализует само имя[165 - Ю. Лотман, Б. Успенский. Миф – имя – культура – в кн.: Ю. Лотман. Избранные статьи в 3 томах. Таллинн: Александра, 1992, 1, 73.]. В мистическом смысле, в который кто-то верил, а кто-то нет, евангельский Иисус, Данила Филиппович и его многочисленные преемники были одним и тем же Христом. В отличие от индуктивно-дедуктивной рациональности, не терпящей логического круга, мифо-логика вся построена на таком круге или, может быть, кружении. Имя определяет того, кто и до Имени достоин этого Имени; с другой стороны, его особые достоинства подтверждают сакральность Имени. Мифология омонимична. У Имени нет синонимов; но у него могут быть разные носители, особенно в разное время. «Разрушение мифологического сознания сопровождается бурно протекающими процессами: переосмыслением мифологических текстов как метафорических и развитием синонимии»[166 - Там же.]; в этом процессе и развивается свободная от вещей игра с их синонимическими именами – поэзия.
Для общины не важно, как описывает идентичность, связанную с Именем, культура и ее книги; важно то, подходит ли нынешний носитель имени самому Имени. В отличие от книжных споров вокруг раскола, вопрос о качестве хлыстовского Откровения был открыт для суждения каждого члена общины: оно было воплощено в живом и доступном для общения человеке. Получалось, что ключевой вопрос веры носил до некоторой степени эмпирический и, поскольку речь шла о человеке (хотя и особом человеке), психологический характер. Власть в общине – мистическая, ритуальная, сексуальная, экономическая – принадлежала тому, кто сумел самым эффективным способом поставить в зависимость от себя состояние душ и тел своих единоверцев. Конкуренция шла на радениях и вне их. Успешные исцеления, сбывающиеся пророчества, убедительные интерпретации, эффективные обращения новых членов и удержания старых были доказательствами бытия Божия, божественной сущности лидера.
Христами и богородицами становились по общему признанию и, вероятно, в ходе конкурентной борьбы. Основой этому были ничем не регламентированные, но признанные общиной процедуры мистической демократии. Власть, не подкрепленная ни силой, ни законом, всецело зависела от психологического влияния на общину; а это влияние обеспечивалось лишь личностными качествами, талантами и умениями лидера. Понятно, что лидеры отбирались в соответствии именно с этими психологическими качествами и в свою очередь делали все для сакрализации тех качеств, с которыми связывали свой успех. Риторика нового Адама, преображенного человека или, как часто говорили хлысты вместе с масонами, «перерождения человека» постепенно занимала центральную позицию в усложнявшемся дискурсе хлыстовских христов. Миф перерастал (или вырождался) в идеологию, а среди многих составляющих последней – более всего в психологию. «Есть две психологии», – рассуждал в 1906 году хлыстовский пророк, друживший с петербургскими писателями: «одна психология крови […], а другая психология – просто чистый янтарь, постав Божий»[167 - М. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Москва: Художественная литература, 1982, 1, 750.]. Психологическая заостренность русского сектантства воспринималась сочувствующими наблюдателями, пытавшимися осмыслить народный культ в терминах высокой культуры. Темпераментный Афанасий Щапов видел в хлыстовстве «болезненное выражение угнетенного, наболевшего сердца, духа народного […]; экзальтация больных сердец, мечтания и грезы больных, разгоряченных, экзальтированных фантазий»[168 - А. Щапов. Земство и раскол. II. Бегуны. – Сочинения, 1, 544.]. Для Василия Розанова русское сектантство было «явлением более психическим, нежели только церковным»[169 - В. Розанов. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). Петербург, 1914, 33.].
Оттачиваясь народным опытом так же, как совершенствовались в поколениях другие народные искусства, искусство психологического влияния соединяло техники, воспринятые из исторической традиции и заимствованные из высокой культуры: пророчества, имеющие корни в шаманизме; народные заговоры и другие языческие манипуляции нечистой силой; чудесные исцеления наподобие тех, которые практиковали православные и католические святые; христианскую исповедь с ее мистической тайной и отпущением грехов; интуицию православных старцев, которая согласно канону давалась не «знанием», а «благодатью»; магнетизм и гипноз, импортировавшиеся из Европы, в частности, через масонские круги и плавно налагавшиеся на народные умения; и, наконец, оригинальные методы группового экстаза, самостоятельно разрабатываемые поколениями людей Божьих. Микротехники власти оказывались профессиональным искусством хлыстовских лидеров, своего рода народным ремеслом, которое передавалось личным примером и оттачивалось столетиями. Всякое искусство имеет своих гениев, и имеет козлов отпущения; мы познакомимся с теми и другими.
Социологическое
Итак, хлысты и другие мистические сектанты обожествляли лидеров своих общин, считая мужчин христами, женщин богородицами. В момент распада общин за этим верованием уже могла не стоять развернутая религия реинкарнации. Имя Бога использовалось лишь как знак социального статуса, условное обозначение переходящего лидерства внутри общины. Описаны и любопытные варианты этой веры. Самарские хлысты-белоризцы, которые считались одной из самых старых общин, не признавали индивидуального воплощения Христа. «Христос во всех нас, а не в одном человеке», – говорили эти хлысты. Этнограф видел здесь «демократическое понимание идеи перевоплощения Христа»[170 - Бондарь. Секты хлыстов…, 84.], но всякому любителю русской литературы эти слова напомнят речи Шатова из Бесов. Между двумя этими пониманиями хлыстовского человекобожия – «Христос в нас» или «Христос в нашем лидере» – вряд ли было существенное различие. Община совмещала веру в свою божественность, воплощавшуюся во время радений в ее коллективном теле, с верой в божественность ее лидера, который организовывал радения и символизировал общину в перерыве между ними.
В радении хлысты достигали состояния, в котором переставали контролировать свои слова и действия так, как это было им свойственно в повседневной жизни. Ими владела высшая сила, которая творит свою волю через их послушные тела и души. В ритуале воплощаются нормы, которые действуют вне его, в бытовом поведении; ритуал воспитывает поведение, отвечающее этим нормам; и ритуал является риторическим тропом, метафорой или гиперболой в отношении повседневного поведения. Самоотдача божеству-общине-лидеру была безусловной. Повседневные отношения в общине так же основывались на передаче воли, инициативы, сознательного контроля в распоряжение лидера-общины-божества, как и сам экстатический обряд.
Функция подобных ритуалов есть собственный предмет социологии религии Эмиля Дюркгейма[171 - Emile Durkheim. The Elementary Forms of Religious Life. New York: Macmillan, 1915; Steven Lukes. Emile Durkheim: His Life and Work. New York: Harper, 1982, 482ff; о революционных ритуалах в этом ключе см.: Lynn Hunt. The Sacred and the French Revolution – in: Durkheimian Sociology: Cultural Studies. Ed. by Jeffrey C. Alexander. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 25–43.]. В ритуале общество/община воплощает главные свои ценности и, через его эмоционально напряженное действие, входит внутрь сознания и бессознательного своих членов. Ритуал – это спектакль, в котором люди разыгрывают миф; в этот миф они верят потому, что он вновь и вновь осуществляется в ритуале. Ритуал есть способ индоктринации, самый эффективный из многих ее способов. Ритуальное действие эффективнее, чем используемые в нем символы; значение последних далеко не всегда известно участникам, но смысл ритуала для них ясен и важен. В ритуале воображаемый и реальный миры сливаются воедино, смешиваясь в едином наборе символических форм[172 - Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973, 112.].
Несмотря на утопические и даже анархические ассоциации, которые вызывала идея общины, центральными в сектантском культе оставались идиомы ‘владения’, передачи индивидуальной воли вовне, восторженно принимаемой зависимости. «Мило-дорого глядеть, Как Господь стал нами владеть», – пели хлысты[173 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 91.]. Поразительно, как сходно, всегда в пассивном залоге, выражали свои ощущения хлысты из разных мест и даже из разных веков. В начале 18 века москвичка Фекла во время радения на Воробьевых горах «сидя на лавке трепеталась, и с той лавки бросало ее якобы ветром»[174 - И. А. Чистович. Дело о богопротивных сборищах и действиях. Москва: университетская типография М. Каткова, 1887, 4.]. Другой московский хлыст того же времени «вскочил с лавки высоко, якобы кем-то с той лавки оторван, и стал вертеться […] и говорил: братцы и сестрицы! не моя теперь воля, но Божия». Сибирская хлыстовка рассказывала так: «с лавок на пол – неведомо каким случаем и кем невидимо – сдергивало и вокруг по солнцу […] вертело […] хотя она, сидя на месте, и крепится, но неведомо кем сдернет и вертит»[175 - Коновалов. Религиозный экстаз…, 86.]. Так же понимали происходившее с ними и высокопоставленные члены секты Татариновой, только они реагировали менее непосредственно, с опаской: «тайный советник В. М. Попов, слушая пророческое слово Татариновой, начал кружиться невольным образом, сам испугавшись столь сильного над собою духовного явления»[176 - Н. Дубровин. Наши мистики-сектанты. Е. Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий – Русская старина, 1895, ноябрь, 11.]. По мнению миссионера Ремерова, сектанты различали произвольные и бессознательные действия и на радении предпочитали последние. «Хлысты ясно отличают того, кто не по ‘духу’ пошел, кто хотел бы подделаться под это их вполне непроизвольное хождение»[177 - Ремеров, священник. Вероучение и культ хлыстов центральной России – Миссионерское обозрение, 1900, 2, 75–76.].
У закавказских прыгунов два-три человека в общине прыгали на каждом собрании, на остальных же дух сходил только в торжественных случаях, причем тогда прыгали все до единого. Свидетель сравнивал происходившее в тесной избе то с возней, то с гимнастикой, то с пантомимой. Наряду с этой физической активностью, многие собравшиеся громко рыдали или стонали; в паузах хором пели стихи, по сотне раз повторяя короткие строфы (стихи были рифмованными, что отличало от распевцев хлыстов и скопцов). Так продолжалось пять часов; окна были закрыты[178 - Н. Дингельштедт. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. Санкт-Петербург: типография М. М. Стасюлевича, 1885, 8–10.]. Прыгуны верили в близкий Конец Света, который трижды предсказывался на разные годы, начиная с 1857, основателем секты Максимом Рудометкиным. В тысячелетнем царстве царем будет он сам, разделяя власть с вернувшимся Христом. Болезней и печалей там не будет. Прыгуны будут начальниками над остальными людьми, и у каждого будут по две жены. Впрочем, несколько «духовных», то есть невенчанных, жен разрешалось иметь уже и в ожидании Пришествия. В ознаменовании Конца Света Рудометкин с 12 апостолами стал строить высокий столб, увешанный флагами и надписями. Поскольку Второе пришествие откладывалось, открытие этого монумента было приурочено к проезду мимо этой деревни двух великих князей. Этого власти вынести уже не могли, и в октябре 1858 года Рудометкина отправили на Соловки[179 - Там же, 74.]. Скоро, однако, прыгунство распространилось среди пересланных на Кубань степенных меннонитов так же быстро, как незадолго до того оно объявилось среди рационалистов-молокан.
Все описанные явления не вполне уникальны. И кружения, и глоссолалия, и обожествление лидера, и послушание ему известны в практике разных ересей, христианских и мусульманских. Но разнообразие русских сект, необычный характер их ритуала, трудность их изучения, малая достоверность знаний о них должны были бы привлечь сюда солидные исследования. Однако интерес русских этнографов к народным сектам не был особенно пристальным. В 19 веке ими чаще занимались люди, испытывавшие к ним не столько научный, сколько религиозный или политический интерес – миссионеры, революционные агитаторы, писатели. Значительная часть имеющихся описаний, и наверняка самые яркие из них, принадлежат этим наблюдателям. Достоверность их свидетельств всегда подлежит сомнению. В первое десятилетие 20 века сектантские общины впервые подвергаются систематическому исследованию. К этому времени, однако, наиболее колоритные явления либо вовсе исчезли, либо оказались редуцированными. Огромное исследование дерптского профессора Карла Гросса вышло на немецком языке в двух томах общей сложностью 1700 страниц (первый, посвященный хлыстам – в 1907 году; второй о скопцах в 1914)[180 - Karl K. Gross. Die russischen Secten. Leipzig: J.C.Hinrichs Verlages, 1907, 1; 1914, 2; 2nd ed.: Leipzig: Zental-Antiquariat, 1966.]; оно, однако, целиком основано на обзоре материалов, публиковавшихся в России. В 1908 вышло исследование Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве; суммируя множество миссионерских описаний и приводя их в феноменологическую систему, автор был бессилен проверить их достоверность. Французский этнограф Ж. Б. Северак посетил дважды, в 1903 и 1906 годах, кубанскую станицу Абинскую. Он наблюдал драматический упадок численности общин Божьих людей и забывание хлыстовского культа[181 - J.-B. Severac. La secte russe des Homme-de-Dieu. These de Doctorat. Paris: Cornely, 1906, 8–11, 122. Об этом исследовании с одобрением отзывался Лев Толстой (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки – Литературное наследство, 1979, 90, кн.2, 380).]. В 1911–1912 сотрудник Министерства внутренних дел С. Д. Бондарь обследовал общины Южной России. В отношении предшественников по изучению хлыстовства его выводы были скептическими:
Секта хлыстов имеет за собой огромную специальную литературу. Несмотря на это, она недостаточно обследована […] Нередко особенности, свойственные одному виду или толку хлыстовщины, приписываются всей хлыстовщине […] Изучение хлыстовщины привело меня к убеждению, что она не представляет из себя однородного религиозного явления[182 - Бондарь. Секты хлыстов…, 5.].
Быстрое распространение рационалистических и протестантских учений в России начала века вовлекало в себя старые мистические секты, быстро их трансформируя. По таким изданиям, как Миссионерское обозрение, видно, что хлысты меньше беспокоили православных миссионеров в начале 20 века, чем в конце 19-го. Описывались, впрочем, разного рода промежуточные культы, которые миссионеры обозначали искусственными понятиями ‘новохлыстовство’ или ‘штундохлыстовство’. В 1890-х главным предметом миссионерских забот Синода становится ‘штундизм’ (от немецкого Stunde – час), быстро распространявшийся по югу России. Так в синодальных отчетах без разбору именовались все протестантские секты, членами которых были этнически русские. Этим актом классификации церковная бюрократия пыталась справиться с более чем реальной проблемой: инородцам, например немецким колонистам, она не могла запретить быть иноверцами, но пыталась воспрепятствовать конверсии русских. Церковь особенно боялась связей русских протестантов с их могущественными западными единоверцами. Называя сектантов ‘штундистами’, экзотизируя русские общины, описывая их похожими на хлыстов, церковь отрицала их родство с протестантскими сектами и пыталась нарушить их общение. На деле, в ‘штундисты’ оказывались зачислены русскоязычные евангелисты, адвентисты, а более всего баптисты.
Определенную роль в уменьшении реального влияния мистических сект сыграла эмиграция наиболее активных общин: часть меннонитов сумела уехать в 1874 в США, часть духоборов в Канаду в 1898– 1900, часть хлыстов-новоизраильтян в Уругвай в 1912. Немалую роль в трансформации сектантских общин играло развитие толстовского движения[183 - О толстовстве как социальном движении см.: Edmund Heier. Religious Schism in the Russian Aristocracy 1860 – 1900. Radstokism and Pashkovism. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970; Alexander Fodor. A Quest for a Violent Russia. The Partnership of Leo Tolstoy and Vladimir Chertkov. New York: University Press of America, 1989.]. В итоге революции 1905 года раскол добился свободы вероисповедования; но определяющую роль в этом событии играли старообрядцы, а не сектанты[184 - О реакции сектантских и старообрядческих общин в 1905 см.: С. П. Мельгунов. Церковь и государство в России (к вопросу о свободе совести). Москва, 1907.]. В событиях 1917 года и гражданской войне мистические секты заметного участия не принимали. После большевистской революции новая власть предпринимала систематические усилия по установлению союза с народными сектами[185 - Эта история рассмотрена мной в: А. Эткинд. Русские секты и советский коммунизм: проект Владимира Бонч-Бруевича – Минувшее, 1996, 19, 275–319, и ниже, часть 8.]. Они, однако, не отзывались, либо не доверяя властям и предпочитая оставаться в подполье, либо будучи уже разрушенными. Отказ сектантов служить в армии определил невозможность сотрудничества между сектами и революционным правительством.
Для сект считается характерным взаимный антагонизм, отрицание другого, борьба за души и тела верующих. В тяжелые времена, однако, идейные разногласия уступали место сотрудничеству, которому способствовал постоянный переток членов между общинами. В 1883 Глеб Успенский наблюдал на Кавказе такую семью: «муж баптист, жена молоканка, мать ее православная, а отец ‘общий’»[186 - Г. Успенский. На Кавказе – Собрание сочинений. Москва: ГИХЛ, 1957, 8, 191. ‘Общими’ называли одну из самых радикальных мистических сект; см. ниже, часть 7.]. В 1917 году в Самаре был «сектантский центр или клуб», которым управляла пожилая хлыстовка А. Т. Казокина. Она оказала помощь десяткам сектантов – субботникам, добролюбовцам, ‘свободным’, которые подвергались преследованиям за отказ от военной службы. На ее дочери, которая вперемежку посещала собрания баптистской и хлыстовской общин, женился толстовец И. Ярков[187 - И. Ярков. Моя жизнь. Воспоминания. Часть 5. Скитания, 365, 394.]. Со слов этого мемуариста известна история Александра и Арины Баденковых, самарских хлыстов-‘мормонов’, которые около 1910 года сделались добролюбовцами[188 - Там же, 179.]. Арина долго еще тяготела к «радельному колесу», но когда здоровье ее испортилось, она окончательно покинула хлыстов. Как видно, до некоторой степени сектантство было единым миром, скрепленным человеческими связями и общим отношением к окружающему.
Остатки мистических сект продолжали существовать. Последние процессы над скопцами прошли в тридцатые годы[189 - О скопческих общинах советского времени см.: Claudio Sergio Ingerflom. Communistes contre castrats (1929–1920) – Preface de: Nikolai Volkov. La secte Russe de castrats. Paris: Les belles lettres, 1995.]; хлысты же в это время известны только по этнографическим опросам в сельской глубинке. В 1960 году численность сектантов и старообрядцев в России оценивали в 2–3 миллиона[190 - Н. А. Струве. Современное состояние сектантства в Советской России – Вестник русского христианского движения, 1960, 3–4, 33. Однако уже в 1930 кинооператор, участвовавший в антирелигиозной экспедиции в Поволжье, смог заснять одних только баптистов; от хлыстов остались только живые легенды и полуразрушенные тайники – см.: Ан. Терской. У сектантов. Путевые заметки. Москва: Политиздат, 1965.]. Антирелигиозная пропаганда советского времени была более всего озабочена протестантскими сектами, в наибольшей степени баптистами.
По-видимому, народные мистические секты к началу 20 века пришли в относительный упадок и не представляли из себя заметной социальной и, тем более, политической силы. В исторической борьбе за народное сознание они проиграли сначала рационалистическим сектам, ориентированным на религиозную реформу, а потом светским энтузиастам, ориентированным на политическую революцию. Возможно, развитие мистических сект в 18–19 веках надо интерпретировать как самостоятельный ответ низших классов на те же потребности, которые в странах Центральной Европы породили протестантскую Реформацию. Одним из механизмов успеха Реформации был союз между массовым религиозным движением и интеллектуальными усилиями религиозно-культурной элиты. В послепетровской России такого единства достичь не удалось. Интеллигенция не смогла стать лидером религиозной реформы общенационального значения. Несмотря на интерес отдельных интеллектуалов, протестная активность тысяч полуграмотных мистиков оставалась изолированной в своего рода культурных гетто, где подвергалась систематическим репрессиям церкви и не отделившегося от нее государства. Упадок мистических сект к началу 20 века определялся, наряду с глобальными процессами секуляризации, их поглощением протестантскими общинами.
В этом свете то значение, которое влиятельные лидеры культурной элиты как раз в это время стали придавать мистическим сектам, является парадоксом, требующим объяснения.
Этнографическое
В России отношения интеллигенции и народа представляли собой специальный вариант колонизации и потом деколонизации. В отличие от классических империй с заморскими колониями, колонизация России имела внутренний характер. Империя осваивала собственный народ. Внутренняя колонизация совпала с эпохой Просвещения, с расцветом и упадком идеалов полицейского государства. Интеллигенция и бюрократия понимали ‘народ’ как объект культурного воздействия, радикальной ассимиляции, агрессивного преобразования по образцу доминирующей культуры. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, характерные феномены колониализма, в России имели преимущественно внутренний характер. Все это делалось не в отношении заморских дикарей, а в отношении своего народа.
Народ есть Другой. Отсутствие географических, этнических и лингвистических признаков для такой оппозиции лишь усиливало значение признаков собственно культурных (в частности, религиозных и эстетических). Народ надо учить; его надо изучать; и наконец, у него надо учиться. Во всех случаях ‘народ’ конструировался как инверсия основных значений, которые культура приписывала самой себе. В этом внутреннем варианте, русская культура испытывала на себе те влияния, которые оказывают процессы колонизации/ деколонизации на культурный и политический дискурс[191 - О теориях имперского и пост-колониального дискурсов см.: Edward W. Said. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993; The Post-Colonial Studies Reader. Ed. by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. London: Routledge, 1995.]. В ожидании деколонизации, социальной эмансипации, политической революции приходит осознание привилегий ‘народа’, его моральной и метафизической ценности, его чистоты, безгрешности и несправедливой угнетенности. Классовые оппозиции переформулируются как оппозиции культурные. На закате империи чувства элиты принимают характер поклонения культуре Другого и отрицания собственной культуры. Если в ожидании географических потерь имперская культура окрашивается ориентализмом[192 - Edward W.Said. Orientalism. London: Routledge, 1978.], то на фоне классовых конфликтов доминирующая культура окрашивается в иные, хотя часто похожие, цвета популизма. Русские революции были актами деколонизации ‘народа’: актами непоследовательными, как всякая имперская политика; противоречивыми в силу внутреннего ее характера; и закончившимися новой, беспрецедентной по масштабу попыткой имперского завоевания собственного народа.
К концу 19 века интеллигенция относилась к ‘народу’ так, как имперская элита в момент распада империи относится к бунтующей колонии: с чувством вины, с подавленным страхом и с надеждой на примирение. На ‘народ’ нельзя накладывать собственные культурные представления. ‘Народ’ живет своей особой жизнью, о которой верхи знают очень мало; более того, они не вправе давать моральные оценки тому, что знают, а обязаны принимать на веру то, во что верит ‘народ’. Особенностью этого варианта постколониального дискурса было систематическое преувеличение культурной дистанции между ‘народом’ и образованными классами. Убежденная во вторичности и неполноценности собственной культуры в сравнении с ‘народной’, интеллигенция призывала саму себя преодолеть эту дистанцию за счет собственного ‘опрощения’, культурного самоуничтожения.
Между тем записи собирателей фольклора прошлого и этого века полны ситуациями, в которых неграмотные ‘сказительницы’ пели ‘народные’ песни, на деле оказавшиеся версией известных текстов Пушкина, Некрасова или Есенина[193 - Cр. сходный процесс в викторианской Англии: Dave Harker. Fakesong: The Manufacture of British Folksong. 1700 to the Present Day. Milton Keynes: Open University Press, 1985.]. Классический пример тому – превращение пушкинского стихотворения Гусар в представление народного театра Царь Максимилиан[194 - П. Г. Богатырев, Р. Якобсон. Фольклор как особая форма творчества – в: П. Г. Богатырев. Вопросы теории народного творчества. Москва: Искусство, 1971, 167–296.]. Гимны хлыстовской общины ‘Новый Израиль’ в Южной России пелись на мотив Марсельезы, революционной песни «Вы жертвою пали», стихотворений Некрасова[195 - Бондарь. Секты хлыстов…, 70, 72.]. Рецензент Вестника Европы сообщал в 1916: «Какие-нибудь самарские хлысты целыми сотнями выписывают себе стихи Клюева»[196 - П. Н. Сакулин (Рецензия) – Вестник Европы, 1916, 5, 201. Впрочем, удивительным это кажется только в том случае, если представлять себе «каких-нибудь самарских хлыстов» неграмотными изуверами. На деле лидером их в 1910-х годах был «скромный чиновник Самарского казначейства Петр Иванович Комлев». Он называл себя «самарским губернским христом», а в остальном, по характеристике водившего с ним знакомство толстовца Яркова, был «неглупый, приветливый человек»; см.: Ярков. Моя жизнь. Воспоминания, 181.]. Клюев рассказывал Блоку в 1911, что стихи из Нечаянной радости «поют в Олонецкой губернии»[197 - Блок. Собрание сочинений, 7, 71.]. По словам Яркова, изнутри знавшего жизнь поволжских сект начала века,
стихи поэтов Никитина, Надсона, Плещеева, Хомякова, Сурикова, Мережковского и некоторых других можно было в свое время неожиданно услышать в самых глухих, затерянных, мордовских уголках самарского степного края, причем услышать не […] в декламации и не в опытной, умелой аранжировке, а […] в хоровом, песенном исполнении так называемого «простонародья», […] глубоко слаженным хором «людей божиих» в сопровождении столь свойственной им ритуальной пляски[198 - Ярков. Моя жизнь. Воспоминания, 496.].
Вычленить ‘народные’ произведения среди всего массива бытующих таким способом текстов оказывается сложной проблемой, и не только методической. На деле это означает, что собственно фольклорная традиция, как способ устной передачи текстов, уже в 19 веке неотделима от письменной литературы. Это не значит, что фольклора не существует. Та версия пушкинской сказки, которую бабушка рассказывает внучке и которая, возможно, со своими оригинальными деталями будет передана через поколение, и есть фольклор[199 - О роли нянь в межпоколенной трансляции народной культуры внутри интеллигенции см.: Эткинд. Эрос невозможного. История психоанализа в России, гл.3.].
Воспроизведение не означает пассивного заимствования, и в этом смысле между Мольером, переделывавшим старинные пьесы, и народом нет принципиального различия[200 - Богатырев, Якобсон. Фольклор как особая форма творчества, 377. Более свежий пример дают «садистские стишки», изученные Александром Белоусовым. Они бытуют в детской и молодежной среде как подлинный фольклор, не знающий авторства и передающийся исключительно устными средствами. При более внимательном исследовании «садистские стишки» оказались написаны профессиональным петербургским литератором; см.: А. Ф. Белоусов. Воспоминания Игоря Мальского «Кривое зеркало действительности»: к вопросу о происхождении «садистских стишков» – Лотмановский сборник. Москва: ИЦ-Гарант, 1995, 1, 680–691.].
Иными словами, в значительной своей части фольклор есть обращение авторских текстов, снабженных искажениями, сокращениями и добавками разной степени. Такое понимание имеет мало общего с пониманием фольклора как внеисторического источника культуры, базы для романтического национализма[201 - Критику мифологической теории применительно к современному искусству см.: Mircea Eliade. Symbolism, thе Sacred, and the Arts. New York: Crossroad, 1986. О значении фольклорных записей, пейзажной живописи, исторических романов для европейского национализма в сравнительной перспективе см.: Anthony D. Smith. The Ethnic Origins of Nations. New York: Blackwell, 1986, ch.7–8. Об использовании фольклорных и религиозных символов французской революцией: Mona Ozouf. Festivals and the French Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1988; Susann Desan. Reclaiming the Sacred. Lay Religion and Popular Politics in Revolutionary France. Ithaca: Cornell University Press, 1990. О присвоении культурной традиции в нацистской Германии: George L. Mosse. The Nationalization of Masses. Ithaca: Cornell University Press, 1991; о сходных процессах в большевистской России: Richard Stites. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.].
Обрядовая поэзия русских сектантов составляет большой и важный массив народной культуры. В советской этнографии она, однако, не классифицировалась ни как фольклор, ни как народная поэзия. За несколькими важными исключениями, ее изучение практически прервалось после 1910-х годов. От собственно фольклора сектантскую поэзию отличает ряд существенных признаков. В основном это стихи, которые исполнялись во время религиозных ритуалов-радений. Они произносились лидером-пророком или же распевались хором, подобно псалмам. Сектанты называли эти стихи ‘рас-певцами’. В значительной части эти стихи были записаны, а иногда даже изданы, самими носителями сектантской традиции. В этом смысле, сектантская поэзия близка к профессиональной литературе. Распевцы, однако, не имеют авторства. Хлысты верили, что во время радения человек-пророк говорит не своим голосом, в нем живут высшие силы. В большей или меньшей степени пророки варьировали известные мотивы и формулы, изменяя и дополняя их в соответствии с требованиями момента. Поэтому записанные тексты нередко представляют собой серийные варианты. Многие распевцы мистических сект полны оригинального поэтического материала. Его своеобразие связано с подлинной необычностью верований и образа жизни сектантских коммун, производивших рискованные экономические, сексуальные и психологические эксперименты и выражавших свой опыт в религиозно-поэтическом творчестве.
Начиная с 1830-х годов и последующие полтора столетия, мистические секты считались «особо опасными» и подвергались полицейским репрессиям. Сектанты отвечали на репрессии особого рода конспиративностью, устраивая свои радения в строго секретной атмосфере. Посторонним людям редко удавалось бывать на них; к тому же к началу 20 века численность мистических сект и их активность находились в состоянии спада. За некоторыми важными исключениями, которые будут рассмотрены далее, знакомство интеллигенции рубежа веков с мистическими сектами не было основано на непосредственном общении и личном участии в народных культах. Напротив, чаще всего информация о хлыстах, скопцах, бегунах и прочих мистических сектах была книжной. Как правило, эта информация касалась не современных сект, а тех, которые существовали в 19 веке, и воспринятых так, как воспринимали их люди 19 века.
Журналы консервативного и официально-церковного направлений (Русский вестник, Христианское чтение, Православное обозрение, Миссионерское обозрение, Русский инок) были полны обличительных материалов о сектах. Не менее обильно печатали статьи о народных мистических сектах и толстые литературные журналы, традиционно доминировавшие в русской периодике. В особенности богаты такими материалами были популярные исторические издания (Русский архив, Исторический вестник, Русская старина, Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских) и журналы народнического и либерального плана (Отечественные записки, Дело, Русское богатство, Вестник Европы, Современный мир, Русская мысль, Ежемесячный журнал). Голос самих сект так и не вошел в профессиональный дискурс; единственным журналом, который регулярно издавался самими сектантами, был Духовный христианин под редакцией молоканина А. С. Проханова[202 - За этим журналом следил Лев Толстой, который отзывался о Проханове как о «поразительно умном человеке» – Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки – Литературное наследство, 1979, 90, кн. 2, 423.].
Библиография сектоведческой литературы, изданная Алексеем Пругавиным, уже в 1887 заняла целый том[203 - А. С. Пругавин. Раскол-сектантство. Материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа. 1. Библиография старообрядчества и его разветвлений. Москва: типография В. В. Исленьева, 1887.]. В последующие годы выходит обширная серия его книг, сочетавших профессиональное знание предмета с безудержной его романтизацией. Радикально настроенный интеллектуал, проходивший еще по нечаевскому делу, в будущем социалист-революционер, Пругавин доказывал здоровую сущность народного инаковерия, направленного в революционное будущее. Объясняя читателю 1895 года высокую степень просвещенности раскола (и, в сравнении со всем имеющимся материалом, сильно преувеличивая), Пругавин сравнивал русских сектантов с героем пушкинского Пророка:
Сектантство представляет собой обширное поле для свободной умственной деятельности, и потому те личности из народа, […] к которым можно применить слова поэта «Духовной жаждою томим» – обыкновенно идут в раскол. Здесь они находят целые общества людей начитанных, по-своему развитых, обширные библиотеки, читателей, издателей, переписчиков и все пособия для свободного общения мысли и слова[204 - А. С. Пругавин. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания. Санкт-Петербург, 1985, 497.].
Кульминацией сектоведения стали 1900-е и начало 1910-х годов, когда наряду с сотнями статей и брошюр всех направлений были изданы капитальные собрания сектантских документов и важные историко-теоретические исследования. «Все хотят изучать сектантство»[205 - Архив В. Д. Пришвиной. Картон «Богоискатели», 76.], – записывал Михаил Пришвин в январе 1909. Тогда вышло пионерское (впрочем, до сих пор не нашедшее продолжателя) исследование Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве[206 - Д. Г. Коновалов. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. Диссертация была защищена, но вскоре Синод по представлению архиепископа Антония Волынского лишил Коновалова ученой степени. О полемике вокруг Коновалова и о связи его подхода с идеями Джемса см.: А. Эткинд. Многообразие религиозного опыта на фоне заката империи. – НЛО, 1998. № 31. С. 102–122.]. Подготовленная для защиты в Московской Духовной Академии, а методологией своей основанная на Многообразии религиозного опыта Уильяма Джемса, эта диссертация сочетала анализ психофизиологических техник религиозного экстаза со сравнительно-историческим обзором поэтики и психологии мистических сект. В том же 1908 году глава о сектантских песнопениях впервые (и, кажется, в последний раз) появляется в Истории русской литературы; главу написал толстовец Павел Бирюков[207 - П. Бирюков. Песни, псалмы и гимны русских сектантов, раскольников и мистиков – История русской литературы. Под ред. Е. В. Аничкова, 2. Народная словесность. Санкт-Петербург: изд-во И. Д. Сытина, 1908, 396–421.]. Лучшим собранием поэзии русских сектантов является специальный том Записок Императорского Русского Географического общества по отделению этнографии, изданный в 1912 году T. С. Рождественским и М. И. Успенским. Более тенденциозными, но впечатляющими источниками были семь роскошно изданных томов Материалов к истории русского сектантства и старообрядчества под редакцией Владимира Бонч-Бруевича [1908–1916], подводившие итог многолетним симпатиям русских радикалов; и резко враждебное по отношению к своему предмету трехтомное собрание миссионера И. Г. Айвазова Христовщина. Материалы для исследования русских мистических сект [1915]. Квалифицированно написанные, снабженные большими библиографическими списками статьи о мистических сектах легко найти в русских энциклопедиях. Эти статьи, брошюры, книги и многотомные издания составляли обширный и расширявшийся поток, входивший в круг чтения двух поколений, которые участвовали в литературном и политическом процессе революционной России.
С политической точки зрения дискурс о сектах отчетливо делился на две противоположные линии[208 - Ср. обзор, в котором «обвиняющее» направление исследований сектантства в профессиональной литературе противопоставлялось «оправдывающему» направлению: Священник Георгий Чайкин. Современные искания в русском сектантстве (Опыт сектантской идеологии). – Миссионерское обозрение, 1913, 5, 32.]. Консервативная линия была представлена специалистами так называемой Внутренней миссии. Этот церковный институт, непосредственно подчиненный Синоду, ставил своей целью обращение русских сектантов и старообрядцев в православие. Его органами были Миссионерское обозрение, обильно печатавшее обличительные и часто очень агрессивные материалы о сектах, и газета Колокол. Миссионеры видели в сектантских общинах преступные и конспиративные группы, представлявшие непосредственную опасность для легковерных граждан, для православной церкви и для государства в целом. Другая линия сектоведческой литературы была, напротив, остро радикальной, и представлена она была этнографами. Традиция, передававшаяся от почвенника 1870-х годов Афанасия Щапова к социал-революционеру Алексею Пругавину и далее к большевику Владимиру Бонч-Бруевичу, интерпретировала мистические культы как проявления социального протеста, а сектантские общины – как огромный, тайный, перспективный ресурс грядущей революции. Нараставшее в течение всей второй половины 19 века противостояние этнографов и миссионеров в вопросе о сектах было, по-видимому, феноменом профессионализации культурного дискурса[209 - Ср. Engellstein. Keys to Happiness, passim.]. В оценочно-идеологической части две эти группы авторов расходились полярным способом; но они были согласны между собой в содержательной части своего интереса к сектам как к массовому религиозному движению, имеющему политическое значение.
Итак, знание о сектах – их идеях, нравах, ритуалах, поэзии – шло по развитым, высоко дифференцированным каналам письменной культуры: через журналы, книги, энциклопедии. Реальная картина общения интеллектуала с народом оказывается весьма отличной от народнического, и впоследствии советского, образа поэта как этнографа-любителя, который черпает из копилки народного опыта. В тех достоверных случаях, когда этнографу действительно удавалось записать устные фольклорные тексты (как это удалось Николаю Рыбникову в отношении былин, Александру Афанасьеву в отношении сказок или Елпидифору Барсову в отношении причитаний), он публиковал их с соблюдением профессиональных норм и вовсе не пытался выдать за собственное литературное творчество. Но на каждую такую публикацию приходятся десятки или сотни псевдо-фольклорных текстов русской литературы. Механизм их, начиная с баллад Жуковского, сказок Пушкина, повестей Гоголя, былин Лермонтова и песен Кольцова, прямо противоположен этнографической записи. Создавая свой текст, профессиональный литератор перерабатывает другие письменные же тексты, публиковавшие (более или менее достоверно) русский или зарубежный фольклор, а затем выдает (более или менее настойчиво) свой текст за собственно фольклорный. При этом он может работать с источниками первичными или уже прошедшими многократную литературную переработку; он может относиться к ним более или менее критично; он может учитывать фрагменты подлинных фольклорных текстов, которые слышал в детстве от няни или в зрелые годы на даче; а может и вовсе не иметь такого опыта или его игнорировать. Литературный результат, понятно, зависит совсем от другого.
Когда Сергей Соловьев в Весах производил русский символизм от ‘национального мифа’[210 - С. Соловьев. Символизм и декадентство – Весы, 1909, 5, 53–56.], он формулировал ситуацию в точных и профессиональных терминах. Литература есть основная форма существования мифологии Нового времени. Действенность национального мифа, или скорее мифов, мало зависит от их исторической достоверности. И в этом смысле русская культура не уникальна. В разноязычной литературной и политической культуре последних веков национальные мифы играли непременную роль, оживая перед революциями и умирая в диктатурах. Они питали собой несметное количество больших и малых текстов, от Сервантеса до Борхеса и от Андерсена до Вагнера; и сами питались этими текстами. Будучи частью целостного культурного дискурса, национальные мифы воплощают в себе основные настроения эпохи в других формах, чем это делает элитарная культура, по своему существу более космополитическая. Русский миф об общине, питавший надежды нескольких поколений радикальных политиков, соответствовал утопиям европейских социалистов. Русские истории о скопцах соответствовали раннекапиталистическим идеям пуританизма и аскетизма. Русские истории о хлыстах соответствовали романтической идее первобытного промискуитета. Русские истории о бегунах, босяках и, наконец, Распутине соответствовали идее сверхчеловека. Русская легенда о граде Китеже, на рубеже веков породившая тексты разных жанров от оперы до памфлета[211 - Ср. оперу Римского-Корсакова Сказание о невидимом граде Китеже, травелог Пришвина В поисках невидимого града, политическую брошюру Эрна и Свенцицкого Взыскующим града, книжку Дурылина Церковь Невидимого града, трактат Сергея Булгакова Два града, замысел романа Белого Невидимый град, сюжет о затонувшем Кэр-Исе в Розе и Кресте Блока, эмигрантский журнал Новый град.], соответствовала ницшеанской идее вечного возвращения.
Подражания, стилизации, освоения низших жанров и литературные воспроизведения народной жизни часто являлись последствием искреннего стремления к расширению читательской аудитории, к демократизации литературы как социального института. Не менее часто такого рода усилия приводили к самообману, являясь следствием идеализации ‘народа’ и революционной веры в то, что низшие классы являются носителями высших ценностей. Тяга к опрощению культуры, нашедшая свою кульминацию в этическом учении Толстого, в политической практике Николая II и, наконец, в культурном строительстве большевиков, вела к саморазрушению русской цивилизации. Писатели рубежа веков играли в этом ряду свою роль. Мифологизируя народ с помощью новых эстетических техник, они шли дальше своих славянофильских и народнических предшественников, и псевдо-фольклорных текстов здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Как писала Лидия Гинзбург:
Сочетание народнических, даже народовольческих тенденций с авангардизмом, модернизмом породило в начале ХХ века новую интеллигентскую формацию, которая привела бы в ужас честных народников 1870-х годов[212 - Л. Гинзбург. Литература в поисках реальности. Ленинград: Советский писатель, 1987, 314.].
Утопическое
Первая утопия содержится в Книге Бытия, и тут же описан механизм анти-утопий. Для сюжета нужны трое: мужчина, женщина и носитель власти. Райская жизнь продолжается до тех пор, пока люди не знают пола; обретение или осознание пола ведет к изгнанию из рая. Именно человеческая сексуальность и ее производные – любовь, семья и становящаяся нужной собственность – разрушает утопический мир. В самом деле, так разрушались утопические коммуны гернгутеров, сен-симонистов, толстовцев, когда кто-то из их членов находил себе пару и отгораживал свой угол.