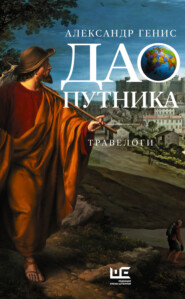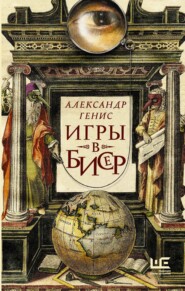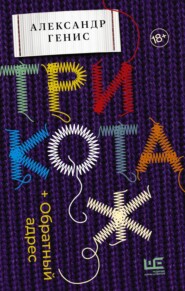По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Персоналии: среди современников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Персоналии: среди современников
Александр Александрович Генис
Генис: частные случаи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Новая книга Александра Гениса (“Камасутра книжника”, “Обратный адрес”, “Игры в бисер”) написана в авторском жанре “герой и окрестности”. Соединив искусно выполненные портреты с тонким анализом и живыми воспоминаниями, Генис создал галерею выдающихся современников, которые составляли его круг. В него входили лучшие писатели и поэты Третьей волны – Синявский, Бродский, любимые друзья автора: Довлатов, Бахчанян, Лосев, а также многие другие обитатели литературного пейзажа.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Александрович Генис
Персоналии: среди современников
Тяжело, если жизнь прожита
с одними, а оправдываться приходится
перед другими.
Катон старший
© Генис А.А.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.
Третья волна: примерка свободы
В Нью-Йорке русского любой национальности я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться – достаточно локтя или колена.
Раньше, когда мы все только что приехали, было еще проще. Только наши носили ушанки, летом – сандалии с носками. Шли набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Узнать таких – не велика хитрость.
Но это когда было! Теперь таких – испуганных, в нейлоновой шубе, с олимпийским мишкой на сумке – уже не встретишь. А я все равно узнаю своих: в любой толпе, включая нудистов, в любом мундире – полицейского, стюардессы, музейного смотрителя. Однажды приметил панка, колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же – минуты не прошло, как его мама окликнула: “Боря, я же просила”.
Атеисты думают, что дело – в теле, и в лице, конечно: низкий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я опознал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала чернокожая тетка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке: “Сметану брать будем?”
Сознаюсь, что хвастовство мое обидно – как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое – “лицом кавказской национальности”. Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно.
Примирившись с проделками шестого чувства, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная “русскость”, что, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной развалившейся империи?
Коллективное подсознание? Но я в него не верю. Юнг придумал другое название “народной душе”, изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает душу. Она неисчерпаемая, а у государства ее нет вовсе – оно же не бессмертно.
Да и кто возьмется клеить ярлыки? Солженицын отказывался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского. Но за границей всех троих объединяет происхождение. Иноземное окружение проясняет его, как проявитель – пленку.
– Масло масляное, – говорю я, сдаваясь эмпирике. Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну “русского” человека не проще, чем снежного – неуловимость та же. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс.
Безнадежно. Но и отступиться не выходит, потому что я и сам такой, и живу на перекрестке русской улицы с Америкой.
– Если не нам, то Первой волне эмиграции было проще, – думал я, пока не познакомился с ней поближе, – они верили в канон.
Эллины, жившие в сотнях враждовавших полисов, признавали своими говоривших по-гречески и молившихся олимпийским богам. Китайцами считались все, кто пользуется иероглифами. У русских, кем бы они ни были на самом деле, таким универсальным критерием служила “святая”, как ее называл Томас Манн, литература. И если евреи собрали канон во время вавилонского пленения, боясь без Библии затеряться среди чужих народов, то у русских это происходило в эмиграции.
Только на свободе, в стороне от безумной цензуры и бездарных начальников, вся написанная на русском языке словесность могла сложиться в один литературный материк без границ, где по соседству жили Бунин с Набоковым и Пастернак с Мандельштамом.
Третью волну, однако, на этот континент не брали, поэтому ей (нам) пришлось создавать свой архипелаг.
Инвалиды застоя
Я знал, зачем уехал: чтобы делать то, чего мне не позволяли дома. Для всех пишущих таким был свой вариант американской мечты.
– Таковой, – говорят старожилы, – в Америке считают собственную крышу над головой.
Наши писатели предпочитали переплет. Для тех, кто жил при тотальной цензуре, метафизическая цена книги была так высока, что свобода слова не знала конкурентов и была не средством, а конечной целью, преобразующей жизнь в праздник. И чем больше запретов выпадало на долю автора дома, тем с большим трепетом он относился к вольному книгопечатанию в гостях.
Довлатов, опубликовавший свою первую книгу аж в сорок лет, удивлялся тому, что мы с Вайлем не торопимся это сделать.
– Солженицын, – рассказывали очевидцы, – больше всех чудес Запада полюбил факс, позволявший беспрепятственно пересылать рукописи туда и обратно.
Бродский предсказывал, что русская жизнь наконец кардинально изменится, когда в стране напечатают “Котлован” Платонова.
И только парадоксалист Синявский меланхолически замечал, что “от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем”. Что не мешало ему с Марьей Васильевной держать в подвале типографию и без конца выпускать книги. Собственно, как раз таким бесперебойным печатным станком и представлялся литературной Третьей волне Запад.
Иначе и быть не могло, потому что писателей сюда привела общая, как у Дарвина, эволюция. Все они были инвалидами застоя. Выросшие на куцых свободах хрущевской оттепели, в брежневское время авторы мучительно искали щели в гипсовом монолите власти.
Война с цензурой напоминала борьбу с быками, о которой мы знаем по фрескам в дворцах Крита. Согласно ритуалу, атлету надо было схватить зверя за рога, перекувырнуться на его спине и спрыгнуть за хвостом в целости и, насколько это возможно, сохранности. Зрители (в нашем случае, читатели) следили за происходящим с сочувствием. Прыгуны не открывали им ничего особо нового, но смертельный риск придавал зрелищу нешуточный азарт.
Сама цензура при этом представлялась диким быком, слепым и глухим в своей ярости. Слава доставалась тем, кто научился с цирковой ловкостью ее обходить. Это искусство довели до совершенства лучшие авторы застоя. Одни, как Трифонов и Маканин, уходили в хитро сплетенную метафизику тусклой советской жизни. Другие, как Битов, обживали имперские окраины. Третьи обращались к истории, сочиняя свободолюбивые опусы в серии “Пламенные революционеры”. Четвертые, как Аркадий Белинков в своем шедевре “Юрий Тынянов”, занимались якобы литературоведением.
Понятно, что главным приемом такого письма служил перевод с русского языка на эзопов: говорим одно, понимаем другое, причем не совсем понятно что. Сложным взаимоотношениям между автором, читателем и цензором Лев Лосев посвятил свою диссертацию, которая помогла ему попасть в профессора очень престижного Дартмутского колледжа. Я читал ее еще в рукописи и не нашел ничего нового, потому что каждый советский читатель знал все описанное интуитивно и назубок. Но для западного читателя механика кодирования и расшифровки текста казалась столь же экзотичной, как та же критская забава с быком. Фазиль Искандер, впрочем, нашел ей другую параллель.
Так получилось, что вы должны все время находиться в одной камере с сумасшедшим. Он вообще-то буйный – и есть только один способ держать его в более или менее безопасном состоянии: это играть с ним в шахматы. Но тут есть своя тонкость. Если он проигрывает – он впадает в буйство. Но в то же время нельзя, чтоб он заметил, что вы ему поддаетесь, – от этого он тоже впадает в буйство. И вы все время должны балансировать на этой тонкой грани. И вот наступает момент вашего освобождения. Вы выходите из камеры… Теперь скажите: нужен кому-нибудь ваш опыт игры в шахматы с сумасшедшим?
Ответ на этот вопрос отечественная литература получила, когда стала зарубежной. До этого, однако, она должна была пройти еще два этапа. Первый – самиздат, оказаться автором которого была большая честь, связанная с еще бо?льшей опасностью для всех причастных. Что не останавливало самиздатских героев – я лично знаю и безмерно уважаю даму, которая 200 (двести!) раз перепечатала на машинке “Собачье сердце”.
Следующий этап назывался “тамиздатом”. Мне не забыть, с каким сладким ужасом я в первый раз держал в руках изданную за границей книгу – “Лолиту”. Вместе с Солженицыным ее привезли в Ригу знакомые воздушные акробаты. Они кувыркались под куполом цирка, пока по манежу бродили голодные тигры (из украденного у них мяса артисты варили суп, чтобы не тратить валюту на еду). В клетки с хищниками не решались заглядывать даже советские таможенники, что позволяло циркачам провозить на родину бесцензурные издания – от “Плейбоя” до Набокова.
Впрочем, и тамиздат был промежуточной остановкой. Вслед за напечатанными на Западе книгами туда же отправлялись их авторы, чтобы создавать литературу Третьей волны: сперва в борьбе с цензурой, а потом без оглядки на нее.
Александр Исаевич
В Третьей волне я был самым молодым литератором и потому сперва чаще всего бегал за водкой, а потом писал на друзей и кумиров некрологи. В двадцать пять, конечно, я о втором не думал. Моя литература только начиналась, и мне посчастливилось видеть вблизи ее авторов – всех, кроме Солженицына.
Александр Исаевич напоминал анонимного отца из романа Стругацких “Обитаемый остров”. Точно известно, что он был с нами в Америке, но это была другая Америка, куда просто так не пускали. Единственным близким мне человеком, который мог изнутри судить об “осени патриарха” и устройстве его жизни, был Борис Парамонов. Приглашенный в поместье, чтобы написать честную историю русской философии, он многим позже делился со мной подробностями. И про отдельный коттедж для творчества с четырьмя письменными столами. И про аскетическую диету, состоящую в основном из гречневой каши без соли. И про теннисный корт, по которому классик бегал в шортах, что смущало всех видевших его фотографию с голыми коленями. И про сыновей, которым отец с недюжинным педагогическим талантом давал уроки астрономии под чистым вермонтским небом.
Ходили слухи, что те же дети дополняли свое образование, читая тайком в туалете роман “Это я, Эдичка”. Лимонов гордился этим, а я не вижу ничего странного, потому что уж эту книгу в эмиграции читали все. Кроме, разумеется, Солженицына.
Александр Исаевич в принципе не признавал ни нашу волну, ни ее словесность. С его точки зрения, мы бежали, бросив родину на произвол судьбы и кремлевских старцев. Измену он прощал только евреям, отправившимся не в Америку, а в Израиль. Как убежденный националист, Солженицын признавал право евреев покинуть “чрево мачехи”, как называл Веничка Ерофеев Россию, ради возвращения в ближневосточное отечество. Он даже подписывался на русскоязычный израильский журнал “22”. Мне он тоже нравился, я там часто печатался и дружил с издававшей его четой Воронелей.
Александр Александрович Генис
Генис: частные случаи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГЕНИСОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГЕНИСА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Новая книга Александра Гениса (“Камасутра книжника”, “Обратный адрес”, “Игры в бисер”) написана в авторском жанре “герой и окрестности”. Соединив искусно выполненные портреты с тонким анализом и живыми воспоминаниями, Генис создал галерею выдающихся современников, которые составляли его круг. В него входили лучшие писатели и поэты Третьей волны – Синявский, Бродский, любимые друзья автора: Довлатов, Бахчанян, Лосев, а также многие другие обитатели литературного пейзажа.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Александрович Генис
Персоналии: среди современников
Тяжело, если жизнь прожита
с одними, а оправдываться приходится
перед другими.
Катон старший
© Генис А.А.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.
Третья волна: примерка свободы
В Нью-Йорке русского любой национальности я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться – достаточно локтя или колена.
Раньше, когда мы все только что приехали, было еще проще. Только наши носили ушанки, летом – сандалии с носками. Шли набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Узнать таких – не велика хитрость.
Но это когда было! Теперь таких – испуганных, в нейлоновой шубе, с олимпийским мишкой на сумке – уже не встретишь. А я все равно узнаю своих: в любой толпе, включая нудистов, в любом мундире – полицейского, стюардессы, музейного смотрителя. Однажды приметил панка, колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же – минуты не прошло, как его мама окликнула: “Боря, я же просила”.
Атеисты думают, что дело – в теле, и в лице, конечно: низкий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я опознал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала чернокожая тетка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке: “Сметану брать будем?”
Сознаюсь, что хвастовство мое обидно – как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое – “лицом кавказской национальности”. Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно.
Примирившись с проделками шестого чувства, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная “русскость”, что, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной развалившейся империи?
Коллективное подсознание? Но я в него не верю. Юнг придумал другое название “народной душе”, изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает душу. Она неисчерпаемая, а у государства ее нет вовсе – оно же не бессмертно.
Да и кто возьмется клеить ярлыки? Солженицын отказывался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского. Но за границей всех троих объединяет происхождение. Иноземное окружение проясняет его, как проявитель – пленку.
– Масло масляное, – говорю я, сдаваясь эмпирике. Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну “русского” человека не проще, чем снежного – неуловимость та же. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс.
Безнадежно. Но и отступиться не выходит, потому что я и сам такой, и живу на перекрестке русской улицы с Америкой.
– Если не нам, то Первой волне эмиграции было проще, – думал я, пока не познакомился с ней поближе, – они верили в канон.
Эллины, жившие в сотнях враждовавших полисов, признавали своими говоривших по-гречески и молившихся олимпийским богам. Китайцами считались все, кто пользуется иероглифами. У русских, кем бы они ни были на самом деле, таким универсальным критерием служила “святая”, как ее называл Томас Манн, литература. И если евреи собрали канон во время вавилонского пленения, боясь без Библии затеряться среди чужих народов, то у русских это происходило в эмиграции.
Только на свободе, в стороне от безумной цензуры и бездарных начальников, вся написанная на русском языке словесность могла сложиться в один литературный материк без границ, где по соседству жили Бунин с Набоковым и Пастернак с Мандельштамом.
Третью волну, однако, на этот континент не брали, поэтому ей (нам) пришлось создавать свой архипелаг.
Инвалиды застоя
Я знал, зачем уехал: чтобы делать то, чего мне не позволяли дома. Для всех пишущих таким был свой вариант американской мечты.
– Таковой, – говорят старожилы, – в Америке считают собственную крышу над головой.
Наши писатели предпочитали переплет. Для тех, кто жил при тотальной цензуре, метафизическая цена книги была так высока, что свобода слова не знала конкурентов и была не средством, а конечной целью, преобразующей жизнь в праздник. И чем больше запретов выпадало на долю автора дома, тем с большим трепетом он относился к вольному книгопечатанию в гостях.
Довлатов, опубликовавший свою первую книгу аж в сорок лет, удивлялся тому, что мы с Вайлем не торопимся это сделать.
– Солженицын, – рассказывали очевидцы, – больше всех чудес Запада полюбил факс, позволявший беспрепятственно пересылать рукописи туда и обратно.
Бродский предсказывал, что русская жизнь наконец кардинально изменится, когда в стране напечатают “Котлован” Платонова.
И только парадоксалист Синявский меланхолически замечал, что “от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем”. Что не мешало ему с Марьей Васильевной держать в подвале типографию и без конца выпускать книги. Собственно, как раз таким бесперебойным печатным станком и представлялся литературной Третьей волне Запад.
Иначе и быть не могло, потому что писателей сюда привела общая, как у Дарвина, эволюция. Все они были инвалидами застоя. Выросшие на куцых свободах хрущевской оттепели, в брежневское время авторы мучительно искали щели в гипсовом монолите власти.
Война с цензурой напоминала борьбу с быками, о которой мы знаем по фрескам в дворцах Крита. Согласно ритуалу, атлету надо было схватить зверя за рога, перекувырнуться на его спине и спрыгнуть за хвостом в целости и, насколько это возможно, сохранности. Зрители (в нашем случае, читатели) следили за происходящим с сочувствием. Прыгуны не открывали им ничего особо нового, но смертельный риск придавал зрелищу нешуточный азарт.
Сама цензура при этом представлялась диким быком, слепым и глухим в своей ярости. Слава доставалась тем, кто научился с цирковой ловкостью ее обходить. Это искусство довели до совершенства лучшие авторы застоя. Одни, как Трифонов и Маканин, уходили в хитро сплетенную метафизику тусклой советской жизни. Другие, как Битов, обживали имперские окраины. Третьи обращались к истории, сочиняя свободолюбивые опусы в серии “Пламенные революционеры”. Четвертые, как Аркадий Белинков в своем шедевре “Юрий Тынянов”, занимались якобы литературоведением.
Понятно, что главным приемом такого письма служил перевод с русского языка на эзопов: говорим одно, понимаем другое, причем не совсем понятно что. Сложным взаимоотношениям между автором, читателем и цензором Лев Лосев посвятил свою диссертацию, которая помогла ему попасть в профессора очень престижного Дартмутского колледжа. Я читал ее еще в рукописи и не нашел ничего нового, потому что каждый советский читатель знал все описанное интуитивно и назубок. Но для западного читателя механика кодирования и расшифровки текста казалась столь же экзотичной, как та же критская забава с быком. Фазиль Искандер, впрочем, нашел ей другую параллель.
Так получилось, что вы должны все время находиться в одной камере с сумасшедшим. Он вообще-то буйный – и есть только один способ держать его в более или менее безопасном состоянии: это играть с ним в шахматы. Но тут есть своя тонкость. Если он проигрывает – он впадает в буйство. Но в то же время нельзя, чтоб он заметил, что вы ему поддаетесь, – от этого он тоже впадает в буйство. И вы все время должны балансировать на этой тонкой грани. И вот наступает момент вашего освобождения. Вы выходите из камеры… Теперь скажите: нужен кому-нибудь ваш опыт игры в шахматы с сумасшедшим?
Ответ на этот вопрос отечественная литература получила, когда стала зарубежной. До этого, однако, она должна была пройти еще два этапа. Первый – самиздат, оказаться автором которого была большая честь, связанная с еще бо?льшей опасностью для всех причастных. Что не останавливало самиздатских героев – я лично знаю и безмерно уважаю даму, которая 200 (двести!) раз перепечатала на машинке “Собачье сердце”.
Следующий этап назывался “тамиздатом”. Мне не забыть, с каким сладким ужасом я в первый раз держал в руках изданную за границей книгу – “Лолиту”. Вместе с Солженицыным ее привезли в Ригу знакомые воздушные акробаты. Они кувыркались под куполом цирка, пока по манежу бродили голодные тигры (из украденного у них мяса артисты варили суп, чтобы не тратить валюту на еду). В клетки с хищниками не решались заглядывать даже советские таможенники, что позволяло циркачам провозить на родину бесцензурные издания – от “Плейбоя” до Набокова.
Впрочем, и тамиздат был промежуточной остановкой. Вслед за напечатанными на Западе книгами туда же отправлялись их авторы, чтобы создавать литературу Третьей волны: сперва в борьбе с цензурой, а потом без оглядки на нее.
Александр Исаевич
В Третьей волне я был самым молодым литератором и потому сперва чаще всего бегал за водкой, а потом писал на друзей и кумиров некрологи. В двадцать пять, конечно, я о втором не думал. Моя литература только начиналась, и мне посчастливилось видеть вблизи ее авторов – всех, кроме Солженицына.
Александр Исаевич напоминал анонимного отца из романа Стругацких “Обитаемый остров”. Точно известно, что он был с нами в Америке, но это была другая Америка, куда просто так не пускали. Единственным близким мне человеком, который мог изнутри судить об “осени патриарха” и устройстве его жизни, был Борис Парамонов. Приглашенный в поместье, чтобы написать честную историю русской философии, он многим позже делился со мной подробностями. И про отдельный коттедж для творчества с четырьмя письменными столами. И про аскетическую диету, состоящую в основном из гречневой каши без соли. И про теннисный корт, по которому классик бегал в шортах, что смущало всех видевших его фотографию с голыми коленями. И про сыновей, которым отец с недюжинным педагогическим талантом давал уроки астрономии под чистым вермонтским небом.
Ходили слухи, что те же дети дополняли свое образование, читая тайком в туалете роман “Это я, Эдичка”. Лимонов гордился этим, а я не вижу ничего странного, потому что уж эту книгу в эмиграции читали все. Кроме, разумеется, Солженицына.
Александр Исаевич в принципе не признавал ни нашу волну, ни ее словесность. С его точки зрения, мы бежали, бросив родину на произвол судьбы и кремлевских старцев. Измену он прощал только евреям, отправившимся не в Америку, а в Израиль. Как убежденный националист, Солженицын признавал право евреев покинуть “чрево мачехи”, как называл Веничка Ерофеев Россию, ради возвращения в ближневосточное отечество. Он даже подписывался на русскоязычный израильский журнал “22”. Мне он тоже нравился, я там часто печатался и дружил с издававшей его четой Воронелей.