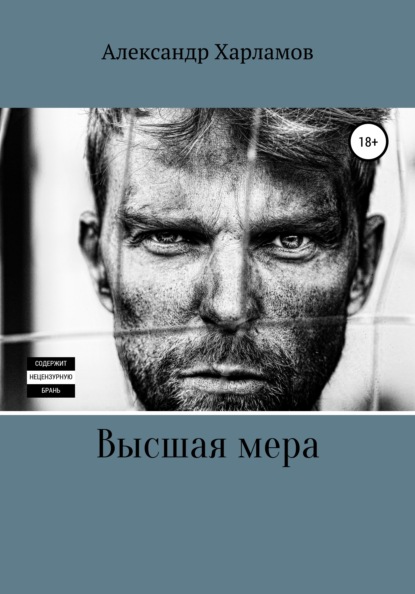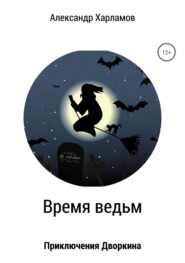По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Высшая мера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бей!
Он молча развернулся и побрел к выходу. Его плечи как-то уж слишком обреченно обвисли. В мгновение ока он постарел на много десятков лет вперед. Вале даже стало его жаль.
– Что же ты?!– прокричала она ему в след, но входная дверь тихонько скрипнула закрываясь, не в силах объяснить самой себе почему, женщина разрыдалась. Муж просто ушел, так и не закатив скандала…
ГЛАВА 16
Когда я вернулся назад, весь осмотр уже прошел. Зэков загнали в один барак, в котором мгновенно стало душно от большого количества немытых, грязных вонючих тел, заполнивших маленькое помещение. Вся наша хибара представляла собой длинное узкое, словно пенал, сбитое из неоструганных, необработанных досок строение. Сквозь широкие щели в стенах падал свет от прожекторов на вышках. В противоположном конце барака виднелось зарешеченное маленькое окошко, над которым покачивалась в такт сквозняку керосиновая лампа. По обеим сторонам высились нары, сколоченные кое-как, в три яруса, на каждом из которых грелись испуганные люди, кутаясь в свои потертые обмотки. Лишь возле окошка подручные Кислова, откуда-то взяв тюк сена, расположились более или менее комфортно. Я осмотрелся в поисках Качинского с отцом Григорием, поймав на себе напряженный взгляд ворья, которое лишившись своего главаря, все же не решилось на обострение конфликта, проводили меня, сверля глазами, но промолчали, многозначительно кивая.
Товарищи по несчастью заняли место в середине. С удивлением и благодарностью я заметил, что нары для меня они тоже забронировали в соответствии с возрастом. Отец Григорий расположился внизу, Качинский на второй полке, а мне достался третий ярус. Я молча проследовал к ним, напряженно о чем-то беседующим.
– А я говорю, что ушел он красиво…Разом отмучился…– спорил Лев Данилыч, разгоряченно размахивая руками.– Тебе завтра еще лес валить, да деревья таскать. А ему уже ничего и не надо…Закопали и забыли.
– Грех это, Лёва…– качал головой батюшка, пытаясь сильнее закутаться в телогрейку.– А если бы он врачиху эту порешил? Ведь была в его глазах какая-то обречённость? Или Ковригин, упаси Господь, промахнулся? Что тогда?
– О чем речь?– присел я рядом с ними, только сейчас чувствуя, что несмотря на внешнюю духоту по ногам ощутимо тянет холодом.
– О, Саша…– обрадовался отце Григорий, расправляя свою шикарную бороду.– А мы думаем куда ты пропал? Уже тревожиться начали…
– В основном отец Григорий!– едко усмехнулся Качинский.
– Головко вызывал,– коротко пояснил я, не желая распространяться про вербовку.
– Стучать склонял?– понятливо кивнул бывший белый офицер.
– Вроде того!– отмахнулся я.– А у вас какие новости?
– Медосмотр прошли…
– Не то слово!– хмыкнул Лев Данилыч, поглаживая худой живот, выглядывающий из-под потертой телогрейки.– Отобедать бы сейчас…Косулю в трюфелях, да вина для согрева…Годика этак восемьсот какого-нибудь.
– Эка, тебя понесла нечистая! Хотя от кагорчика я бы тоже не отказался.
– Стоп!– остановил я их вялую перебранку.– И что было на медосмотре?
– Один из Фединых парней доктора захватил,– начал рассказывать Качинский, устраиваясь поудобнее на жестких нарах, на которых как не повернись, а сук все равно упирался тебе куда-то в бок,– грозился шею сломать, если с лагеря его не выпустят живым и здоровым…
– И что?
– Голову Ковригин ему прострелил. Отличный выстрел!– похвалил Качинский.– Метров с пяти прямо между глаз, аккуратненько так…Это я тебе. Как бывший офицер говорю.
– Дела…
– Ах, какая же там доктор…Помню в Юго-Западной Пруссии у нас тоже такая была сестра милосердия. Любо-дорого глянуть!
– Грех это…– заканючил свое отец Григорий.
– Какой же грех, батюшка?– возмутился Качинский, улыбаясь. Любил он подтрунивать над своим старшим товарищем.– Коли природой так заложено у нас? Не хотел бы, Господь, чтобы мы размножались, сделал бы нас бесполыми. Ан, нет…
– Грех все ж…
Слушать дальше их перебранку я не стал. Усталость от сегодняшнего тяжелого дня взяла свое.Я подтянулся на руках и кое-как взобрался на третий ярус, почти под крышу. Откуда весь барак был виден, как на ладони. Испуганные, уставшие безмерно люди медленно засыпали. Все тише становились разговоры, все сильнее холодало. На скрипучей проволоке керосиновую лампу швыряло из стороны в сторону под порывами ветра. Именно под ее надрывный скрип я уснул, наплевав на боль в бока от неоструганных брусьев.
Всю ночь мне снилась Валентина…Вдвоем мы с ней гуляли по парку Горького. Наблюдая, как малышня резвится на качелях и аттракционах. Вокруг слышался детский смех, царило веселье и оживление. Валечка тоже была в приподнятом настроении. Она шутила, смеялась, держа меня крепко за руку, без умолку болтала, изредка зарываясь лицом в букет, подаренных мною ромашек. Сон был добрый, приятный, и оттого пробуждение от резкого окрика дежурного оказалось почти шоковым.
– А ну-ка подъем, скотина безмозглая!– заорал он, остановившись на пороге барака, уперев руки в бока, грозным взглядом осматривая всех нас. Позади него клубился холодный морозный пар. За ночь ударил мороз, температура опустилась почти до двадцати ниже нуля, и в бараке ощутимо похолодало. – Подъем, я сказал! Вас наше Отечество, Родина ваша, твари тупоголовые, не расстреляла за проступки ваши только для того, чтобы вы ей пользу приносили, обезьяны африканские, а не дрыхли, как бояре, до обеда!
С трудом я продрал глаза, ощущая, что сильно за ночь продрог. Тело немного колотило ледяная дрожь, заставляя кутаться в щупленькую телогрейку почти по шею. Ниже меня заворочался Лев Данилыч, отец Григорий уже занял свое место внизу, тер заспанные глаза, привыкший за срок в СИЗО к таким экстремальным побудкам. Помятая борода торчала в разные стороны.
Я осмотрелся. Барак медленно просыпался, что, безусловно, нервировало нового конвойного. Его я видел первый раз, крепко сложенный, нагловатого вида, с лихо сдвинутой шапкой-ушанкой почти на затылок. Он хамовато окинул нас взглядом, сонных, замерзших, заспанных, а потом неожиданно для всех достал пистолет и сделал выстрел в потолок. Потянуло пороховой гарью.
– Встать, твари!
Это подействовало. Люди зашевелились. Забегали, располагаясь у своих нар в нестройную шеренгу. Дождавшись порядка, конвойный удовлетворенно хмыкнул.
– Зовут меня гражданин начальник, в обычной жизни Василий Васильевич Щеголев! С сегодняшнего дня и до конца вашего пребывания в нашем гостеприимном ТемЛаге я буду вашей мамкой и вашим папкой!– он шагнул вперед, критически осматривая строй.– работники из вас, конечно, никакие, но дельный материал иногда попадается…– он остановился напротив меня и осмотрел с головы до ног. Кивнул довольно и прошел дальше.– Все ваши домашние привычки оставьте дома! Тут вам не воля, тут лагерь! И лагерь живет по своим законам. Здесь не важен ваш статус, ваши былые заслуги, ваши регалии, тут вы – никто! Даже не животные! Бесправная скотина, которую я хочу убью, хочу помилую…Ясно?– остановился он напротив подручных Кислова в воровском уголке.
– Базара ноль, гражданин начальник,– сверкнул золотыми фиксами один из них.
– Вот и славненько!– улыбнулся Щеголев.– Думаю, что со вступительной частью мы закончили на сегодня.– Пора и честь знать! Родина доверила вам очень важное дело…Стране нужна древесина, на тетрадки, книжки всякие, дома и школы строить! А значит что? Нам выпал наряд на заготовку леса. Кто-нибудь раньше валил лес?
Строй молчал, напряженно переглядываясь между собой. От Щеголева будто бы веяло какой-то подлостью. Я с интересом отметил для себя, что в расширенных от полумрака карих зрачках плескается некая мутная водица, отдающая сумасшествием. От этого стало жутковато, и я передернул плечами, готовясь к самому худшему. Нет ничего хуже, чем идиот, которому дали власть в руки, а, судя по словам, гражданина начальника, у него этой власти в данный момент над нами было хоть отбавляй.
– Научитесь, дело нехитрое…– подмигнул он отцу Григорию, потрепав того за плечо.– И такие здоровые бугаи прячутся от честного труда по церквям, да храмам! Правильно говорил Владимир Ильич, религия – это опиум для народа. Ты знаешь, тварь, кто такой Владимир Ильич?
Священник кивнул, поморщившись. От Щеголева отчетливо несло свежим перегаром, который почувствовал даже я, стоявший чуть поодаль.
– А ну, двинулись искуплять, скотина безмозглая, грехи ваши!– сорвался он на визг, пнув ногой подвернувшегося ему под ногами молодого паренька, занявшего место на нарах левее нас.– Двинулись, двинулись, пока стрелять не начал…
Строй уныло зашевелился, будто один целый неповоротливый организм, ломая и без того нестройную шеренгу. Двинулись вперед…Кто-то с тяжелым вздохом, кто-то с недовольным шепотком. Интересна все же наша исправительная система. Вместо того, чтобы учить добру, понимать и ценить прекрасное, она до конца доламывает и без того разбитую вдребезги психику преступников своим скотским отношением к личности, собственному мнению и самовыражению. Много кого выйдет и этих застенков на волю? Вряд ли…Но те кто выберется отсюда, наплевав на все тяготы и лишения, сцепив зубы дотерпит до конца желанной “десятки”, те уже никогда не смогут быть такими, какими были раньше! В каждом встречном им будет чудится враг, в каждом прохожем вот такой Щеголев, только и мечтающий лишь о том, чтобы избавиться от нетрудоспособного балласта.
Под ногами захрустел покрытой тонким слоем наста слежавшийся снег. Ноги, и без того околевшие за ночь в ледяном бараке, мгновенно ощутили этот цепкий холодок, скользнувший по подошве.
– Ничего! Согреетесь, твари!– хмыкнул Щеголев, заметив мое недовольство.
Стараясь не смотреть в его сторону, еле сдерживаясь, чтобы не смолчать, я стал осматриваться по сторонам. Лагерь понемногу оживал. Из длинных бараков спешили на работу, такие же как и мы бедолаги, только еще более похудевшие, очерствевшие не только обветренным суровыми мордовскими ветрами лицом, но и душой. Каждый, из встреченных мною взглядов, нес в себе острую подозрительность, открытую ненависть и готовность ко всему. Эта серая, унылая обреченность, скользящая у всех в глазах, больше всего поразила меня. Сосущая до боли в груди серость, будто поглощала тебя, засасывала внутрь, заставляя сердце уныло тянуть где-то с левого бока.
– Интересно, а далеко нам маршировать, господа?– огляделся по сторонам Качинский, когда ворота лагеря оказались далеко позади. На входе к нам пристроились четверо автоматчиков из числа срочников. Один держал на поводу огромную кавказкую овчарку, непрерывно зыркающую на нас своим внимательным карим взглядом.
– А Бог его знает…– вздохнул отец Григорий, внимательно посматривая себе под ноги, боясь каждый раз подскользнуться на скользкой тропинке, натоптанной множеством ног.
– Разговорчики в строю!– рявкнул Щеголев, который, будто опытный сторожевой пес, скользил вдоль строя, оказываясь то с одной, то с другой стороны от него, прислушиваясь к негромким разговором и сбитому дыханию заключенных.– А ты, “контрик” – обратился он к Качинскому, сжав до бела узкие тонкие губы,– ну-ка, обратись к своему товарищу, как положено! Как в нашем социалистическом государстве определено! Ну-ка! Нет у нас господ и бояр больше! Нет! У нас все товарищи…Говори, сволочь!– он мгновенно подбежал к Льву Данилычу и выдернул его из строя, своей огромной пятерней ухватив за отворот телогрейки. И без того дышащая на ладан ткань с треском порвалась, оставив целый клок в лапах Щеголева.– Говори, тварь! Я таких как ты в восемнадцатом на фронте…Я из вас фарш…Говори, сука!
В этот момент я даже позавидовал спокойствию Качинского. Ни один мускул не дрогнул на лице офицера после такого обращения, ни одна мышца не пришла в движение, чтобы дать сдачи. Вместо этого он оправил фуфайку и невозмутимо поинтересовался:
– Нас, это таких же как мы, бесправных зэков, которые вам и ответить толком не могут, гражданин начальник? Их вы в фарш уделывали? Или это было, когда фронт немцам сдали, свалив по домам под жинкин бочок?
– Да я тебя…– лицо Щеголева перекосило. Он дрожащей рукой достал пистолет из кобуры, путаясь в застежках.– Я тебя “контру”…