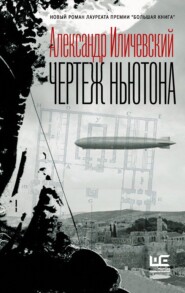По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Точка росы. Повести и рассказы
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У самаритян
Вся точёная, изящная, как маленький цветок, говорит властно:
– Хочешь, я покажу тебе тайное место?
И ведёт меня на вертолётную площадку.
Госпиталь, в котором мы с ней тогда работали, находился в Иудейских горах. С вертолётной площадки открылся вид на лесистые ярусы склонов, на провал, заросший снопами жёлтого дрока и инжирными деревьями, оставшимися от садов когда-то процветавших здесь деревень.
Под обрывом оказался небольшой выступ, мы спустились на него и там схоронились от посторонних глаз, как дети под столом во время праздника.
В ущелье опускалось солнце.
Она закрыла глаза, и её смуглая кожа озарилась бронзовыми лучами.
В другой раз говорит:
– Поехали завтра посмотрим, как самаритяне празднуют Пасху.
Сказано – сделано, и нас, заплутавших, чуть не занесло по дороге в Наблус.
– Тебе хорошо, – сказала она. – Тебе ничего не сделают. Скажешь: турист. А меня сожрут.
– Я тебя спасу.
– Правда?
Но на окраинах Наблуса с нами ничего не произошло, мы сориентировались, явились к самаритянам.
У подножья изумрудной горы, на вершине которой просматривались руины древнего храма, теснился посёлок. Уже в сумерках мы поднялись к нему вместе с растянувшейся толпой туристов, решивших поглазеть на древний ритуал. Свечки цветущего морского лука призрачно белели по обочинам.
Место празднества было огорожено, самаритяне бесцеремонно просеивали на входе публику и пускали только местных. Я вспомнил, как мальчишкой в Подмосковье ходил с пацанами смотреть на взрослые танцы: та же ограда, та же круговерть вплотную к решётке.
Со всех сторон к капищу сгоняли овец. Подъезжали и парковались новенькие «мерсы», «бэхи», из которых выходили нарядные женщины и в сопровождении детей цокали по тротуарам на каблуках, втягивались в особую толпу, отделённую от места, где пылал огонь. Мужчины давно уже были на месте.
Действом деловито руководили старцы в фесках и белых одеждах. Похожие на магрибских колдунов из «Тысячи и одной ночи», размахивая своими посохами, они со знанием дела ловко кормили дровами алтарные костры в огромных ямах, точили особые длинные ножи и совершали множество иных приготовлений. Некоторые из священников держали в руках книги и что-то, раскачиваясь, читали.
Подле костров, в отсветах пламени, клубились блеющие овцы.
В какой-то момент она прошептала:
– Смотри внимательно.
Я и так смотрел во все глаза. До последнего я не верил в то, что должно было произойти. Костры в ямах извергали столбы искр, затмевавших звёзды.
Толпа любопытствующих лепилась к ограждению, пытаясь уловить смысл ритуала.
Пылающая тьма блеяла, мычала, бормотала.
Затворы на фотоаппаратах стрекотали.
Как вдруг что-то пролетело по толпе, рванулось и замерло.
Разом всё стихло.
Погасли мгновенно костры.
Тишина накрыла площадку, посёлок, гору, небо.
Они убили их всех разом, по мановению незримого дирижёра.
Молчала смерть многих агнцев.
И когда закладывали освежёванные туши на огромных блюдах в угли, когда быстро-быстро остававшимся жаром с краёв засыпали ямы, глубокие, как могилы, она прижалась ко мне вся и прошептала:
– Это не мой Бог.
2017
Двенадцатое апреля
Со временем я заметил, что если в мире рождается человек с лицом кого-нибудь из великих людей прошлого, то он обречён на слабоумие. Происходит это, вероятно, оттого, что природа в таких чертах лица исчерпала свои возможности – и отныне долгое время они будут отданы пустоцветам.
Один из примеров здесь – Германн и Чичиков. Сходство профиля с наполеоновским поместило первого в 17-й нумер Обуховской больницы, а второго – сначала в объятия отца Митрофана, а затем в кресло перед камином, в котором он и сгинул, поморгав огненной трёхглавой птицей, покатив, помахав страницами-крылами.
Но есть ещё и другой пример, более значимый.
Лицо Юрия Гагарина – очень русское, распространённое в народной среде. С конца 1970-х, ещё мальчиком, я стал встречать в электричках и на вокзалах – а куда податься неприкаянному, как не в путь? – сумасшедших людей, смертельно похожих на Гагарина. Лица их были совсем не одухотворены, как у прототипа, а одутловаты, взвинченны и углублённы одновременно. Их мимика, сродни набухшему пасмурному небу, поглотившему свет взгляда, жила словно бы отдельно от выражения, мучительно его содрогая, выводя из себя…
Вообще, не бессмыслен бытующий в народе слух, что Гагарин жив, что его упрятали с глаз долой, поменяв ему лицо, поселив в горе на Урале. Или – что его на небо взяли живым. Как Еноха. Как бы там ни было, в русских деревнях фотографию Гагарина можно встретить чаще, чем икону. Фотографию, на которой в милом круглом лице запечатлён первый очеловеченный взгляд на нашу планету.
День космонавтики, Сан-Франциско, много лет назад, Van Ness Avenue, Round Table Pizza, я в гостях у управляющего этим заведением – Хала Кортеса, он провожает последних посетителей, запирает за ними – и накрывает на стол.
Из бочки он цедит три кувшина пива, вытаскивает из печки Italian Garlic Supreme, врубает Jefferson Airplane – и спешит открыть стеклянную дверь: две ирландки – тёмненькая голубоглазая и рыжая – присаживаются к нам за стол, и я с удовольствием вслушиваюсь в их шепеляво-картавый говор.
И вот пиво выпито, кувшины наполнены вновь, и Хал мастерит курево – не мнёт, а просто вставляет в опорожнённую мной беломорину крупное соцветие.
Пальцы его дрожат, с соцветия сыплется дымок пыльцы.
Я настораживаюсь, вспомнив слово «сенсимилья».
И вдруг говорю, что прежде надо выпить за Гагарина.
Да, брюнетка хочет выпить за Гагарина.
Jefferson вещает о Белом Кролике.
За стеклянной стеной течёт Van Ness.
Другие электронные книги автора Александр Викторович Иличевский
Другие аудиокниги автора Александр Викторович Иличевский
Исландия




 0
0