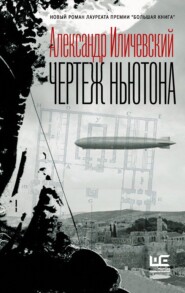По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Точка росы. Повести и рассказы
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Утром, широко раскрыв глаза, она в ужасе разглядывала мой закуток, пока я на спиртовке варил кофе.
Накануне я узнал, что она окончила иняз, читала свободно Маркеса, зарабатывала синхронным переводом и планировала с торговым атташе Серёжей перебраться в Аргентину. Она ещё раз оглядела моё бедное жилище, посмотрела себе на руку и тихо, с ненавистью произнесла:
– Где часы?
– Какие часы?
– Ночью я сняла часы и положила их в темноте куда-то.
В комнате из мебели имелись только этажерка и кресло, в которое я брезговал садиться.
Часы нашлись на этажерке.
– А я думала, с ворьём связалась.
– Фамильные? – спросил я.
– Фамильные. Зинаиду Райх знаешь?
2019
Alabama Song
Дело было в Алабаме, куда я свалился с небес, как кузнечик, прибыв по воздуху самым дешёвым способом – с десятком пересадок.
Самолёт напоминал маршрутку: он взлетал, и садился, и снова взлетал. Одни пассажиры выходили, другие заходили, менялись пилоты и стюардессы, земля разбегалась под крылом, уходила из-под ног и в какой-то момент опрокидывалась лицом и превращалась в карту. Над всей страной стояла безоблачная погода, и это было большой удачей, позволившей рассмотреть последовательно столько ландшафтов, столько пустынь и гор.
Под конец в самолёте я остался один из всех живых существ, начинавших со мной воздушное путешествие. В Бирмингеме меня встречал институтский приятель, у которого я собирался погостить, после того как подзаработал деньжат на доставке пиццы в Сан-Франциско.
Гахов был рослым, бородатым, уже слегка седым. В двадцать два года проседь элегантно делала его старше. Совсем недавно он уехал впопыхах из России куда глаза глядят. Точнее, куда брали студентов с отличными результатами GRE, но пропустивших все дедлайны. Так он наобум оказался в Алабаме, удивительном месте, настолько не похожем на Калифорнию и на США вообще.
Я бы сравнил разницу между Сан-Франциско и заболоченной Таскалусой, поросшей чёрными дубами и деревьями гикори, огромными, как воздушные города, с разницей между Москвой и Ташкентом. Но это, конечно, смехотворное сравнение.
За всё время в Алабаме я так и не научился понимать, сколько я должен на заправке, настолько английский язык, перемолотый неразжимающимися челюстями, отличался здесь интонационно и фонетически. И только в Алабаме мне приходилось видеть в супермаркетах нарядную старушку в кресле-каталке, управляемой горничной – чёрной чопорной женщиной, одетой в шерстяной тёмно-синий костюм с белоснежными кружевными манжетами и воротничком. Только в Алабаме чёрный юноша, убирающий от опавших листьев лужайку перед крыльцом, кланялся мне и интересовался, не может ли быть чем-нибудь полезен.
Гахов, в самом деле, был отчасти похож на Тургенева – благодаря своей скуластой аристократичности и шапке прямых волос над крупными точными чертами лица. К моменту моего прибытия он ещё не обзавёлся автомобилем и прикатил за мной в аэропорт в сопровождении соученика на каком-то видавшем ещё Элвиса катафалке. По дороге из аэропорта было решено – я одалживаю Гахову на автомобиль две тысячи, все свои сбережения, а он вписывает меня в свой картонный домик на краю кампуса и обязуется делиться пропитанием.
В тот же вечер мы, изучив объявления в рекламном листке, отправились покупать «Тойоту-Короллу» на другой конец города. Это стало приключением, потому что по обочинам в тех краях ходило только самое отребье, то есть никто. Нам сигналили и что-то кричали из проносящихся автомобилей, а мы шли и шли, спускались в овраги, поднимались на холмы, пересекали по мосткам болотные низины и не унывали, поскольку за студенческие годы привыкли к пешеходным скитаниям.
За нашими плечами имелись баснословные пешие маршруты: например, Воробьёвы горы – Долгопрудный или Новодачная – Шереметьево, где мы в ночи считали за праздник попасть в столовую таможенников на четвёртом этаже аэропорта и потом сидеть в ней над преферансом, посматривая на мигающие за панорамным окном самолёты, которые со временем должны были отправить нас в желанное, как невеста, будущее.
И вот мы с Гаховым, оказавшись в этом будущем, явились по адресу и постучали в дверь одноэтажной Америки. Через минуту, открыв широко глаза, на нас смотрел прожжённый продавец подержанных машин, решивший, как водится, торгануть с площадки по объявлению старушкой-«короллой», чей пробег был равен десяти оборотам вокруг планеты по экватору.
Люди данной профессии (я уже усвоил к тому времени это нехитрое, но важное знание) не обладают ни страхом, ни упрёком. У них часто потные подмышки на застиранной белой рубашке и белёсые бегающие зрачки. Сжав в кулаке полный стакан вискаря, поджарый хмурый дядька, который был удивлён нашим ответом на вопрос, откуда мы такие припёрлись пешкодралом, да ещё и русские, протянул нам ключ от «тойоты». Ещё больше он удивился тому, что мы машину не угнали, и, забирая ключ, осушил ополовиненный за это время стакан.
Машину мы Гахову купили только через пару дней, и это была прекрасная «Ниссан-Сентра», на которой мы немедленно отправились в Новый Орлеан, где отпраздновали в джазовых барах мой день рождения, как всегда выпавший на День благодарения, снаряжённый горами индюшачьих прелестей. В Новом Орлеане нас первым делом обворовали – утащили рюкзак Гахова, забытый на переднем сиденье, так что на обратном пути мне пришлось ехать сзади, выставив ноги в выбитое окно, хоть таким образом спасая салон от напора дождя.
Дом наш стоял на краю системы обширнейших лужаек, сливавшихся по мере приближения к центру кампуса в одно бескрайнее поле короткостриженой травы, посреди которого располагались корпуса университета. В один из дней, когда Гахов уже был на семинаре, меня разбудил стук в дверь. Я открыл, и на пороге предстал одноглазый мужик в повязке капитана Сильвера. Он отрекомендовался потомком индейцев, сынов народа Ручья (Creek People) – коренного населения, уничтоженного в этой местности цивилизацией, – и попросил двадцатку на опохмел. Я дал пятёрку и вынес ему холодного пива, и мы ещё немного поболтали о превратностях судьбы.
Среди прочего мне запомнился его рассказ о том, что неподалёку от нашего дома есть в поле колодец, куда когда-то кинулись мать с дочерью. Дело было во время гражданской войны. Обе женщины лишились – одна мужа, другая жениха. Каждый вечер они выходили на просёлочную дорогу, поджидая известия. И однажды они его получили: оба мужчины были убиты в одном бою. Женщины немедленно наложили на себя руки, кинувшись в этот колодец, и с тех пор их призраки бродят по здешним местам, появляясь в вечерних туманах.
Кривой Глаз потом к нам захаживал частенько, вёл себя скромно, рад был выпить, поболтать по душам и дать повод Гахову вновь обвинить меня в том, что я привечаю чёрт знает кого.
В Таскалусе было интересно, я не думал, что там задержусь, но вышло иначе. Прежде всего, как и во всех университетах страны, здесь имелась сверхъестественная библиотека, где русской литературы мне бы хватило на всю жизнь. Американцы осваивали русскую культуру по той же причине, по какой давние враги понемногу перенимают повадки друг друга: ведь победить могучего противника можно только, если его узнаешь и полюбишь. Отчасти поэтому вся Америка напоминает мне одну огромную библиотеку.
Развлечений в Таскалусе я нашёл себе немного. Либо торчал в барах на университетском, очень коротком, Стрипе[1 - Стрип – место в кампусе, полоса, часть улицы, где находятся бары и тусуются студенты.], либо дожидался туманного вечера и отправлялся бродить вокруг засыпанного проклятого колодца, окружённого кольцом великолепных гикори. Или шёл посмотреть, как студенты соревнуются в автомобильных кольцевых гонках на время.
Маршрут проходил вокруг кампуса, и заправлял гонками де Сильва, изящный, как тореадор, бразилец, блиставший своим канареечно-жёлтым «порше», деньги на который ему прислал отец-бизнесмен из Рио-де-Жанейро. Девушка его, чуть пухлая блондинка, была с ним неразлучна. Их знали все, о них только и было разговоров.
Да, возвращаться я не торопился. К тому же в кампусе имелся ещё и Русский дом, трёхэтажный особняк, где обитали студенты из России, прибывшие учиться по обмену. В Русский дом мы с Гаховым захаживали частенько, там мы познакомились с несколькими прекрасными особами, в том числе и с Гертрудой, рыжей девчонкой из Иваново. Она, в свою очередь, свела нас с одним парнем – чёрным пианистом, учившимся на музыкальном факультете.
Это был забавный беспокойный чувак по прозвищу Шиммери, что значило «Сверкающий». Наше знакомство началось с того, что Гертруда позвала меня поехать с ней вместе в тюрьму, куда пианист угодил после попытки сбыть излишки гомеопатии. Да, я познакомился с Шиммери, когда он ещё носил оранжевую робу и мы забирали его из тюрьмы – под залог в сотню долларов, уплаченную Гертрудой.
Шиммери играл в джазовом квартете на Стрипе и был ростом и телосложением под стать Кассиусу Клею. Потом он повадился к нам захаживать с Гертрудой, жившей в Русском доме с соседкой, одалживаясь пространством для занятий любовью. Они являлись без предупреждения, и мы с Гаховым отправлялись гулять, перебрасываясь тарелочкой фрисби, пока наша хижина гремела и плясала коробчонкой. В качестве сурдинки Шиммери включал одну и ту же кассету с подборкой самых разных исполнений «Когда святые маршируют».
Ехать восвояси я всё медлил. Но вот однажды произошла история, после которой у меня не осталось выбора. В один из вечеров, напитанных туманом, явился Шиммери, но не с Гертрудой, а с другой девушкой из Русского дома, на которую у Гахова имелись планы. Я огорчился, конечно, но не мог отказать. В расстроенных чувствах ушёл подальше в туман… И потерял дорогу. Я плутал довольно долго. Там и здесь мне встречались огромные деревья. В лунном свете они выглядели живыми существами. Внезапно где-то раздался визг тормозов и грохот. И снова ватная тишина обступила меня со всех сторон. Я пошёл в сторону, откуда раздался этот жуткий звук.
Я долго шёл в тишине. Как вдруг показалась тень. Я отшатнулся, но не успел. В свете луны предстал де Сильва. На нём не было лица, он казался смертельно уставшим, измождённым, будто до того прошёл много-много миль. Я окликнул его: «Эй, приятель, что там случилось?» Он оглянулся, но не ответил и, шатаясь, побрёл дальше. Мне стало не по себе. Я ускорил шаг. И вот выбрался на дорогу. Мокрый асфальт блестел в лунном свете, плыли клочья тумана. Недалеко я ушёл по обочине, когда у дороги показался великан – огромный чёрный дуб. У его подножья стоял расплющенный жёлтый «порше». Туман вокруг как будто рассеялся, уступая мне путь. Я приблизился и заглянул в кабину. За рулём сидел окровавленный де Сильва. Отсвет лунного света лежал на залитом чёрной кровью лице.
Вскоре на месте аварии возникла суета, подъехали полицейские машины. Я смешался с толпой. Понемногу пятясь, я повернулся и зашагал по дороге. И вдруг увидел на дороге зашнурованную кроссовку. Я поднял её и удивился её необыкновенной лёгкости.
Через три дня мы с Гаховым и Гертрудой промышляли на Стрипе. Как вдруг в бар, где мы торчали битый час, вошла девушка де Сильвы – Хлоя. Она была в чёрной открытой блузке, с траурной кружевной лентой, стягивавшей её волосы. Хлоя прошлась между столиками и вдоль стойки, принимая соболезнования, и попросила бармена угостить всех присутствующих рюмкой текилы – в память о её друге. Мы выпили, и Хлоя присела на колени к Гахову. Она была невыразимо пьяна.
На следующий день я улетел обратно в Сан-Франциско.
2020
Вереск
В ту весну 1928 года Анне впервые приснился остров – что-то очень далёкое, вроде Исландии: вересковые луга и вселенная воды, утёсов; снился, в сущности, сам океан, такой мыслящий, такой холодный и опасный – упади в него, и десяти минут не продержишься, погибнешь от переохлаждения, от непонимания.
На этом острове помещалась её мечта – школа изобразительного искусства, в невероятном, спиралевидном, при этом парадоксально призматическом здании, многокрылом царстве углов, выкрашенном ослепительной извёсткой. Из каждого зала распашные окна во всю стену и до пола смотрели в океанские бухты, синие, стальные, пасмурные, с высоченными, из прозрачных глубин идущими зарослями глянцевитой ламинарии, среди которых морские выдры, поднявшись с уловом, переворачивались на спинку, чтобы, по-обезьяньи ловко орудуя камушками, расколоть прижатых к груди моллюсков. Сивучи, ленивыми толпами обсиживающие валуны, иногда взмётывались прочь, потревоженные косаткой, молниеносно рассекавшей плавником бухту…
И вот эти залы, полные пустых мольбертов, продавались. Они могли бы стать её, исполнить мечту, позволить набрать классы, а потом… Господи, где же она всё это вычитала, ну, конечно, в атласах преподобного отца Брайана. Но откуда, откуда ученики в Исландии?.. И тут её сон вдруг оборвался чернильной пустотой глубокого предутреннего забытья.
Все это снилось ей – зрелой женщине, жене единственного на весь Иерусалим офтальмолога. Что тут особенного, кому только сны не снятся? Но эта женщина верила, что её картины, на которые она переносит окрестные холмы, целительны. Весь огромный знаменитый дом Нашашиби, расположенный между улицами Яффо и Пророков, дом, купленный сионистом-офтальмологом у самой влиятельной иерусалимской семьи, за два года оказался увешан её работами. В специальных выставочных комнатах проводились исцеляющие групповые процедуры. Больных рассаживали на стульях по периметру и обносили пейзажами. Анна верила в то, что пейзаж – это преобразование Вселенной в состояние мысли. «Почему ландшафт может быть красивым? – спрашивала она себя в дневнике. – Разве геометрия палитры – не древний отпечаток неба и причудливых скал на сетчатке? Что глаз видит и чего он не видит в ландшафте? Полагаю, в этом свойство мозга, преображающее наше зрение». Анна шаг за шагом подбиралась к тайне света палестинского пейзажа: «Солнце оставляет на сетчатке негатив, как на серебряной пластинке: иерусалимские холмы ослепительны и оставляют на зрительном нерве печать тьмы». И жена офтальмолога старалась точно передать теменное свойство света Иудейских гор.
Этого юношу, Ахмада, рослого, плечистого, сопровождал хрупкий слуга, парчовый старичок, терпко пахнущий дорожной пылью и солнцем. Ахмад всё-таки что-то видел, но не мог находиться один вдали от дома. Он всё время сидел у окна и смотрел, как меркнет свет: не то заканчивается день, не то слепота подбирается мелкими шажками.
Художница посильно помогала мужу и проверяла больным зрение по офтальмологическим таблицам. Ахмаду она подсказывала: это буква I, это буква L, это O, а это V…
И произошло чудо: она показала ему свой исландский пейзаж с вересковыми полями и тем удивительным серафическим зданием. Он не мог оторваться от этого этюда, что-то увидел на нём – пронзительно белую звезду лучистого строения? Ахмад держал картину в руках и то подносил к лицу, вдыхая запах красок, то просил поставить её подальше на мольберт… В тот же час он вдруг пожаловался, что глазам больно. Но при этом смог увидеть Анну. «О, госпожа, как вы прекрасны!» Ахмад благодарил, старик-слуга, воздев руки, расплакался. А муж, явившись и осмотрев больного, сказал, что так бывает, что мы многого не знаем о зрительном нерве. Ведь глаз – это часть мозга, вынесенная на открытый воздух, и кто его знает, о чём мозг решит подумать. Но его клинический опыт говорит: прозрение ненадолго. И всё-таки этого Анне, которой было не привыкать бродить по иерусалимским холмам, перенося на холсты – даруя другим своё зрение, ей этого оказалось достаточно.
Вскоре Иудея померкла для Ахмада окончательно.
Так Исландия оставила сны.
2018
Другие электронные книги автора Александр Викторович Иличевский
Другие аудиокниги автора Александр Викторович Иличевский
Исландия




 0
0