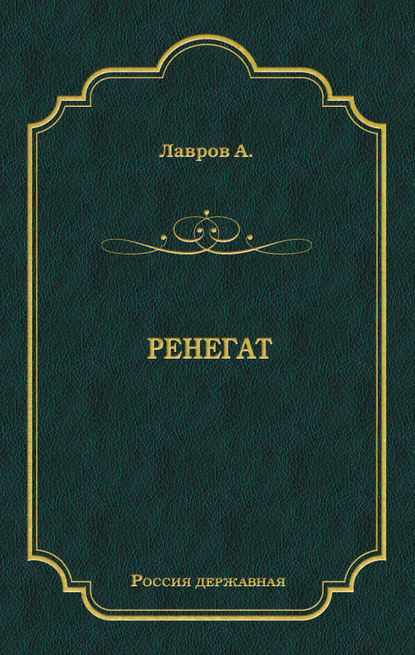По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ренегат
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Действительно, перед ними была величественная картина. Беспредельной водной пустыней стлался, серебрясь своею гладью на лучах солнца, океан. Даль была ясна до того, что были видны тянувшиеся чуть заметными струйками дымки пароходов. В гавани вырос целый лес мачт собравшихся в тихую, покойную пристань кораблей; около них, как тысячи трудолюбивых муравьев, и на берегу, на бесчисленных грузовых шлюпках, перевозивших товары, суетились рабочие и матросы. Было что-то живое, что-то величественное, подавляющее в этой картине, и не только Контов невольно любовался ею, но даже далеко не чувствительный к красотам природы Василий Иванов пришел в восторг.
– А, право! – воскликнул он.?– Ежели у нас, в Питере, да из Чекуш на взморье смотреть, так и то не лучше будет!
Но кто пришел и в восторг, и в умиление, так это – Куманджеро.
– Там,?– воскликнул он в упоении, протягивая вперед свою руку,?– там, за этим океаном, лежит моя родина, мой Ниппон… О, как полна моя душа ею!.. Родина, милая родина! Чувствуешь ли ты, как бьется любовью к тебе сердце твоего сына?.. Все тебе, тебе одной: каждый помысел, каждый вздох… Кровь до последней капли, жизнь до последнего вздоха – все тебе, тебе одной!
– Вы – патриот, господин Куманджеро! – заметил Андрей Николаевич.
– Мы все такие! – словно пробуждаясь от забытья, ответил японец,?– Тем и могуча наша страна, что все ее дети безумно любят ее, свою великую мать.
– Неужели же все? – с чуть заметным оттенком недоверия в голосе спросил Контов.
– Все! – резко отчеканил Куманджеро.?– Божественный микадо и самый жалкий из нищих готовы на все ради своей страны… на все жертвы…
– Ну, пожалуй, эта ваша очень похвальная любовь скоро растает!
– Почему?
Японец строго посмотрел на Андрея Николаевича.
– Европейские влияния… Космополитизм, ну и прочее, и прочее…
Куманджеро тихо засмеялся.
– Пойдемте, господа, позавтракать,?– сказал он,?– а за мою родину не бойтесь. Европейские влияния нам не страшны, наш народ слишком умен, чтобы не знать их цены…
5. Заманчивое предложение
Контову не понравился такой ответ их знакомого. В душе молодого русского скользнуло какое-то странное чувство; не то ему стало досадно на этого обезьяноподобного человека, не то он позавидовал ему. Андрею Николаевичу вспомнилась покинутая родина, и вдруг бесконечно дороги, милы стали ему и серовато-мглистое русское небо, и беспредельный, но унылый русский простор, и бедные жалкие деревушки с их детски-наивными, с детски-чистыми сердцем обитателями, и города с напыщенно-жалкой так называемой «интеллигенцией». Все это вдруг стало ему так дорого, мило, что, если бы каким-нибудь волшебством из-под земли пред молодым человеком вырос типичный держиморда, русский околоточный, или не уступающий ему в профессиональных доблестях урядник, Андрей Николаевич не задумался бы кинуться к ним с объятиями и расцеловать их…
Увы! Все это оставалось далеко, далеко… Водная пустыня Атлантического океана и целый материк отделяли все это от русского человека, заброшенного не столько волею судьбы, сколько своею собственной прихотью в чужой край…
Андрей Николаевич, несколько поотставший, взглянул на шедших впереди него Иванова и японца. Казалось, эти люди сразу сдружились. Слышен был их оживленный разговор, прерываемый то вспышками смеха, то отдельными восклицаниями. Они шли под руку и не обращали внимания на Контова, предоставляя его самому себе. Андрей Николаевич был отчасти рад этому. Он чувствовал необходимость поразобраться в мыслях, вызванных столь внезапным знакомством с японцем. Что-то подсказывало молодому русскому, что это знакомство вовсе не случайность и вовсе не вызвано любовью Куманджеро к России. Вместе с тем и подозревать что-либо Андрей Николаевич тоже не мог. Мысли его двоились, троились, дробились, и ни одна из них не приводила к какому-либо определенному выводу, в конце концов Контов решил только наблюдать и вывести заключение лишь тогда, когда в достаточной мере накопится наблюдений.
«Это все сказывается Русь-матушка во мне! – думал он.?– Ведь у нас, русских, все так: кто с нами вежлив, деликатен, обращается по-человечески, ни в карман, ни в физиономию не залезает, тот, стало быть, скрывает что-нибудь… Так у нас всегда… Только и чувствуем мы, русаки, доверие к тому, кто нас покрепче придавить может… Врожденное это… наследственное и веками воспитанное!»
Молодой человек сердился на себя и в то же время чувствовал, что никак не может подавить чувство невольного недоверия к японцу. Он завидовал своему товарищу, очевидно, не испытывавшему ничего такого, что могло бы смущать его покой.
Иванов между тем успел с болтовни перейти и на более серьезную тему.
– Странствуем мы с Андреем Николаевичем,?– рассказывал он Куманджеро,?– быдто у нас своего угла нет! Быдто ветром нас каким кидает из стороны в сторону. Разные края объездили, где только не побывали, себя не показали, людей не посмотрели!
– Это удивительно! – восклицал японец.?– Насколько я замечал, у вас, русских, вовсе не развита страсть к путешествиям. Вот англичане – о, те да!
– И диво бы у нас капитала было много,?– продолжал Иванов,?– а то насчет этого самого презренного металла, откровенно говоря, в одном кармане заря загорается, а в другом – уж смеркается…
– О-о,?– протянул Куманджеро,?– я думал, напротив…
– Чего там, напротив! – не удержался от каламбура веселый толстяк.?– Ни напротив, ни позади – ничегошеньки…
– Может быть, вы нуждаетесь в деньгах? – перебил его японец.
Иванов опешил, хотя этот вопрос был предложен ему самым серьезным, деловым тоном.
– В деньгах? – пробормотал он.?– Нет…
– Или, может быть, в работе?
– Гм! – оправился парень от замешательства.?– От работы не отказались бы…
Куманджеро ничего не ответил на это признание.
– Скажите,?– тихо и серьезно спросил он,?– что заставило вас покинуть вашу родину? Политика?
– Политика? – переспросил недоуменно Иванов.?– Какая политика?
– Я знаю, что в России не дозволяется никому из русских обсуждать внутренние дела своей родины и высказывать протест против того, что в этих делах замечается неправильного. Может быть, вы и ваш товарищ протестовали, активно или пассивно – это все равно,?– и должны были во избежание строгой кары за это покинуть свое отечество?.. Я прошу вас сказать мне это, но если вы не пожелаете ответить, то я настаивать и не буду! Так? Ошибся я или нет?
– Понял, понял, про что вы! – замахал на японца руками Иванов.?– Нет, от этого бог миловал… Ни в чем таком ни Андрей Николаевич, ни я не замешаны… То есть синя пятнышка на нас нет и пачпорта наши в строжайшем порядке… Другое тут… Хуже!
– Что же? – так и навострил уши японец, готовясь выслушать признание.
– Хуже, говорю! – повторил Иванов.?– Как тут и сказать – не знаю…
Он оглянулся и посмотрел на шагавшего порядочно далеко от них Контова.
– Андрей-то Николаевич мой,?– склоняясь к самому уху японца, зашептал он.
– Что? Что? – вытянулся тот на цыпочках.
– Влюбимшись он – вот что! – выпалил Иванов и отпрянул.
– Влюбимшись? Любить? – с новым явным недоумением проговорил Куманджеро и поспешил перевести этот русский глагол на все известные ему языки: – Любить – aimer, lieben! Да, да! Понимаю… Это болезнь, которой нередко страдают европейцы… Любить! Да, я понимаю теперь…
– Вот именно, что страдают! – подхватил его выражение Иванов.?– Только ты, мил человек,?– вдруг перешел он на фамильярность,?– слышь, Андрею Николаевичу о том, что я тебе сказал, ни гу-гу! Понял?
– О, конечно! – улыбнулся Куманджеро.?– Это сердечная тайна, и постороннее вмешательство в нее неделикатно.
– То-то! Зачем парня обижать! Он, Андрей-то Николаевич, господин Контов, хороший… Ты, душа, не смотри, что он такой сумрачный; это у него от любовной дури, а не будь оной – так такой миляга.
– Неужели это было причиною того, что вы покинули родину?
В голосе японца прямо звучало недоверие.
– Только и всего. Тебе чего же еще больше хотелось? Эта, брат, любовная дурь как наскочит да заберет, только держись наше мужское сословие. Ежели кто попроще – вот как я,?– так тот сейчас в трактир «под машину»: «Прислужащий! Полбарыни с красной головкой и на закуску бутерброд с ветчиной да еще пару пива „Старой Баварии”.?– Ну, зальешь это душу казенной да пивным лачком покроешь – оно и легче. Сейчас безобразить пойдешь. «Под шары» угодишь – и дурь, и обиду как рукой снимет. А у них, у бар-то, не так. У них все по-благородному! – Иванов склонился опять к уху своего желтолицего собеседника и зашептал: – Как Андрею-то Николаевичу папаша с мамашей евойного предмета нос натянули и карету подали, так он стреляться хотел… Насилу я его отговорил… Зачем местному участку беспокойство причинять? Им это тоже не по нраву… Ну, унял кое-как, а то пострадал бы парень!
Японец вряд ли понимал всю эту своеобразную тираду своего собеседника, но тем не менее слушал внимательно, изредка покачивая головой.
– А, право! – воскликнул он.?– Ежели у нас, в Питере, да из Чекуш на взморье смотреть, так и то не лучше будет!
Но кто пришел и в восторг, и в умиление, так это – Куманджеро.
– Там,?– воскликнул он в упоении, протягивая вперед свою руку,?– там, за этим океаном, лежит моя родина, мой Ниппон… О, как полна моя душа ею!.. Родина, милая родина! Чувствуешь ли ты, как бьется любовью к тебе сердце твоего сына?.. Все тебе, тебе одной: каждый помысел, каждый вздох… Кровь до последней капли, жизнь до последнего вздоха – все тебе, тебе одной!
– Вы – патриот, господин Куманджеро! – заметил Андрей Николаевич.
– Мы все такие! – словно пробуждаясь от забытья, ответил японец,?– Тем и могуча наша страна, что все ее дети безумно любят ее, свою великую мать.
– Неужели же все? – с чуть заметным оттенком недоверия в голосе спросил Контов.
– Все! – резко отчеканил Куманджеро.?– Божественный микадо и самый жалкий из нищих готовы на все ради своей страны… на все жертвы…
– Ну, пожалуй, эта ваша очень похвальная любовь скоро растает!
– Почему?
Японец строго посмотрел на Андрея Николаевича.
– Европейские влияния… Космополитизм, ну и прочее, и прочее…
Куманджеро тихо засмеялся.
– Пойдемте, господа, позавтракать,?– сказал он,?– а за мою родину не бойтесь. Европейские влияния нам не страшны, наш народ слишком умен, чтобы не знать их цены…
5. Заманчивое предложение
Контову не понравился такой ответ их знакомого. В душе молодого русского скользнуло какое-то странное чувство; не то ему стало досадно на этого обезьяноподобного человека, не то он позавидовал ему. Андрею Николаевичу вспомнилась покинутая родина, и вдруг бесконечно дороги, милы стали ему и серовато-мглистое русское небо, и беспредельный, но унылый русский простор, и бедные жалкие деревушки с их детски-наивными, с детски-чистыми сердцем обитателями, и города с напыщенно-жалкой так называемой «интеллигенцией». Все это вдруг стало ему так дорого, мило, что, если бы каким-нибудь волшебством из-под земли пред молодым человеком вырос типичный держиморда, русский околоточный, или не уступающий ему в профессиональных доблестях урядник, Андрей Николаевич не задумался бы кинуться к ним с объятиями и расцеловать их…
Увы! Все это оставалось далеко, далеко… Водная пустыня Атлантического океана и целый материк отделяли все это от русского человека, заброшенного не столько волею судьбы, сколько своею собственной прихотью в чужой край…
Андрей Николаевич, несколько поотставший, взглянул на шедших впереди него Иванова и японца. Казалось, эти люди сразу сдружились. Слышен был их оживленный разговор, прерываемый то вспышками смеха, то отдельными восклицаниями. Они шли под руку и не обращали внимания на Контова, предоставляя его самому себе. Андрей Николаевич был отчасти рад этому. Он чувствовал необходимость поразобраться в мыслях, вызванных столь внезапным знакомством с японцем. Что-то подсказывало молодому русскому, что это знакомство вовсе не случайность и вовсе не вызвано любовью Куманджеро к России. Вместе с тем и подозревать что-либо Андрей Николаевич тоже не мог. Мысли его двоились, троились, дробились, и ни одна из них не приводила к какому-либо определенному выводу, в конце концов Контов решил только наблюдать и вывести заключение лишь тогда, когда в достаточной мере накопится наблюдений.
«Это все сказывается Русь-матушка во мне! – думал он.?– Ведь у нас, русских, все так: кто с нами вежлив, деликатен, обращается по-человечески, ни в карман, ни в физиономию не залезает, тот, стало быть, скрывает что-нибудь… Так у нас всегда… Только и чувствуем мы, русаки, доверие к тому, кто нас покрепче придавить может… Врожденное это… наследственное и веками воспитанное!»
Молодой человек сердился на себя и в то же время чувствовал, что никак не может подавить чувство невольного недоверия к японцу. Он завидовал своему товарищу, очевидно, не испытывавшему ничего такого, что могло бы смущать его покой.
Иванов между тем успел с болтовни перейти и на более серьезную тему.
– Странствуем мы с Андреем Николаевичем,?– рассказывал он Куманджеро,?– быдто у нас своего угла нет! Быдто ветром нас каким кидает из стороны в сторону. Разные края объездили, где только не побывали, себя не показали, людей не посмотрели!
– Это удивительно! – восклицал японец.?– Насколько я замечал, у вас, русских, вовсе не развита страсть к путешествиям. Вот англичане – о, те да!
– И диво бы у нас капитала было много,?– продолжал Иванов,?– а то насчет этого самого презренного металла, откровенно говоря, в одном кармане заря загорается, а в другом – уж смеркается…
– О-о,?– протянул Куманджеро,?– я думал, напротив…
– Чего там, напротив! – не удержался от каламбура веселый толстяк.?– Ни напротив, ни позади – ничегошеньки…
– Может быть, вы нуждаетесь в деньгах? – перебил его японец.
Иванов опешил, хотя этот вопрос был предложен ему самым серьезным, деловым тоном.
– В деньгах? – пробормотал он.?– Нет…
– Или, может быть, в работе?
– Гм! – оправился парень от замешательства.?– От работы не отказались бы…
Куманджеро ничего не ответил на это признание.
– Скажите,?– тихо и серьезно спросил он,?– что заставило вас покинуть вашу родину? Политика?
– Политика? – переспросил недоуменно Иванов.?– Какая политика?
– Я знаю, что в России не дозволяется никому из русских обсуждать внутренние дела своей родины и высказывать протест против того, что в этих делах замечается неправильного. Может быть, вы и ваш товарищ протестовали, активно или пассивно – это все равно,?– и должны были во избежание строгой кары за это покинуть свое отечество?.. Я прошу вас сказать мне это, но если вы не пожелаете ответить, то я настаивать и не буду! Так? Ошибся я или нет?
– Понял, понял, про что вы! – замахал на японца руками Иванов.?– Нет, от этого бог миловал… Ни в чем таком ни Андрей Николаевич, ни я не замешаны… То есть синя пятнышка на нас нет и пачпорта наши в строжайшем порядке… Другое тут… Хуже!
– Что же? – так и навострил уши японец, готовясь выслушать признание.
– Хуже, говорю! – повторил Иванов.?– Как тут и сказать – не знаю…
Он оглянулся и посмотрел на шагавшего порядочно далеко от них Контова.
– Андрей-то Николаевич мой,?– склоняясь к самому уху японца, зашептал он.
– Что? Что? – вытянулся тот на цыпочках.
– Влюбимшись он – вот что! – выпалил Иванов и отпрянул.
– Влюбимшись? Любить? – с новым явным недоумением проговорил Куманджеро и поспешил перевести этот русский глагол на все известные ему языки: – Любить – aimer, lieben! Да, да! Понимаю… Это болезнь, которой нередко страдают европейцы… Любить! Да, я понимаю теперь…
– Вот именно, что страдают! – подхватил его выражение Иванов.?– Только ты, мил человек,?– вдруг перешел он на фамильярность,?– слышь, Андрею Николаевичу о том, что я тебе сказал, ни гу-гу! Понял?
– О, конечно! – улыбнулся Куманджеро.?– Это сердечная тайна, и постороннее вмешательство в нее неделикатно.
– То-то! Зачем парня обижать! Он, Андрей-то Николаевич, господин Контов, хороший… Ты, душа, не смотри, что он такой сумрачный; это у него от любовной дури, а не будь оной – так такой миляга.
– Неужели это было причиною того, что вы покинули родину?
В голосе японца прямо звучало недоверие.
– Только и всего. Тебе чего же еще больше хотелось? Эта, брат, любовная дурь как наскочит да заберет, только держись наше мужское сословие. Ежели кто попроще – вот как я,?– так тот сейчас в трактир «под машину»: «Прислужащий! Полбарыни с красной головкой и на закуску бутерброд с ветчиной да еще пару пива „Старой Баварии”.?– Ну, зальешь это душу казенной да пивным лачком покроешь – оно и легче. Сейчас безобразить пойдешь. «Под шары» угодишь – и дурь, и обиду как рукой снимет. А у них, у бар-то, не так. У них все по-благородному! – Иванов склонился опять к уху своего желтолицего собеседника и зашептал: – Как Андрею-то Николаевичу папаша с мамашей евойного предмета нос натянули и карету подали, так он стреляться хотел… Насилу я его отговорил… Зачем местному участку беспокойство причинять? Им это тоже не по нраву… Ну, унял кое-как, а то пострадал бы парень!
Японец вряд ли понимал всю эту своеобразную тираду своего собеседника, но тем не менее слушал внимательно, изредка покачивая головой.