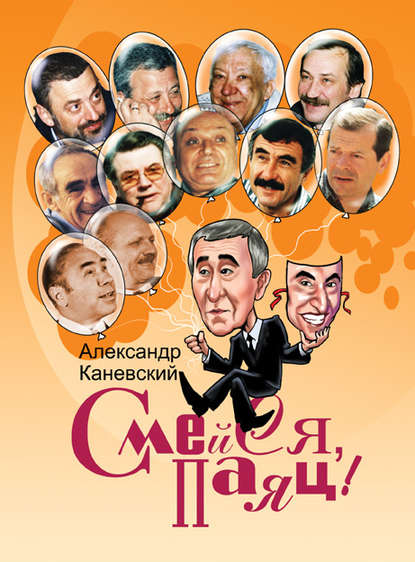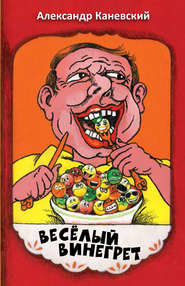По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смейся, паяц!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О нём не то, чтобы прочитать – нельзя было говорить вслух. Поэтому мы не знали, что есть радость прелюдии: предварительных ласк, прикосновений, поцелуев… Мы это отметали как ненужные сантименты – главное, что твой эталон любви салютует каждой женщине, и надо поскорее превратить его в поршень.
Это было уродливое время ханжей и лицемеров. В пьесах и фельетонах нельзя было упоминать слово лифчик, потому что сразу подразумевалось, что под ним грудь, причём, голая.
Когда в одном из моих рассказов студент на лекции поцеловал свою однокурсницу, меня обвинили в том, что я воспеваю сексуального маньяка. В гостиницах любая пришедшая к вам гостья не имела права задержаться после одиннадцати вечера – в номер тут же врывались дежурная, администратор, милиционер, составляли акт об аморальном поведении, посылали письма на работу, в партком, в профком, а там уже шли коллективные обсуждения с подробностями и «оргвыводами». Поощрялся и крепчал «комплекс привратника»: любая горничная знала, что она может испортить жизнь самому знаменитому актёру, академику, генералу, поэтому вела себя нагло, подслушивала, подсматривала и доносила начальству, которое её за это хвалило и поощряло.
– Зачем вы это делаете? – спросил я у дежурного администратора.
– Чтобы не было разврата, – ответила она.
– Почему именно после одиннадцати?
– По инструкции.
– Значит, без пяти одиннадцать ещё можно?
– Можно.
– А в пять минут двенадцатого уже нельзя?
– Нельзя.
– А вы не подумали, что наносите урон советскому обществу? Раз нельзя вечером, все командированные будут заниматься этим в дневное время, вместо работы.
Чтоб я не очень умничал, в министерство культуры Украины (я тогда ещё жил в Киеве и был командирован на Декаду украинского искусства в Москву) отправили письмо приблизительно такого содержания: «В то время, когда украинский народ демонстрирует свои достижения в области культуры, Александр Каневский приглашает в свой номер женщину и держит её там до одиннадцати тридцати вечера». Письмо попало к заведующему отделом кадров министерства, который пригласил меня к себе, показал письмо и задал вопрос:
– Зачем вы её привели? Что вы с ней делали?
Я ответил прямо и недвусмысленно глаголом из четырёх букв: «Я её еб…л!» Не ожидая такого прямолинейного ответа, он растерянно заморгал. А я продолжил: «Вам никогда в жизни не приходилось это проделывать с женщинами?» Он помолчал, потом протянул мне конверт:
– Заберите письмо и больше не попадайтесь.
Мне повезло: он оказался нормальным мужиком, Но, к сожалению, таких было очень мало, особенно, в отделах кадров. Как правило, письму «давали ход», начинались обсуждения, принимались меры и калечились судьбы людей.
ПИШИТЕ, ШУРА, ПИШИТЕ
Параллельно с бесконечными романами, начиналась и моя литературная деятельность. Впрочем, неверно: началась она ещё в детстве. Во всех школах, по которым я порхал, я всегда был главным редактором стенгазет и их основным автором. Мои сочинения педагоги часто зачитывали вслух, а последняя учительница русского языка и литературы, собирала все мои опусы в альбоме, и на выпускном вечере этот альбом мне подарила. Лет в двенадцать я начал писать стихи на актуальные местные темы: когда купят крышку для унитаза, как дедушка ищет свои кальсоны, как мама передвигает мебель в комнатах, как соседка гоняется за нашим котом…
Я вёл себя, как акын: что видел, то писал. Потом начал писать стихи, которые, как мне казалось, предназначались уже для публикации. Почему-то я подражал декадентам:
День сдёрнул с ночи одеяло,
И ночь, стыдясь, ушла в туман,
А утро темноту украло
И звёзды сунуло в карман…
И так далее, в таком же духе. Где-то перед моим окончанием школы, мама взяла у меня тетрадку стихов и отнесла её Аркадию Галинскому. Он работал тогда собственным корреспондентом «Литературной Газеты» на Украине, регулярно публиковал фельетоны в «Правде», «Литературке», «Советском Спорте» и был очень известен. Через неделю он позвонил и пригласил нас к себе. Я с благоговением переступил порог корпункта популярной газеты. Аркадий усадил нас с мамой на диван, налил два стакана чая и обратился ко мне.
– Стихи я тебе прощаю, я их тоже писал. Продолжай – девочки это любят. Но это не твоё призвание. А вот в конце тетрадки, на трёх страницах, фельетон «Мышка-Норушка». Расскажи мне о нём.
Этот фельетон я написал по просьбе своего одноклассника, в доме у которого всё текло, растрескивалось, разваливалось. Я писал от имени мышки, которая сообщала, что она и её семья покидают эту развалюху, потому что жить там могут только люди, а мыши уже не выдерживают.
– Ты давно пишешь фельетоны? – спросил Галинский.
– Это первый.
– Молодец! Я тебе даже позавидовал, как лихо всё закручено. Юмор, сатира, фельетоны – вот твоё будущее.
Я был оскорблён до глубины души, ведь я считал себя большим поэтом. И только потом жизнь доказала, что он был прав. Спустя много лет мы с ним столкнулись в московском Доме Кино и первое, что он произнёс:
– Ну, кто тебе предсказал твоё будущее? Старик-Галинский вас заметил и, в бар зайдя, благословил. Пойдём в бар, с тебя причитается.
И мы с ним выпили по фужеру коньяка.
Честно говоря, я не сразу устремился в литературу. В шестом классе хотел стать дипломатом, но понимал, что меня, еврея, туда и близко не подпустят. Тогда я решил учиться на адвоката. Я чувствовал в себе полученное от мамы умение внушать и убеждать. Я перечитал все книги о Плевако, восхищался его потрясающими выступлениями на судебных процессах – это подогревало моё желание. Мама не стала меня отговаривать, она просто пригласила к нам в гости известного адвоката, приятеля нашей семьи, и он провел со мной очень убедительную беседу:
– Пойми, адвокат в СССР – это не индивидуальность, это функция системы. При советской власти ты не сможешь защищать того, кого захочешь, тебе будут давать директивы. Если пойдёшь поперёк системы, тебя деквалифицируют. Это профессия не для нашей страны.
Он рассказал несколько случаев из своей практики, когда ему не разрешали, мешали, запрещали и даже вкатали выговор по партийной линии за непослушание. Это было очень доказательно, и он меня убедил.
В это время моё увлечение книгами было в разгаре: я запойно читал, покупал книги, выменивал. Вся моя библиотека хранилась в чемоданах (книжных шкафов не было). Каждый месяц я перекладывал книги, добавлял купленные, переписывал каталог – общение с книгами доставляло мне великую радость. Особенно я был счастлив, когда добывал книги писателей-сатириков, юмористов, пародистов, цитировал наизусть Чехова, Твена, Джерома, Чапека, О’Генри, Минаева, Дыховичного и Слободского… Совершенно был потрясён, впервые прочитав Бабеля, Булгакова, Ильфа и Петрова и влюбился в них навсегда. К окончанию школы я уже сам сочинял короткие юмористические рассказы и сценки. Это становилось главным делом моей жизни. Даже идя на свидание к самой красивой девушке, если меня вдруг осеняли какие-то идеи, я бросался домой, всё записывал, и только после этого снова устремлялся на свидание. Свои первые опусы я приносил в редакции молодёжных газет, меня там хвалили, давали советы и какую-то мелочёвку даже опубликовали.
Школу я окончил с медалью и, естественно, решил поступать в университет на факультет журналистики. В это время в стране была в разгаре компания по борьбе с космополитизмом. Украина, как самая верноподданная республика, бежала впереди паровоза: каждый день в ЦК, в обкоме, горкоме, во всех райкомах, в творческих союзах, на киностудиях, в издательствах находили всё новых и новых космополитов, обсуждали их, клеймили позором, исключали, доводили до инфарктов или самоубийств. Фактически это была антисемитская компания: к понятию космополит приплюсовывали объяснение, что это – человек без родины, значит – еврей. В газетах и на радио повторялись еврейские фамилии писателей, музыкантов, учёных, журналистов. Если кто-то был известен под нейтральным псевдонимом, то рядом называлась его еврейская фамилия, имя, отчество – чтобы было ясно, кто именно враг советского народа.
Медаль тогда давала право поступать в любое высшее учебное заведение без экзаменов. С августа в университете начали принимать заявления, первого августа в семь утра я был у дверей приёмной комиссии и первым подал документы на журналистику. Кроме медали, там ещё были две рекомендации от двух молодёжных газет, с которыми я сотрудничал. Через три дня вывесили список принятых и допущенных к экзаменам – меня там не оказалось. Я подал на романо-германский факультет – не приняли, на славянский факультет – отказали, на юридический – тот же результат. Я понял, что мои попытки обречены на провал, был растерян, подавлен – меня потрясла эта первая встреча с легализованной государственной несправедливостью, унижающей человеческое достоинство. Юра Шостак требовал, чтобы я пошёл к руководству университета.
– Это явное недоразумение! – убеждал он. – Кого же принимать, если не тебя!
Я отказался. Тогда он сам записал меня на приём к проректору и насильно притащил в университет. В кабинете за письменным столом сидел толстый, сытый человек, у него было жирное, круглое лицо, обвисшие щёки почти доставали до плеч.
– Хорошие документы, – сказал он, открыв поданную ему папку. – Будете показывать их своим внукам. (Говорил он, конечно, по-украински, я отвечал ему на том же языке.)
– Я хочу показать их приёмной комиссии, но она их у меня уже не принимает.
– Правильно делает.
– Но я имею право.
– Право вы имеете, но в украинский университет вас не примут.
На слове украинский он сделал акцент. Я уже понял бесперспективность нашего диалога, но по инерции продолжал разговор:
– Почему это меня не примут?
– Потому что я так хочу, – ответил он с наглой улыбкой.
Это была пощёчина подонка, который чувствует себя безнаказанным.
– А знаете, что я хочу? – тихо спросил я, сквозь сжатые зубы.