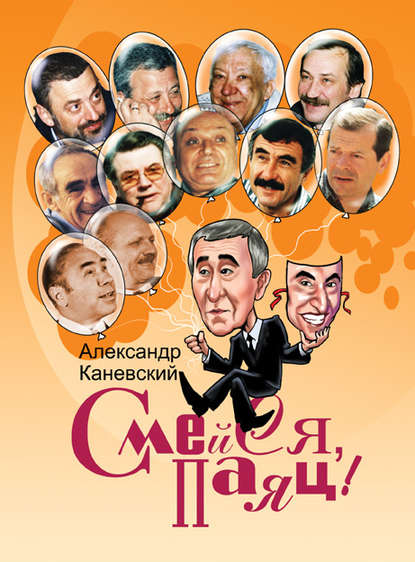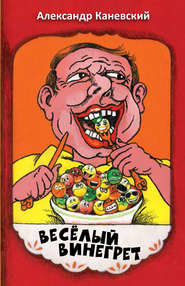По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смейся, паяц!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Любопытно, – он всё ещё продолжал улыбаться, так же нагло, но уже с каким-то интересом, мол, смотрите, а этот раздавленный червяк ещё извивается! На столе у него стоял чернильный прибор: мраморная подставка, две мраморных чернильницы и пресс-папье. – Так что же вы хотите? – переспросил он.
– Эту чернильницу – в вашу рожу! – и я метнул в него тяжёлый мраморный снаряд, которым можно было убить мамонта. К счастью, Юра успел толкнуть мою руку, сбив меня с прицела, и чернильница пролетела мимо круглой и жирной морды. Шум, крики, скандал, угрозы, милиция… И только вмешательство Юриного отца, который, как я уже писал, в ЦК компартии Украины занимал крупный пост, спасло меня от тюрьмы, где меня бы с удовольствием сгноили.
После этого случая я прекратил попытки поступать в университет, никуда больше не ходил, с утра до вечера лежал на тахте и кусал подушку. Мама, уходя из дому, на всякий случай запирала меня на ключ.
Пришла повестка в армию, впереди замаячили два года воинской службы. До первого сентября, начала занятий, оставалось всего два дня. Тогда мама взяла мои документы и понесла их в автомобильно-дорожный институт, который находился в нескольких кварталах от нашего дома. Он недавно открылся, там было только два факультета: механический и дорожно-строительный. Кто хотел быть механиком, поступал в политехнический институт, кто мечтал о карьере строителя, шёл в строительный. Поэтому в новом, ещё не очень известном автомобильно-дорожном институте был недобор. Моя медаль и мои рекомендации произвели впечатление на председателя приёмной комиссии (не говоря о впечатлении, которое произвела моя мама), и он заявил:
– Мы его берём – он будет редактором институтской стенгазеты.
И началась моя студенческая жизнь. Но прежде, чем о ней – ещё немного о том, что творилось в стране.
ЧТО ТВОРИТ КОСМОПОЛИТ
Борьба с космополитами плавно перешла в разоблачение врачей-вредителей, естественно, тоже евреев. После того, как «раскрыли банду кремлёвских врачей, которые намеревались отравить членов правительства», стали разоблачать «банды» помельче: в республиканских центрах, в областных, в районных: врачей-евреев выгоняли из больниц и поликлиник, клеймили позором, оскорбляли на улицах. Кто когда-то лечился у «врача-вредителя», теперь прозревал: «Вот почему у меня до сих пор болит спина!» или: «Вот почему у меня выпали две пломбы!» Радио и газеты накачивали людей подозрительностью и злобой – это было не сложно при постоянно подогреваемом антисемитизме. Доходило до абсурда, до идиотизма.
Нашим соседом по коммуналке был Андрей Гаевский, партийный работник, историк по образованию, его направили из Херсона в Киев, в высшую партшколу, и несколько лет вместе с женой Валей они жили за нашей стенкой, в соседней комнате. Мои родители помогали им войти в киевскую жизнь, постоянно приглашали на обед и между ними установились дружеские отношения. Однажды Андрей получил письмо от своей мамы из Херсона, в котором она писала, что они разоблачили парикмахера-еврея, который всех партийных работников города пудрил отравленной пудрой, после чего у них на лицах появлялись прыщи. Андрей вошёл к нам в комнату с этим письмом и прочитал его, искренне огорчённый:
– Семён Борисович, ну зачем они это делают? Ведь от их вредительства страдают честные люди, такие, как вы!
Отец несколько секунд молча смотрел на него, потом спросил:
– Вы действительно верите в это или притворяетесь?
– А как же не верить? Все газеты пишут, и вот – мама!
– Тогда объясните: зачем этому парикмахеру сеять прыщи на партийных лицах?
– Но это же ясно: если обком партии будет весь в прыщах, может он звать народ в светлое будущее?
Выходить на улицу с ярко выраженной еврейской внешностью было небезопасно: тыкали пальцами, проклинали, угрожали, а иногда и избивали. Однажды мы с Колей Высоцким ехали в трамвае, стояли на площадке, разговаривали. Я был в плаще и в шляпе, Коля в кожаной куртке. За спиной у меня стояли два парня. Один из них громко произнёс, чтобы все слышали:
– Смотрите, какой француз с нами едет! А мы сейчас с ним поиграемся.
С этими словами он резко натянул мне шляпу до носа. Я сжал обе ладони в большой кулак, развернулся и не глядя врезал обидчика по лицу. Он заорал что-то вроде «Наших бьют!», и когда я освободил глаза от надвинутой шляпы, увидел ещё нескольких человек, которые надвигались на площадку. Дело могло кончиться трагично, если бы не Коля: он скомандовал мне «Прыгай!» (В старых трамваях двери не были автоматическими, их можно было открыть руками), вынул нож, с которым никогда не расставался, направил его на зачинщика и тихо спросил: «Может, и со мной поиграешься?» Колино лицо, разукрашенное шрамами и ледяной взгляд, который он устремлял на противника, всегда действовали, как удав на кролика. Так произошло и на этот раз: нападающие в растерянности остановились. Коля подтолкнул меня к дверям, ещё раз скомандовал «Прыгай!» и выпрыгнул вслед за мной.
Ещё с детства я запомнил, как в стране нагнеталась атмосфера страха, как папа и мама, дедушка и бабушка, шёпотом сообщали друг другу, кого и когда посадили, кого выслали, кого вызывали на допрос. Никто не был застрахован, что сегодня ночью не приедут и за ним: многие из наших близких бесследно исчезали. Повод мог быть любой: рассказанный анекдот, произнесённая без должного восторга фамилия кого-либо из вождей, донос соседа… Опасно было что-нибудь заворачивать в газету, если в ней был портрет Сталина, а поскольку его портреты были на каждой странице, то газета превратилось в предмет повышенного риска. Поэтому папа и дедушка каждый вечер производили ритуальную операцию: ножницами вырезали из всех страниц все портреты Сталина и, на всякий случай, остальных членов правительства. И только потом эту кастрированную газету отдавали женщинам на хозяйственные нужды: заворачивать продукты или нарезать для туалета – о наличии специальной туалетной бумаги тогда никто и не подозревал. Наиболее яркие мои воспоминания не хотят ждать своей очереди, они рвутся вперёд и мне трудно сопротивляться: тысяча девятьсот пятьдесят третий год, смерть Сталина. Тревожное чувство спеленало страну, все ждали, что с уходом «Вождя и Учителя» грядут тяжёлые катаклизмы. Особенно волновались евреи, ожидая ещё более сильной волны антисемитизма. И именно в один из таких тревожных вечеров мой папа вдруг произнёс:
– Настанет день, когда его публично проклянут, сожгут и развеют пепел, чтобы ничего от него не осталось.
– Молчи! – закричала мама. – Как ты можешь так говорить!
– Я замолчу, – сказал папа, – но это произойдёт. Может, мы с тобой не доживём, а дети это увидят.
Когда Сталин умер, я был на втором курсе института. В этот день нас собрали в актовом зале, выстроили всех, как на лагерной линейке, и какая-то партийная дама, рыдая, объявила о его смерти. В мёртвой тишине, всхлипывая, она сообщала подробности. Именно тогда я чуть не влип в большую неприятность. У нас на курсе был студент Боря Боренгольц. Он очень забавно и заразительно смеялся, тоненьким хохотком, как колокольчик. Когда он смеялся, мы все тоже начинали хохотать, удержаться было невозможно. У нас с ним возникла такая игра, которая переросла в какое-то наваждение: слушая доклад, лекцию, присутствуя на собрании, стоила нам взглянуть друг на друга – мы начинали хохотать, прячась за спины впереди сидящих. Причём, чем серьёзней было «мероприятие», на котором мы присутствовали, тем сильней накатывался смех. Так случилось и на сей раз: в момент самого проникновенного всхлипа партийной дамы, я встретился взглядом с Борей, который сразу отвёл глаза и отвернулся, но плечи его стали вздрагивать. По уже отработанному рефлексу, то же самое произошло со мной. Когда мы еще раз взглянули друг на друга, то оба поняли, что пропали – хохот уже распирал нас: мы хрипели, кашляли, затыкали рты ладонями… На наше счастье, линейка окончилась и всех отпустили в аудитории – это спасло нас от огромной неприятности. С тех пор, когда говорят о смерти Сталина, я вспоминаю пророчество моего папы и смех моего однокурсника Бори Баренгольца, светлая им память!
А теперь вернёмся к началу моей студенческой жизни.
УЧИСЬ, МОЙ СЫН, НАУКА СОКРАЩАЕТ…
Конечно, автодорожный – был чуждым мне институтом, один перечень предметов чего стоил: высшая математика, физика, химия, тригонометрия, строительная механика, сопромат! Весь первый семестр я прогуливал лекции, не посещал практических занятий, не выполнял курсовых заданий. Однажды, недели за две до начала экзаменационной сессии, я пришёл на занятие по геодезии, которое проводил заведующий кафедрой доцент Товстолес, огромный, массивный старик, с большими квадратными ладонями. Когда я откликнулся на перекличке, он удивлённо посмотрел на меня и произнёс:
– А я вас не знаю.
Я не выдержал и ляпнул:
– Я вас тоже.
Он разозлился.
– Ах, так?.. Тогда, чтобы узнать друг друга, я буду спрашивать вас на каждом занятии. Если не подготовитесь, сразу сами уходите – встретимся на экзамене.
Естественно, я не посещал и остальные занятия, понимая, что семь бед – один ответ. Аналогичная ситуация сложилась и с преподавателем высшей математики Гальпериным – лысый, спортивный, умный, с хорошим чувством юмора, он однажды, во время лекции, прервал мою беседу с соседом по столу и с подчёркнутой вежливостью спросил:
– Я вам не мешаю?
Я ответил в его манере:
– Нет, нет. Только, если вас не затруднит, говорите чуть тише.
– Конечно, не затруднит. Но зачем вам так откровенно мучиться? Не будьте мазохистом – пойдите, погуляйте.
– Я бы пошёл, но вы отметите мой уход, и у меня будут неприятности.
– Я отмечу? Вас?! Да никогда! Клянусь перед всей аудиторией! Идите, гуляйте, сегодня прекрасная погода.
– Спасибо за понимание. – Я встал и вышел.
Так повторялось каждый раз, если я случайно оставался на его занятиях. Когда я откликался на перекличке, он широко раскрывал глаза, разводил руки и с нескрываемой радостью восклицал:
– Ба! Кто к нам пришёл!? Не откроете ли секрет, с какой целью явились?
– Просто повидаться – соскучился по вас, по интегралам.
– Тронут до слёз. Зафиксировал. Отпускаю.
И я снова покидал аудиторию. Но это не могло продолжаться вечно, близился час расплаты – конец семестра, экзаменационная сессия.
Меня до экзаменов не допустили из-за несданных зачётов. Пришлось закатать рукава и засесть за курсовые работы. Меня тащил весь курс: девочки делали чертежи, ребята помогали писать к ним расчеты и объяснения, Марик Глинкин (я о нём ещё расскажу подробней) дал мне пользоваться своими конспектами, которые считались лучшими из лучших – за ними стояла очередь. Я в день сдавал по два-три зачёта и за неделю своротил эту гору, преграждавшую путь к экзаменационной сессии.
Когда я пришёл к декану с просьбой допустить меня к экзаменам, он рассмеялся:
– До конца сессии – десять дней, экзаменов – шесть, на подготовку каждого – полтора дня! Это, увы, не реально. Я готовлю приказ о вашем отчислении.
– Но у меня есть право использовать эти дни, чтобы попытаться сдать сессию?
– Право у вас есть, шансов – никаких. Но раз вы настаиваете – я вас к сессии допускаю, хотя результат мне заранее известен.
Конечно, ситуация была тупиковая. Но во мне взыграл гонор вечного отличника и медалиста: быть исключённым из-за неуспеваемости – это несмываемый позор! И мама меня поддержала:
– Эту чернильницу – в вашу рожу! – и я метнул в него тяжёлый мраморный снаряд, которым можно было убить мамонта. К счастью, Юра успел толкнуть мою руку, сбив меня с прицела, и чернильница пролетела мимо круглой и жирной морды. Шум, крики, скандал, угрозы, милиция… И только вмешательство Юриного отца, который, как я уже писал, в ЦК компартии Украины занимал крупный пост, спасло меня от тюрьмы, где меня бы с удовольствием сгноили.
После этого случая я прекратил попытки поступать в университет, никуда больше не ходил, с утра до вечера лежал на тахте и кусал подушку. Мама, уходя из дому, на всякий случай запирала меня на ключ.
Пришла повестка в армию, впереди замаячили два года воинской службы. До первого сентября, начала занятий, оставалось всего два дня. Тогда мама взяла мои документы и понесла их в автомобильно-дорожный институт, который находился в нескольких кварталах от нашего дома. Он недавно открылся, там было только два факультета: механический и дорожно-строительный. Кто хотел быть механиком, поступал в политехнический институт, кто мечтал о карьере строителя, шёл в строительный. Поэтому в новом, ещё не очень известном автомобильно-дорожном институте был недобор. Моя медаль и мои рекомендации произвели впечатление на председателя приёмной комиссии (не говоря о впечатлении, которое произвела моя мама), и он заявил:
– Мы его берём – он будет редактором институтской стенгазеты.
И началась моя студенческая жизнь. Но прежде, чем о ней – ещё немного о том, что творилось в стране.
ЧТО ТВОРИТ КОСМОПОЛИТ
Борьба с космополитами плавно перешла в разоблачение врачей-вредителей, естественно, тоже евреев. После того, как «раскрыли банду кремлёвских врачей, которые намеревались отравить членов правительства», стали разоблачать «банды» помельче: в республиканских центрах, в областных, в районных: врачей-евреев выгоняли из больниц и поликлиник, клеймили позором, оскорбляли на улицах. Кто когда-то лечился у «врача-вредителя», теперь прозревал: «Вот почему у меня до сих пор болит спина!» или: «Вот почему у меня выпали две пломбы!» Радио и газеты накачивали людей подозрительностью и злобой – это было не сложно при постоянно подогреваемом антисемитизме. Доходило до абсурда, до идиотизма.
Нашим соседом по коммуналке был Андрей Гаевский, партийный работник, историк по образованию, его направили из Херсона в Киев, в высшую партшколу, и несколько лет вместе с женой Валей они жили за нашей стенкой, в соседней комнате. Мои родители помогали им войти в киевскую жизнь, постоянно приглашали на обед и между ними установились дружеские отношения. Однажды Андрей получил письмо от своей мамы из Херсона, в котором она писала, что они разоблачили парикмахера-еврея, который всех партийных работников города пудрил отравленной пудрой, после чего у них на лицах появлялись прыщи. Андрей вошёл к нам в комнату с этим письмом и прочитал его, искренне огорчённый:
– Семён Борисович, ну зачем они это делают? Ведь от их вредительства страдают честные люди, такие, как вы!
Отец несколько секунд молча смотрел на него, потом спросил:
– Вы действительно верите в это или притворяетесь?
– А как же не верить? Все газеты пишут, и вот – мама!
– Тогда объясните: зачем этому парикмахеру сеять прыщи на партийных лицах?
– Но это же ясно: если обком партии будет весь в прыщах, может он звать народ в светлое будущее?
Выходить на улицу с ярко выраженной еврейской внешностью было небезопасно: тыкали пальцами, проклинали, угрожали, а иногда и избивали. Однажды мы с Колей Высоцким ехали в трамвае, стояли на площадке, разговаривали. Я был в плаще и в шляпе, Коля в кожаной куртке. За спиной у меня стояли два парня. Один из них громко произнёс, чтобы все слышали:
– Смотрите, какой француз с нами едет! А мы сейчас с ним поиграемся.
С этими словами он резко натянул мне шляпу до носа. Я сжал обе ладони в большой кулак, развернулся и не глядя врезал обидчика по лицу. Он заорал что-то вроде «Наших бьют!», и когда я освободил глаза от надвинутой шляпы, увидел ещё нескольких человек, которые надвигались на площадку. Дело могло кончиться трагично, если бы не Коля: он скомандовал мне «Прыгай!» (В старых трамваях двери не были автоматическими, их можно было открыть руками), вынул нож, с которым никогда не расставался, направил его на зачинщика и тихо спросил: «Может, и со мной поиграешься?» Колино лицо, разукрашенное шрамами и ледяной взгляд, который он устремлял на противника, всегда действовали, как удав на кролика. Так произошло и на этот раз: нападающие в растерянности остановились. Коля подтолкнул меня к дверям, ещё раз скомандовал «Прыгай!» и выпрыгнул вслед за мной.
Ещё с детства я запомнил, как в стране нагнеталась атмосфера страха, как папа и мама, дедушка и бабушка, шёпотом сообщали друг другу, кого и когда посадили, кого выслали, кого вызывали на допрос. Никто не был застрахован, что сегодня ночью не приедут и за ним: многие из наших близких бесследно исчезали. Повод мог быть любой: рассказанный анекдот, произнесённая без должного восторга фамилия кого-либо из вождей, донос соседа… Опасно было что-нибудь заворачивать в газету, если в ней был портрет Сталина, а поскольку его портреты были на каждой странице, то газета превратилось в предмет повышенного риска. Поэтому папа и дедушка каждый вечер производили ритуальную операцию: ножницами вырезали из всех страниц все портреты Сталина и, на всякий случай, остальных членов правительства. И только потом эту кастрированную газету отдавали женщинам на хозяйственные нужды: заворачивать продукты или нарезать для туалета – о наличии специальной туалетной бумаги тогда никто и не подозревал. Наиболее яркие мои воспоминания не хотят ждать своей очереди, они рвутся вперёд и мне трудно сопротивляться: тысяча девятьсот пятьдесят третий год, смерть Сталина. Тревожное чувство спеленало страну, все ждали, что с уходом «Вождя и Учителя» грядут тяжёлые катаклизмы. Особенно волновались евреи, ожидая ещё более сильной волны антисемитизма. И именно в один из таких тревожных вечеров мой папа вдруг произнёс:
– Настанет день, когда его публично проклянут, сожгут и развеют пепел, чтобы ничего от него не осталось.
– Молчи! – закричала мама. – Как ты можешь так говорить!
– Я замолчу, – сказал папа, – но это произойдёт. Может, мы с тобой не доживём, а дети это увидят.
Когда Сталин умер, я был на втором курсе института. В этот день нас собрали в актовом зале, выстроили всех, как на лагерной линейке, и какая-то партийная дама, рыдая, объявила о его смерти. В мёртвой тишине, всхлипывая, она сообщала подробности. Именно тогда я чуть не влип в большую неприятность. У нас на курсе был студент Боря Боренгольц. Он очень забавно и заразительно смеялся, тоненьким хохотком, как колокольчик. Когда он смеялся, мы все тоже начинали хохотать, удержаться было невозможно. У нас с ним возникла такая игра, которая переросла в какое-то наваждение: слушая доклад, лекцию, присутствуя на собрании, стоила нам взглянуть друг на друга – мы начинали хохотать, прячась за спины впереди сидящих. Причём, чем серьёзней было «мероприятие», на котором мы присутствовали, тем сильней накатывался смех. Так случилось и на сей раз: в момент самого проникновенного всхлипа партийной дамы, я встретился взглядом с Борей, который сразу отвёл глаза и отвернулся, но плечи его стали вздрагивать. По уже отработанному рефлексу, то же самое произошло со мной. Когда мы еще раз взглянули друг на друга, то оба поняли, что пропали – хохот уже распирал нас: мы хрипели, кашляли, затыкали рты ладонями… На наше счастье, линейка окончилась и всех отпустили в аудитории – это спасло нас от огромной неприятности. С тех пор, когда говорят о смерти Сталина, я вспоминаю пророчество моего папы и смех моего однокурсника Бори Баренгольца, светлая им память!
А теперь вернёмся к началу моей студенческой жизни.
УЧИСЬ, МОЙ СЫН, НАУКА СОКРАЩАЕТ…
Конечно, автодорожный – был чуждым мне институтом, один перечень предметов чего стоил: высшая математика, физика, химия, тригонометрия, строительная механика, сопромат! Весь первый семестр я прогуливал лекции, не посещал практических занятий, не выполнял курсовых заданий. Однажды, недели за две до начала экзаменационной сессии, я пришёл на занятие по геодезии, которое проводил заведующий кафедрой доцент Товстолес, огромный, массивный старик, с большими квадратными ладонями. Когда я откликнулся на перекличке, он удивлённо посмотрел на меня и произнёс:
– А я вас не знаю.
Я не выдержал и ляпнул:
– Я вас тоже.
Он разозлился.
– Ах, так?.. Тогда, чтобы узнать друг друга, я буду спрашивать вас на каждом занятии. Если не подготовитесь, сразу сами уходите – встретимся на экзамене.
Естественно, я не посещал и остальные занятия, понимая, что семь бед – один ответ. Аналогичная ситуация сложилась и с преподавателем высшей математики Гальпериным – лысый, спортивный, умный, с хорошим чувством юмора, он однажды, во время лекции, прервал мою беседу с соседом по столу и с подчёркнутой вежливостью спросил:
– Я вам не мешаю?
Я ответил в его манере:
– Нет, нет. Только, если вас не затруднит, говорите чуть тише.
– Конечно, не затруднит. Но зачем вам так откровенно мучиться? Не будьте мазохистом – пойдите, погуляйте.
– Я бы пошёл, но вы отметите мой уход, и у меня будут неприятности.
– Я отмечу? Вас?! Да никогда! Клянусь перед всей аудиторией! Идите, гуляйте, сегодня прекрасная погода.
– Спасибо за понимание. – Я встал и вышел.
Так повторялось каждый раз, если я случайно оставался на его занятиях. Когда я откликался на перекличке, он широко раскрывал глаза, разводил руки и с нескрываемой радостью восклицал:
– Ба! Кто к нам пришёл!? Не откроете ли секрет, с какой целью явились?
– Просто повидаться – соскучился по вас, по интегралам.
– Тронут до слёз. Зафиксировал. Отпускаю.
И я снова покидал аудиторию. Но это не могло продолжаться вечно, близился час расплаты – конец семестра, экзаменационная сессия.
Меня до экзаменов не допустили из-за несданных зачётов. Пришлось закатать рукава и засесть за курсовые работы. Меня тащил весь курс: девочки делали чертежи, ребята помогали писать к ним расчеты и объяснения, Марик Глинкин (я о нём ещё расскажу подробней) дал мне пользоваться своими конспектами, которые считались лучшими из лучших – за ними стояла очередь. Я в день сдавал по два-три зачёта и за неделю своротил эту гору, преграждавшую путь к экзаменационной сессии.
Когда я пришёл к декану с просьбой допустить меня к экзаменам, он рассмеялся:
– До конца сессии – десять дней, экзаменов – шесть, на подготовку каждого – полтора дня! Это, увы, не реально. Я готовлю приказ о вашем отчислении.
– Но у меня есть право использовать эти дни, чтобы попытаться сдать сессию?
– Право у вас есть, шансов – никаких. Но раз вы настаиваете – я вас к сессии допускаю, хотя результат мне заранее известен.
Конечно, ситуация была тупиковая. Но во мне взыграл гонор вечного отличника и медалиста: быть исключённым из-за неуспеваемости – это несмываемый позор! И мама меня поддержала: