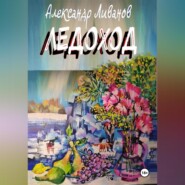По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ЛЕДОХОД
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И только теперь Таня вспомнила про Алика. Она вернулась в вестибюль, посмотрела на застекленные двери. Отец и сын сидели рядом на скамье, лицом друг к другу. Смуглые ручки Алика лежали в больших не загорелых еще руках гостя.
Высоко поджав коленки, возложив на них подбородок и обхватив руками ноги, Таня уселась на подоконнике окна. На нее из сумерек смотрел щит со знакомой до каждой буквы отрядной стенгазетой, списками первой очереди лагеря, отпечатанными на машинке, объявлением о состоявшейся еще на прошлой неделе экскурсии… Она подождет Алика, не станет она мешать разговору отца и сына. Мысли о Володе, об этом моряке с виноватой улыбкой («Сколько ему лет? Наверно, что-то около сорока пяти? Ребята назвали его полковником – как они только разбираются в этих звездочках?), о жене его, путались в голове Тани. Супруга гостя представлялась ей эдакой полной и самоуверенной матроной с холодным и хищным взглядом, и еще почему-то химической блондинкой – вроде наглой и горластой Зиночки…
– Спокойной ночи, Татьяна Ивановна! – отсалютовал своей вожатой и шмыгнул мимо нее Алик. Таня успела заметить лукавое выражение лица мальчика – он явно полагал, что здорово провел вожатую, оставшись с гостем. Полковник в задумчивости раз-другой попытался закрыть дверь. Почему-то это ему не удавалось, и он махнул рукой на дверь.
– Ну как? – подала голос Таня, слезая с подоконника.
– Умный мальчик, – подойдя к ней, все в той же задумчивости, ответил полковник, будто речь шла о чужом мальчике, а не о родном его сыне. Спохватившись, полковник рассмеялся… – Целая Личность!.. С запросами, так сказать. Понимаете, с ним не так легко подружиться… Я ему привез подводную лодку с двигателем на батарейке. Ну и прочее такое… Хочу ему завтра передать.
Речь шла о пионере из ее отряда, и Таня понимающе и строго, как подобает вожатой, кивала головой.
И вдруг она забыла, что она вожатая: с пансионатской танцплощадки донеслась музыка и Таня игриво и женственно подняла пальчик в направлении музыки.
– А не хотите потанцевать?.. Или некстати?..
– Пожалуй… Идемте!
* * *
Тесно прижавшись друг к другу, забыв про все на свете и только лишь чутко вслушиваясь в плеск угомонившегося прибоя, они давно уже после танцев сидели на скамейке пустынного пляжа. Таня точно помнила, какое чувство было у нее, когда он впервые обнял ее. Нет, она с удовольствием танцевала с ним весь вечер, была признательна ему, что он развлек ее, но это вовсе не означало, что она жаждала его объятий. Однако и внутреннего протеста она при этом также не испытывала. Что ж, их обоих обидела жизнь, оба они одиноки и, может, это родило объятия?!. Но она затем не противилась и последовавшим поцелуям. Правда, она каждый раз пыталась представить себе, что с ней рядом Володя, но каждый раз чувствовала, что самообман ей не удается…
И вдруг она разрыдалась и прижалась головой к его груди. Он был не на шутку встревожен ее рыданием. Вытирая ей слезы своим платком, пахнущим одеколоном и мужским потом, он все время спрашивал: «Да что это с вами?..». А Таня и сама толком не знала, что с нею. Просто на душе накопилось и накипело и все разразилось этими слезами. Как тяжелые и мрачные тучи – дождем. Она чувствовала себя виноватой перед этим человеком, утирающим ее слезы. Было совестно, что по ее прихоти ему, не ведая об этом надлежало заменить ей недостающего Володю. «Ему и без того тяжело, а тут я еще причиняю боль, обижаю».
– Простите меня, – шмыгнула носом Таня и поправила ладонью волосы. – Я просто забылась. «Заплыла за буйки», – как говорят мои ребята.
– Я это так и понял, – глухо проговорил он.
Она резко обернулась, пытаясь в темноте рассмотреть его лицо.
– А ничего особого. Просто я – не Володя… Несколько раз вы называли меня этим именем. Бывает, когда … заплываешь за буйки…
И снова они сидели молча, смотрели в темень, на море, и слушали всплеск волны. Он держал ее руку, время от времени пожимал ее тонкие и длинные пальцы, но на большее не посягал. Они сейчас были не «он» и «она», а просто два человека и говорили о таинственной силе любви, о непостижимых сложностях жизни, о бездне человеческого сердца. Оба, оказалось, много читали, а, главное, много думали о том, о чем сейчас говорили.
– И самое страшное, что минутная слабость женщины – и появляется на свет человек.
– Этой слабостью женщины продолжают род человеческий. И то, что вам кажется страшным – все равно любовь, жизнь рождающая жизнь, одна из вечных еще неизведанных дорожек ее… Ведь, будем искренни, – не отвращение же, не ненависть, не неуважение привели нас сюда и удерживают вместе. И не нужно стремиться рационализировать, оснащать математической безошибочностью, делать научной любовь. Туристским маршрутом с точными картами, стрелками-указателями и турбазами, предпочитаю ошибки и лишения, волнения и страсть, первопроходцев…
Живое чувство – мудрое и вечное. Рационализму тут нет места. Ведь человеческое общество – не образцовая мясо-молочная племенная ферма… Даже из боли и страдания человек творит музыку и красоту. И я благословляю пораженные тэбэце легкие Чехова, хотя… за счастье почел бы отдать ему свои, здоровые легкие моряка-подводника…
Он взволнованно закурил, затянулся и снова взял девушку за руку, снова пожал ее. Таня ответила тоже легким пожатием. Она молчала и опасалась, чтоб и он не умолк. Она хотела слышать его голос, хотя и не успевала следить за его мыслью.
– Я не согласен с вами, что есть ужас случайного рождения. Что вообще есть случайные рождения. В этом вижу мудрость, красоту и щедрость природы. Ужас – в рождении случайного человека: тупого, бездарного, жестокого. Мы его воспитываем, а он схитрит, приноровится и пользуется нашей добротой, как подставленным плечом… Я всегда с тревогой смотрю на ребят, не могу отделаться от мысли, – а вдруг из этого мальчика, из той девочки, вырастет плохой человек. Как горячий нож сквозь масло, проходит такой между добрыми людьми… Я очень боялся встречи с Аликом. Слава богу, напрасно боялся. Не знаю, кем он станет, но он вырастет хорошим человеком. Я убежден в этом… Как вы считаете?
Таня кивнула головой. Все так же держась за руки, они медленно поднимались на обрывистый берег. Он продолжал говорить, точно освобождался от давно угнетавших его мыслей. Свежий ветер, резко огибая уступ кручи, вздувал, как парус, Танино платье. Она поправляла его, украдкой взглядывая на профиль папы Алика. Она теперь мысленно так называла своего спутника и радовалась, что ей приоткрылась часть его души, что она помнит его голос, и отличит его среди многих других…
– Вы очень интересный человек… Володя очень неглупый, но знаете, как-то… для себя и вокруг себя… Я хочу вас завтра тоже видеть, – возле лагеря проговорила Таня, сама удивляясь своей отваге.
* * *
У пансионатского автобуса, увозившего в Симферополь, на вокзал и в аэропорт, отдыхающих «кончивших заезд», толпилось много людей. Отъезжающие, провожающие и просто зевающие; какие-то старые шутки, пустяковые реплики, ненужная суета. Не в пример другим пассажирам, суетившимся и спешащим занять места получше, устроиться с удобствами, точно ехать предстояло не полтора часа, а целую вечность, папа Алика не спешил. У него был маленький чемодан, и он объяснял Алику, как, в случае надобности, он надувается, превращаясь то в подушку, то даже в плавучее подспорье. Таня, державшая за руку Алика, смотрела на его папу и лицо ее вспыхивало то тихой сокровенной радостью, женщины хранящей свою особую тайну, то извечной и всем понятной грустью разлуки с любимым человеком.
Несмотря на все то, что было между ними за этот длинный месяц, между двумя людьми полюбившими друг друга, Таню все еще мучила мысль, что он, умный и старший, может все же не понять, как она его сильно полюбила и как он ей стал дорог. И эта мысль мучила Таню больше самой разлуки.
– Ничего лишнего в дорогу не бери, – без надобности заправлял он за ухо локон Таниных волос. – А главное, оденься по-зимнему. Как у вас одеваются в самый сильный мороз. Нет, нет, – я ни чуточки не шучу. Ты прямо из лета попадешь в зиму. Север!
С легкой дымкой от слез на глазах Таня улыбалась, кивала головой, не отводя глаз от папы Алика. Север, мороз, зимняя одежда – какие это все были пустяки по сравнению с тем, что у нее на душе…
– А ты приедешь к нам на Север? – спросил отец Алика.
– Да! – резко от горячности произнес Алик. – Мама отпустит. Она добрая, – сказал сын.
– И я так думаю… – сказал отец.
Держась за руки, вожатая и пионер ее отряда, два подружившихся человека, долго махали отъезжавшему автобусу. В нем уезжал очень дорогой для них человек…
А автобус нарочно медлил, пыхтел, постреливал в глушитель и покачиваясь с боку на бок, тяжело развернулся, чтоб выехать на асфальт.
Девушка с короткой стрижкой и в линялых спортивных брючках подошла к Тане.
– Где же вы пропадали! Целая пачка писем до востребования… И все одним и тем же почерком! – сообщнически подмигнула Тане молодая служащая почтового ведомства.
– А меня не интересуют эти письма. Отправьте их, пожалуйста, по обратному адресу, – очень внимательно посмотрела Таня в глаза девушке в спортивных брючках. Хоть та и была ответственным служащим ответственного почтового ведомства, она медленно и понимающе кивнула. Она была молода и понимала, что расспрашивать о чем-то тут совершенно излишне.
Море
По вечерам море светилось. Мерцающий, едва различимый свет его, если долго смотреть на воду, где-то у ночного горизонта сливался в сплошную, узкую и белесую полоску. Дневная пыль садилась медленно и запах ее смешивался с дуновениями от цветущих акаций, кисловато-хвойного настоя туи.
Люков, любивший в эти часы бродить вдоль побережья и слушать рокот прибоя, каждый раз удивлялся тому, что здесь, где сейчас было так пустынно и одиноко, днем все кишело от отдыхающих из пансионата, приезжих на автомобилях горожан, от дикарей, вылезающих, точно из берлог, из своих палаток. Издали берег представлял собой сплошное месиво человеческих тел, ярких купальников, зонтиков, шляп и импровизированных тентов из трещавших на ветру белых простыней, привязанных к палкам и колышкам. Берег оглашал визг ребятишек и транзисторов, громовой хохот молодежи, то там, то здесь собирающихся в круг «покидать мяч».
Из конторы, где Люков ревизовал бухгалтерию – когда становилось невтерпеж от неподвижного зноя – шел он один к морю, чтоб, как называли это дамы в бухгалтерии, «окунуться». Ревизуемые дамы, не испытывая перед своим ревизором никакого трепета, – тащить тут было нечего и дело велось чисто – сперва приглашали его с собой на пляж. Но не почувствовав в нем желания ухаживать или хотя бы забавлять их, они вскоре махнули на него рукой. И словно его и не было в комнате, они целый день толковали о пустяках – о босоножках, которые на прошлой неделе привезли в сельпо, о ценах на фрукты, которые на рынке по утрам будто бы ниже на целый гривенник, о десятках других пустяках, о которых обычно толкуют женщины. Люкова всегда удивляла не то, чтобы сама по себе мелочность женских интересов, однообразие их разговоров, одни и те же готовые слова и фразы, высказываемые под видом суждений, мыслей и мнений. Могло показаться, что женщины эти никогда ничему не учились, ничего не читали, а работа их занимала куда меньше замоченного дома белья или не пропылесосенного ковра. Ведь вот же щелкают на счетах, крутят арифмометры, а о своих пустяках (как вывести пятно на юбке, и сколько сахару надо, чтоб засыпать три килограмма вишни) толкуют, как о главном. Ведь ни слова о работе! Будто делается она механически, как чистят картошку или перебирают горох. А ведь одна из дам числилась не просто бухгалтером, а экономистом, а другая кончила известный столичный институт.
Едва Люков заговаривал о том, что средства не реализованы, что в их необоротности бухгалтеры повинны не меньше руководства, что цифры на бумаге у хорошего бухгалтера могли стать детской комнатой и душевой, спортплощадкой или прогулочной яхтой, – дамы умолкали, обиженно поджимали губы, лица становились отчужденными: зачем, мол, это он говорит? Они искренне это принимали за ревизорскую вредность и человеческую занудистость. Люков умолкал, чувствуя себя жалким и одиноким. Ему было досадно, что и ему, и вероятно сотням других мужчин приходится нелегко в этой… женской жизни, где нужно вести пустые разговоры, рассказывать анекдоты, быть забавником, а главное, никого не задевать. «Нет, – думал Люков, – нельзя было дать столько воли женщинам. Мужчины стали их побаиваться, губится творческое начало и растет антагонизм».
Командировка Люкова не была точно ограничена сроками, и он с удовольствием пробыл бы еще неделю у моря. Не каждый год выпадает такая командировка, но пансионатская комната-общежитие, куда его поселили, ему действовала на нервы. Четверо парней, возвращаясь поздно с танцев или кино, будили его громкими разговорами, хлопаньем дверей, тем, что зачем-то зажигали свет (ну, зачем зажигать его, если всего-то дела, что стянуть с себя рубашку, скинуть брюки и бухнуться на койку?). Парни тут же засыпали крепким сном молодости, а Люков долго маялся бессонницей и никак не мог уснуть. Он тихонько вставал, выходил из комнаты и подолгу бродил на высоком обрывистом берегу.
Особенно страдал Люков от одного парня, волосы которого казались проволокой, завитой в мелкие жесткие колечки. Это был до того общительный и громкоголосый парень, что он до поздней ночи мог спорить, так шумно вскакивая и садясь на постель, что койка стонала и ходила ходуном под его большим телом. «Архар-Меринос», – так прозвал его про себя Люков, – каждый раз извинялся, умолкал на минуту – другую, тут же забывал о просьбе Люкова – и продолжал спорить, громко доказывать – кто кого из футболистов за пояс заткнет, давал безапелляционные прогнозы на проигрыши и выигрыши команд и даже совал в темноту свою загорелую и волосатую руку: «На пари!» «На что?» «На коньяк!» Казалось, что не человек говорит, а в темноте без конца взрываются петарды.
И дальше разговор перескакивал на коньяк, на разные марки его, каждый из соседей Люкова спешил зарекомендовать себя знатоком и в этой области: говорили на сколько слоев дубовых опилок выстаивается каждая марка коньяка, о крепости, о вкусе. Люков слушал и мучился вопросом, – «Зачем им этот коньяк? Ведь не пьют его, как и в футбол не играют, – а вот надо же: запоминать… сколько слоев опилок!». Страсть запоминать у молодых вообще поражала Люкова. Они называли цифры ставок на беговых лошадей, фамилии обкомовских деятелей и киноартистов, скорость дельфинов и подводных лодок, витки вокруг Земли каждого космического корабля у нас и у американцев, и статистические данные из статей по демографии. Они, вероятно, много читали, но чувствовалось, читали все без разбору, и главное, как будто только затем, чтоб запомнить и произносить вслух. «А где же свои мысли? Собственное отношение, чувство духа, вещей и жизни?» – думал Люков, прикрывая дверь и уходя к морю.
Особенно тяжело приходилось Люкову, когда Архар-Меринос, приходя позже других, с шумом вламывался в комнату (просто войти он не мог – ему обязательно нужно было вламываться, хватив дверью, точно из пушки пальнул), тут же прогорланив свое «братцы!» (он всегда почему-то говорил со всеми сразу, не обращаясь ни к кому конкретно), щелкал выключателем и шумно жуя, или треща газетой с большим энтузиазмом принимался громко, захлебываясь, читать и комментировать какое-нибудь место в газете. Но самое неприятное для Люкова наступало после щелчка выключателем, когда Архар-Меринос рывком стаскивал с себя рубашку и долго брызгал одеколоном на жестко-торчащие вихры, подмышки и грудь.
У Люкова тут же начинала болеть голова, он задыхался от душного запаха одеколона. Он уже не просил этого не делать, потому что уже просил об этом несколько раз, но все повторялось. Люков знал, что у Архара-Мериноса это вовсе не рассчитанный эгоизм, что других соседей по комнате одеколон вовсе не трогает, и, следовательно, все дело в нем самом, в Люкове, в его уставших нервах, шестом десятке, закосневшей привычке к одиночеству, опрятности и тишине. И от этого ему становилось еще грустнее и давила глухая боль, сдавливала грудь.
Он умел судить себя без снисхождения. Под ним, внизу рокотало пустынное и темное море, украшенное кое-где белесыми гребешками; и он думал о том, что этих молодых людей учат много лет в школах, в институтах, они многому научаются, кроме разве одного, снисхождению к старости. Ведь, вот же уступают эти же парни место старику в метро и трамвае, как уступают женщине с ребенком. А вот разговор зайдет о воспитании, уважаемые люди, пишущие умные книги и дельные статьи никак дальше не идут от завязшего в зубах… места в метро! А почему бы не научить их не горланить по ночам, не зажигать свет, когда другие спят, не захлопывать с пушечной пальбой двери, не угощать посторонних громкими разглагольствованиями о пустяковых вещах…
Как-то в субботу Люков задремал днем на пляже. Не удивительно, – после «одеколонных прогулок» по ночам, он не высыпался, все время чувствовал себя уставшим и порой шел на работу, едва переставляя ноги. Разбудил его громыхающий транзистор. Молодые девушки расположились рядом, расстелив вылинявшую дорожку или коврик. Они оживленно о чем-то толковали, давились от беспричинного смеха. Люков уважительно попросил девушек убавить громкость или пойти в другое место. Ему тут же, довольно грубо, указано было, что «место не куплено», что «спать нужно ночью», наконец, что «музыка не запрещается».
«Музыка! – думал Люков, – и этот пупукающий грохот они называют «музыкой!». А главное, сами ее не слушают… Но разве уступят? «Не запрещается». Будто все дело в том! По телевидению ведут прекрасные передачи – и о памятниках старины, и о стилях индийского танца, а вот ни разу он не слышал беседы о том, как людям надлежит жить в больших коммунальных домах. Даже в субботнее утро, эдак часов в семь-восемь, иной молодой бодрячок выставит магнитофон свой на подоконник и весь квартал изволь просыпаться, изволь слушать дурные записи дурной музыки. Ни сна тебе, ни книжки, ни спокойно о чем-то подумать. А то какая-то мамаша с энного этажа начинает руководить своим малышом, гуляющим внизу. Громогласное руководство затягивается надолго. «Саша, не бери кошку! Саша не брызгайся водой! Саша! Саша!». Будто кроме пятилетнего Саши и этой дебелой мамаши нет больше людей на свете! Неужели этой мамаше ни разу не пришла в голову простая мысль, что она причиняет неприятности людям? Но ведь и впрямь не приходит! Потому, что голос ее становится повседневным бедствием для многих. Кому же как не телевидению, наконец, следует объяснить мамаше, что она ведет себя недостойно. Да что там мамаши! А дворничихи, блюстители чистоты и порядка ведут себя лучше? С шести часов, как вышли на улицу, все уже не спят. Самые дорогие утренние часы сна – погублены. Ну ладно этот, скрежещущий об асфальт дюралевый скребок (неужели ради убранного от снега тротуара тысячи людей должны жертвовать своим утренним сном?). Дворничихи горлопанят, как на майдане, перекликаются, так шумно разговаривают друг с другом, что все лежат в постелях и мучаются…
Другие аудиокниги автора Александр Карпович Лиаанов
ЛЕДОХОД




 0
0