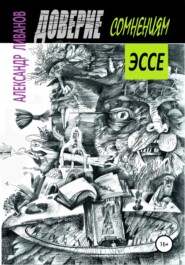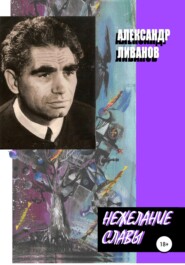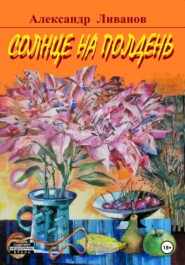По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой конь розовый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На телефонном узле о деньгах впервые слышат. За три года тоже сменилось несколько начальников… «Да что вы такое говорите! Знать не знаем! Кому платили – с того и спрашивайте!». И в бухгалтерии – то же. Концы в воду. Идиомы и метафоры». Нет телефонов – ждите в общей очереди!..
Легко сказать: «ждите!» Как люди когда-то жили без телефона? Уму непостижимо! И стал я бегать к автомату. Одной «двушкой» не позвонишь: то автомат их проглатывает – точно пенсионер таблетки. Надеясь ими вернуть себе молодость, то – «вышел», «позвоните еще раз», «Иван Петрович на совещании». Нужны «двушки»!
Наш дом уже ожесточил всех, у кого только бывают эти «двушки»: лотошниц, киоскерш, кассирш… Норовишь обменять себе в убыток – отдать за «двушку» семишник, за несколько – гривенник и еще поблагодарить, фальшиво расчувствовавшись… Кончилось, на всем свете больше нет их в помине, двухкопеечных монет! «Отстаньте! Надоели! Ваш дом уже в печенках у всех сидит!» – отчитывают нас разменщицы.
Ясное дело, с кем-то стыковались по-крупному. Рублевый счет с кем-то. Упредили. Все грамотные, все догадливые. Знать, все хотят жить – нет, хорошо, хотят жить!.. Эпитеты, метафоры, идиомы… Куда уж там: целые присказки да притчи!..
Куда идти? Куда идти? «Кому нести кровавый ротик, у чьей постели бросить ботик и дернуть кнопку на груди? Куда идти? Куда идти?» Ах, поэзия! Даже ты – вопрошаешь – не отвечаешь!
Знаю куда! Как же это я раньше не допёр! Не додул, не смикитил, зря скрипел мозгой… Идиомы-метафоры-эпитеты! На что-то и мне должен ведь пригодиться божий храм! Этот великолепный бело-голубой шатер, которому со всех сторон закрыли небо железобетонные башни. Куда только делось его старо-сокольническое благолепие! Смущен, смущен храм этими непрошенными железобетонными соседями. Как-то заглянул в энциклопедию: построен в 1913 году архитектором Толстых: всего-то четыре года до революции. Какая недальновидность!.. А теперь «моральное истребление», как говорят архитекторы.
Жаркий июнь – время тополиного пуха. Асфальт пружинит под ногами как торфяной наст. Вокруг церкви не видать старушек-«божьих одуванчиков». На них ныне держится вера. Тщедушные, в черном, точно грачи, они в дни служб так и липнут к храму, к дебелому «отцу Ивану». Ими полны скамейки в саду, церковный двор, сама церковь. Дверь в храм открыта – проветривает свои каменные внутренности…
Поднимаюсь на ступеньки, вхожу. Пусто… Ан – нет: свято место пусто не бывает! Идиомы, метафоры, присказки. Вот они, «божьи одуванчики». Три старушки – одинаково тщедушненькие, одинаково в черном, стоя у высокого стола – быстро-быстро пересчитывают медь. Она прямо-таки шелестит, журчит в их сухоньких пальцах.
Ловко сортируют курганчик меди, горсточками разгребают, точно курочки, золотистый сухой навоз, считают, пришептывая впалыми устами…
– Вам чего! – сквозь остаток зубов прошипела одна. Остальные тоже перестали считать. Вид у всех – более, чем неприязненный, словно застал их всех в бане. Или свершил подобную непристойность.
– Простите пожалуйста… Хотел попросить – поменять рубль… На «двушки». То есть – на двухкопеечные монеты… Звонить, то есть…
Я всегда теряюсь, когда учую неприязненность. Сам себе противен, но ничего с собой не могу поделать.
Но, кажется, все же поняли. Молчаливое – взглядами – короткое совещание. Успеваю заметить, что взгляды двух устремлены на третью. Старшая! Ответственная! Доверенная! Всюду она, знать, явная, выставленная, или незримая, но сущая «субординация». А эта старшая (ответственная и доверенная) уже уставилась на меня. Господи, сколько жесткой колючести в этом взгляде старой ханжи. Скажи лишь, отец Иван, – она меня, не жуя, проглотит!
– Вы кто такой?
– Ну как вам сказать… Такой же православный, как вы… Помню, мать рассказывала, что меня крестили. Какая ей тогда выгода была брехать?
Я, видать, плохо играл. Когда люди считают деньги, да еще – не людские уже, божеские – какие могут здесь быть шутки!.. Голос мой все же был неуверенным. Не годится вообще такой голос для шуток. Он настраивает против себя. Вот так всю жизнь – понимаю, но не умею. Может, поэтому – понимаю? Неуклюжий я человек. Хоть «двушек» наменять – хоть квартиру получить. Сразу видно, что я из тех кому можно отказать. Вообще можно указать на дверь… Будешь тут иметь твердый, уверенный голос – как бы не так!
– Не положено! – отрезала старшая. – Чего выдумали – в господнем храме деньги менять! Ступайте себе с богом: сказано – не положено!
Я поплелся из боковушки в притвор, затем на паперть. Навстречу мне поднимался отец Иван. Впрочем, никакой ни «отец». В обычном костюме, очень дородный и рыхлый мужчина с широким бабьим лицом, с полными и свежими, женскими же, губами. Настороженный светло-синий взгляд изобразил доброжелательное участие. Остановившись на паперти, отец Иван, пусть и без облачения еще, вел себя снисходительно, как подобает пастырю. Он, наверно, застиг меня в тот момент, когда я то ли шептал, то ли в самом деле произносил вслух приставший ко мне фатально-мистический монолог: «метафоры, эпитеты, идиомы». Что-то и вправду слышу их все чаще, и все чаще сжимается душа от чувства усложняющейся для меня жизни. Трудно мне с моей непосредственностью, ранимостью, простотой…
Может все это прочитал на мне проницательный пастырь, духовная особа как-никак – отец Иван? Он самодовольно погладил свою небольшую, опрятную и мягкую – профессорскую бородку.
– У вас какое-то дело?
– Понимаете, отец Иван, – на всякий случай улыбнулся я, стараясь, чтоб улыбка не вышла обидной. Какой он мне – «отец Иван»? Но – надо же как-то называть человека. Еще раньше слышал, что так зовут пастыря в этом храме Воскресения. – Понимаете, – просил поменять монеток для телефона-автомата… Литераторская жизнь… Ад… Пишущих тьма, редакторов еще больше. На марки вся пенсия уходит! Им легше возвращать, чем мне посылать. У них марки казенные… Стал теперь звонить. Хоть какое-нибудь знакомство. Главное, – может, все же прочитают… «Нет, не читал! Не видел! Посмотрю! Позвоните через неделю!». Понимаете – это уже что-то… Это уже надежда… И вот хотел поменять – а мне: «Не положено!». Вот уж не ждал услышать в божьем храме! В миру, у нас, то есть, отец Иван, – обрыдло[20 - Обрыдло – опротивело, сильно надоело. (Прим. ред.)] мне это «не положено!». Да и ханжи они, ваши активистки! Посудите сами: считают деньги, а поменять, мол, «в божьем храме не положено!» Всю жизнь слышал про ханжество церкви – и вот довелось-таки самому убедиться!
Отец Иван как-то хрюкнул. Потом сыто расхохотался. Смеялся долго, будто после хорошего анекдота.
– Причем же – церковь, если дела-то людские, человеческие! Пойдите, скажите от меня. Поменяют… Я там буду… Присяду. Жарынь – как в духовке…
«Отец Иван» – точно пароль сработало незамедлительно. В три пары рук, быстро, с тем же пришептыванием, мне было отсчитано на целый рубль двухкопеечных монет…
Сидевший на лавочке под навесом боярышника отец Иван меня поманил к себе. Шевельнул своим большим телом, обозначив этим, что освобождает для меня место и приглашает присесть. Он вытирал платком под воротником ковбойки грудь, обросшую золотистой кудрявой порослью. Сквозь эту шерстку смутно проглядывала тщательно сделанная наколка – корабельного колесо-штурвала… Он нисколько не стеснялся колеса этого – мне даже показалось: ждал вопроса по поводу этого морского атрибута.
Наконец он спрятал платок в карман пиджака и обернул ко мне широкое лицо.
– Трудное ваше дело! Понимаю… И всегда-то трудным было, а теперь, при общей грамотности, особо… Понимаю. Сам когда-то пробовал. Это вроде в лотерею выиграть автомобиль… Нет, есть у меня деньги, и автомобиль… А вот хочу выиграть. Фортуну пытаю! Покупаю билетов, поверите, на четвертной… А хоть бы што… А все одно – покупаю. Какой-то интерес все же… А на счет ханжества – это вы зря! Вот расскажу вам… То ли быль, то ли притча. Откуда же запомнилось мне!.. При царе-освободителе было. Либерал был, каких мало! Вот и укокошили его… Но не об этом речь. Развитие капитализма, торговля, корабли и все флаги к нам… Всякое такое, значит… Мужчин все больше на оброк, в городах обретаются, от семей оттягаются. Ну, ладно… Пошли «заведения». Бордели, в общем. Пошли, да все больше пошли…
Губернаторы православные наши и пишут православному же царю своему. Как, мол, быть? С христианским каноном не совмещается. «Да прилепится жена к мужу своему…» как же – прилепится, если он отлепился? В заведения похаживает? Безобразие ведь? Не запретить ли?.. Святыня брака, нравственность. Хорошо, грамотно пишут!
Что стоило царю – запретить? Ан – нет. Либерал! Он и – не будь дураком – спихнул запрос священному синоду. Либерал и еще этот… демократ немного! Как решите – так тому и быть. Вот и задумались святые особы. Ученые священнослужители. Доки богословия… И что же думаете – закрыли? Ханжами себя показали? Отписали государю. Так мол и так. Оно бы хорошо, чтоб не было безобразия. Чтоб не расходилось с каноном. Но тогда будет свальный грех, будет всеобщий разврат. Семьи начнут рушиться. Совратят и жену нашу, и дочь нашу, и сестру нашу! Вся жизнь будет – сплошным заведением! Поэтому счесть заведение – спасением и для семьи, и для добродетели, и для государства. Чтоб не было этого Содома, чтоб муж остался – мужем, жена – женой, а дети – детьми, пусть он светит красный фонарь в укромном месте. Пусть за ним следят полиция и врачи. «К факту существования этих заведений и религии и администрации должно отнестись с терпимостью». Отсюда и «дома терпимости». Ханжество? То-то ж, что нет! Жизненно рассудили! Взяли на себя. И грех, и ответственность!
– Не хотите ли сказать… – я воздержался от «отца Ивана» – что и ныне следует вернуться к «факту существования» и «отнестись к нему с терпимостью»?
– Вот этого я вам не скажу! И мы, священнослужители, уже не те! Тоже не берем на себя!.. Перестраховка!.. Субординация!.. Как выше решат… Задираем головы и киваем… Делай, что велят… Легко и вольготно так…
– Метафоры, идиомы, притчи…
– Чего?
– Да нет… Это я про себя… Спасибо. За размен. За притчу.
– А может быль. Откуда-то ведь взялось в башке! Ну, отдохнул маненько. Пойду облачаться… В свою спецовку, так сказать. Вечерню служить… Знаете, у мартена смену выстоять, наверно легше. Скажете, никто не заставляет? Ну, как сказать… Ведь худому не учим… Не убий, не укради, люби ближнего свово… Всякое такое. Пусть хоть пятый-десятый внемлет – и то: какая польза! И молодые к нам ходят! Ваша, стало быть, напряженка и недоработка!
Отец Иван лихо, совсем по-молодому мне подмигнул. Поднялся – скамейка облегченно ёкнула своим грузным телом – и направился к входу в храм. На миг обернулся.
– Заходите! Нет, я в смысле – поменяем! Или вообще – в охотку… Любое дело лишь в охотку делать стоит! Не так ли? – И совсем современно затрепетал пальцами поднятой руки…
Операция у Федорова
Ларисе Павловне ее землячка и даже дальняя родственница – седьмая вода на киселе – уже порядком надоела. Она уже не чаяла того дня, когда та соберется и уедет в свою Ярославщину. Она бы давно указала дверь этой «липовой» родне, если бы гостья не ждала вызова знаменитого профессора Федорова, кудесника, возвращающего людям зрение. Со всего белого света едут и едут к Федорову. Не профессор – какой-то целый завод, по сотне операций на день! Вот это ученый, вот это профессор. Не то, что она сама, Лариса Павловна, доктор исторических наук… Что же она – не знает (про себя каждый правду знает!), что вся ее ученость «липа»? Две-три тощих книжицы, с десяток статей: вот и вся ее «наука». Докторскую защитила по Куликовской битве. Круглая дата подошла, институту надо было показать «научную работу» – вот и пошла ее диссертация… Это когда-то говорилось – не подталкивай судьбу под локоток! То ли из совести, то ли из суеверия… Другие времена, другие люди были. Ныне – не то, что под локоток, на себе ее тащишь… «налыгачем». То есть на веревке, как упирающуюся корову. Это кандидат Морозов так сказал: «налыгачем». Он же и посоветовал ей заняться к юбилею Куликовской битвой. Пожалуй, единственный человек в институте, который серьезно занимается наукой. Он любит историю, читает такие книги, которые ей и не снились. Какой-то древний монастырский хлам – а у него даже стекла очков блестят от восторга! Будто стихи Беллы Ахмадуллиной читает. И ведь церковно-славянский изучил – свободно читает. Черт рыжий! А душа – бескорыстная. Кому еще, как не ему быть доктором! Ей подсказал проходимую тему, а сам, видать, пребудет вечным кандидатом. Уж он-то себя не тащит «налыгачем». Ее работы, по правде говоря, любой бы грамотный человек написал. А если б журналист или писатель – так и вовсе хорошо было бы. Художественно написали б, без этих «аспектов», «концепций – все бы читали!..
И вот, как снег на голову, землячка и родственница. Тетка ей навязала эту Матрену Лукьяновну. Плела-плела в письме про родню, про то, что ее в войну выручали, «добрая и вообще женчина».
Правда, не сидит без дела Матрена Лукьяновна. И постирушку сделает, и паркет натирает, и, главное, с Рексом гуляет. Освобождает ее для «научной работы» и каждый раз удивляется, когда, возвращаясь из магазина или прогулки с Рексом, не застает Ларису Павловну за письменным столом. Простецкая вроде бы душа, а тоже с… фанаберией!.. Что за люди теперь пошли! Поистине, как у Толстого: «Всякий доволен своим умом, но недоволен своим состоянием». Ныне это – своим положением! Ведь спорщица эта Матрена Лукьяновна, каких мало… Надо же, все теперь: «сами с усами». «Нет, я с вами несогласная!». Это она, бывший колхозный счетовод, спорит с доктором наук… И надо уступать надо снисходительно улыбаться – иначе завязнешь в этом споре на весь вечер. Темперамент же у этой старой бобылки!
– Что ж вы, голубушка, опять не занимаетесь? А я старалась подальше выгулять пса, чтоб вам не помешать… – говорит пышущая красным лицом гостья, вешая на гвоздик в передней наборный повод Рекса и подталкивая самого пса на его подстилку.
– Да вы, пожалуйста, не беспокойтесь о моей научной работе! Право же, смешно… Вы думаете, ученый только за столом занимается своей наукой? Он ею занимается всегда, всюду – даже во сне!
Это слова Морозова. Правда, вместо «сна» у того, «даже в постели любовницы». Куда конь копытом, туда и рак клешней… Уж какая там любовница! Скажет и покраснеет. Настоящий доходяга. Тощий, длинношеий, кадык куриной гузкой – книжный червь… Туда же – любовница.
Крупная и пышнотелая Матрена Лукьяновна, гостья и землячка, отставная колхозная счетоводчиха и пенсионерша, плохо вписывается в небольшую двухкомнатную квартиру Ларисы Павловны, доктора наук и хозяйки Рекса. Плохо вписывается и своими крупными габаритами («такой бы рожать и рожать, а дура умудрилась остаться одной… И, наверно, даже старой девой… Уникум по нашим временам!»), и своими «деревенскими запахами», и, главное, своими суждениями. То ей Москва не нравится – «тут могут жить одни ненормальные!», то ей деревенские кажутся и вежливее и участливее, чем «бездушные москвичи», то еще, «все москвичи заняты черт те зна чем»…
Нет, надоела и надоела! А то еще заведется о своей персоне – как она ловко переводила выработку на «мягкую пахоту», как она умеет ловко кроить-шить… Или это черта старых дев (у Ларисы Павловны сын в офицерском училище. А муж… Но о нем не любит она вспоминать. Даже сына отучила о нем справляться): похваляться? Не будь этой операции на глаза – указала бы на дверь. Все же приехала не в Большой, не на Аркадия Райкина… Уж вытерпит. Как это Морозов говорит: «доброта должна быть от разума, а не от сердца: чтоб была надежней».
– Я вам вот что хотела, милочка, рассказать… – усевшись в кресло, взявшись за вязание и отложив его, загадочно-умильно смотрит поверх очков Матрена Лукьяновна. Лариса Павловна смотрит на вязание. Подвигается быстро, и это при таком зрении! Для нее же и затеяла гостья этот цветной пуловер. Нет, и вправду милая вещица получится.
– Дело прошлое… Чего уж там… Отец ваш покойный, уже женат был на вашей матери, а вы были вот такой, горшок и вершок, он был влюблен в меня…
Лариса Павловна даже откидывается. Что это она слышит! Поджала и без того тонкие губы, сложила руки на плоской груди, приготовилась слушать. Любопытно, мол, – очень любопытно!..
– Мать ваша, известное дело, всю жизнь активистка! То в сельсовете заседает – то раскулачивание и ликвидация кулака как класса, а то сплошная коллективизация и тоже сплошная ликвидация безграмотности… Все тогда было «сплошным»! Уж не обижайтесь, хоть и учительница была ваша мать, вроде бы пограмотней отца, а не любили ее сельчане…