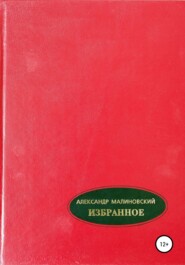По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прошло ещё полгода, Хризантему не торопились назначать начальником смены. Стало известно, что выпивает в рабочее время с дружками. Руководство занесло его в «чёрный список».
Многих сгубила спиртовая река, протекавшая в цехе на окраине завода. Ручейки от неё растекались по всему заводу. И не только…
«У реки – и не напиться!» – провозглашали даже уже начавшие тонуть. Их хватало лет на пять-семь. «Горели синим пламенем» и дым улетучивался в никуда… Приходили другие…
* * *
Два стихотворения Ковальского напечатали через неделю после последнего разговора с Шостко. Такой оперативности Александр не ожидал.
Свои стихи в областной газете он обнаружил случайно, просматривая подшивки в красном уголке общежития. Номер был прошлого дня.
Ковальский быстро оделся и выскочил на улицу. «У ресторана, в котором мы сидели с Владой, есть газетный киоск, ещё один стоит около кинотеатра! Где ещё? У нас на заводе на автобусной остановке. Где-нибудь да остался хотя бы один экземпляр», – соображал Ковальский, шагая наискосок через двор к киоску «Союзпечать» в начале главной улицы города.
Нужной газеты в киоске не было. Он скорым шагом направился на площадь. И там не оказалось. Около кинотеатра ему повезло.
– Вот три газеты остались, – сказала полная чернявая девица и равнодушно зевнула.
– А ещё, посмотрите, нет?
– Куда ещё-то, солить, что ли?
Ковальский взял и, не удержавшись, в сторонке развернул одну из них.
«Раз газета опубликовала, то, может быть, стихи стоят того? То, что Шостко передал их, – это не по блату же? Не по протекции? Это совсем другое! Или и здесь: ты – мне, я – тебе? Так в искусстве не должно быть! Нет в этом опыта. Трудно разобраться».
* * *
Ковальский всё-таки решил побывать на заседании литературного объединения.
Непростое это дело – выкраивать время для поездок в областной центр при суматошной работе в три смены.
На четвёртом занятии дошла очередь до него.
– Знаете, в ваших стихах, как бы это сказать… – руководитель объединения пожевал губами, выдержал паузу и договорил внушительно: – не чувствуется знания жизни, не виден жизненный опыт. Всё слишком общее. Нет конкретики, без которой жизнь бедна, тем более – искусство.
– А какая конкретика нужна? – упавшим голосом спросил Александр.
Мэтр не спеша пояснил:
– Ну, вот, идёте по улице и у вас развязался шнурок на ботинке. Деталь?
Ковальский молчал, не понимая: надо ли отвечать и что отвечать?
– Деталь! – ответил сам себе наставник поэтической молодёжи. – Вот об этом и пишите!
– А что же тут писать? О чём? – удивился Александр.
– Ну, как? Об этом самом и пишите! Кстати, не пробовали писать прозу? – Завитушки дыма у курившего и одновременно говорившего человека, казалось, смешались в одно с его словами и получалось нечто искусственное и похожее на шаманство… – Попробуйте, у вас может получиться…
О шнурках Ковальскому писать не хотелось. Он решил, что такие занятия в литобъединении ему ни к чему.
Спустившись вниз, в холле второго этажа увидел известного поэта, у которого вышло уже несколько книг. Его имя в области на слуху.
«А-а, была не была», – решился Ковальский.
Поэт был не один. Рядом – холёная женщина с ленивыми грациозными движениями.
«Конечно, я, как с парашюта, сейчас на них прыгну. Не очень-то. Но куда мне деваться? Когда я ещё со своими рабочими сменами могу его встретить?»
Он не помнил отчества поэта, а по имени обращаться неудобно.
– Скажите, вы не могли бы посмотреть мои стихи?
«Боже мой, я, как Есенин в валенках перед Зинаидой Гиппиус. Сейчас спросят: что это у вас за гетры?»
Женщина томно и вяло взглянула на Ковальского и стала смотреть в окно.
Поэт с расстановкой, негромко выговаривая каждое слово, сказал доверительно:
– Молодой человек, я в своих стихах запутался. Никак не разберусь, а в чужих – и подавно… Извините…
«Барчук хренов, я ещё по стихам твоим тебя понял», – подумал Ковальский и двинулся к выходу.
Уже на улице, окинув взглядом огромное здание, из которого вышел, произнёс:
– Сюда я больше не ездок!
VIII
…Два раза вспыхивали, было, огоньки в личной жизни Ковальского, когда казалось, что он влюбился. Но быстро гасли. Становилось скучно. Не было того очарования, которое дарила Анна.
«Две женщины: Анна и Влада, каждая по-своему, выбили меня из колеи надолго, если не навсегда», – так Ковальский подумал однажды и вынужден был согласиться с этим. Он утратил желание с кем-либо встречаться.
«Не женюсь лет до тридцати – это точно, – спокойно подытожил он размышления. – Ведь это я себе ещё в школе определил. Забыл?»
А мать потихоньку, когда он приезжал, вздыхала:
– Больно уж раньше прыткий был, а теперь сидишь, как старичок… Долго ли так? Жены нет, сын живёт у родителей Анны. Ладно бы, Аня жива была, а то ведь нету её… И женой она тебе не была…
…Ковальский, хотя и определил себе холостяцкий срок до тридцати, но совсем не уверен: жениться ли вообще? Иногда на него находила хандра.
Он начинал подозревать, что по-настоящему счастлив не будет. Ему словно кто-то нашёптывал это. Часто не мог от этого голоса отделаться. Хотел быть счастливым, пусть не сейчас, пусть намного позже… Хотел и боялся счастья. Инстинкт подсказывал, что счастье недолго, потом может последовать крах. Так уже с ним было. Александр не хотел повтора. И себе не признавался, что начинает бояться такого счастья. Казалось, что сейчас уравновешенная жизнь важнее всего. Важно согласие, лад в душе.
«Хуже, чем старичок, – невесело усмехался он, помня слова матери. – Как она может так угадывать? Ей дано от природы? Она это говорила не только в связи с моим холостяцким образом жизни, её беспокоит моё неверие в жизнь. Я порой так остро чувствую каждый день, уходящий в никуда, в бездну, безвозвратно. И от этого мне не только грустно. Тоскливо. Жалею уже те дни, которые не наступили, которые ещё не прожил. И только моё дело, работа захватывает. Если работа навязывает властно свой ритм, тогда, на время, забываю о зыбкости жизни. И, может, это самые лучшие моменты моего существования? Да ещё встречи с сыном».
Приняв, что счастье быстротечно и обманчиво, и необходимы, видимо, какие-то особые свойства характера, чтобы быть готовым к этому обману, он не постигнул того, чего же ему не хватает. Перестав верить в возможность счастья, пытался холодно понять: это его прорыв в некую суть бытия? И это положительно? Или – ущербность натуры, и от этого многое теряется? Эта захватывающая душу размагниченность порой лишала воли к активной жизни. Но Александр знал: периоды грусти и тоски чаще всего предшествуют взрывам неодолимого стремления действовать, не жалея себя, чтобы потом радоваться зримым результатам! Таким тогда он себе нравился. Ему не нужны были похвала и одобрение окружающих.
* * *
Многих сгубила спиртовая река, протекавшая в цехе на окраине завода. Ручейки от неё растекались по всему заводу. И не только…
«У реки – и не напиться!» – провозглашали даже уже начавшие тонуть. Их хватало лет на пять-семь. «Горели синим пламенем» и дым улетучивался в никуда… Приходили другие…
* * *
Два стихотворения Ковальского напечатали через неделю после последнего разговора с Шостко. Такой оперативности Александр не ожидал.
Свои стихи в областной газете он обнаружил случайно, просматривая подшивки в красном уголке общежития. Номер был прошлого дня.
Ковальский быстро оделся и выскочил на улицу. «У ресторана, в котором мы сидели с Владой, есть газетный киоск, ещё один стоит около кинотеатра! Где ещё? У нас на заводе на автобусной остановке. Где-нибудь да остался хотя бы один экземпляр», – соображал Ковальский, шагая наискосок через двор к киоску «Союзпечать» в начале главной улицы города.
Нужной газеты в киоске не было. Он скорым шагом направился на площадь. И там не оказалось. Около кинотеатра ему повезло.
– Вот три газеты остались, – сказала полная чернявая девица и равнодушно зевнула.
– А ещё, посмотрите, нет?
– Куда ещё-то, солить, что ли?
Ковальский взял и, не удержавшись, в сторонке развернул одну из них.
«Раз газета опубликовала, то, может быть, стихи стоят того? То, что Шостко передал их, – это не по блату же? Не по протекции? Это совсем другое! Или и здесь: ты – мне, я – тебе? Так в искусстве не должно быть! Нет в этом опыта. Трудно разобраться».
* * *
Ковальский всё-таки решил побывать на заседании литературного объединения.
Непростое это дело – выкраивать время для поездок в областной центр при суматошной работе в три смены.
На четвёртом занятии дошла очередь до него.
– Знаете, в ваших стихах, как бы это сказать… – руководитель объединения пожевал губами, выдержал паузу и договорил внушительно: – не чувствуется знания жизни, не виден жизненный опыт. Всё слишком общее. Нет конкретики, без которой жизнь бедна, тем более – искусство.
– А какая конкретика нужна? – упавшим голосом спросил Александр.
Мэтр не спеша пояснил:
– Ну, вот, идёте по улице и у вас развязался шнурок на ботинке. Деталь?
Ковальский молчал, не понимая: надо ли отвечать и что отвечать?
– Деталь! – ответил сам себе наставник поэтической молодёжи. – Вот об этом и пишите!
– А что же тут писать? О чём? – удивился Александр.
– Ну, как? Об этом самом и пишите! Кстати, не пробовали писать прозу? – Завитушки дыма у курившего и одновременно говорившего человека, казалось, смешались в одно с его словами и получалось нечто искусственное и похожее на шаманство… – Попробуйте, у вас может получиться…
О шнурках Ковальскому писать не хотелось. Он решил, что такие занятия в литобъединении ему ни к чему.
Спустившись вниз, в холле второго этажа увидел известного поэта, у которого вышло уже несколько книг. Его имя в области на слуху.
«А-а, была не была», – решился Ковальский.
Поэт был не один. Рядом – холёная женщина с ленивыми грациозными движениями.
«Конечно, я, как с парашюта, сейчас на них прыгну. Не очень-то. Но куда мне деваться? Когда я ещё со своими рабочими сменами могу его встретить?»
Он не помнил отчества поэта, а по имени обращаться неудобно.
– Скажите, вы не могли бы посмотреть мои стихи?
«Боже мой, я, как Есенин в валенках перед Зинаидой Гиппиус. Сейчас спросят: что это у вас за гетры?»
Женщина томно и вяло взглянула на Ковальского и стала смотреть в окно.
Поэт с расстановкой, негромко выговаривая каждое слово, сказал доверительно:
– Молодой человек, я в своих стихах запутался. Никак не разберусь, а в чужих – и подавно… Извините…
«Барчук хренов, я ещё по стихам твоим тебя понял», – подумал Ковальский и двинулся к выходу.
Уже на улице, окинув взглядом огромное здание, из которого вышел, произнёс:
– Сюда я больше не ездок!
VIII
…Два раза вспыхивали, было, огоньки в личной жизни Ковальского, когда казалось, что он влюбился. Но быстро гасли. Становилось скучно. Не было того очарования, которое дарила Анна.
«Две женщины: Анна и Влада, каждая по-своему, выбили меня из колеи надолго, если не навсегда», – так Ковальский подумал однажды и вынужден был согласиться с этим. Он утратил желание с кем-либо встречаться.
«Не женюсь лет до тридцати – это точно, – спокойно подытожил он размышления. – Ведь это я себе ещё в школе определил. Забыл?»
А мать потихоньку, когда он приезжал, вздыхала:
– Больно уж раньше прыткий был, а теперь сидишь, как старичок… Долго ли так? Жены нет, сын живёт у родителей Анны. Ладно бы, Аня жива была, а то ведь нету её… И женой она тебе не была…
…Ковальский, хотя и определил себе холостяцкий срок до тридцати, но совсем не уверен: жениться ли вообще? Иногда на него находила хандра.
Он начинал подозревать, что по-настоящему счастлив не будет. Ему словно кто-то нашёптывал это. Часто не мог от этого голоса отделаться. Хотел быть счастливым, пусть не сейчас, пусть намного позже… Хотел и боялся счастья. Инстинкт подсказывал, что счастье недолго, потом может последовать крах. Так уже с ним было. Александр не хотел повтора. И себе не признавался, что начинает бояться такого счастья. Казалось, что сейчас уравновешенная жизнь важнее всего. Важно согласие, лад в душе.
«Хуже, чем старичок, – невесело усмехался он, помня слова матери. – Как она может так угадывать? Ей дано от природы? Она это говорила не только в связи с моим холостяцким образом жизни, её беспокоит моё неверие в жизнь. Я порой так остро чувствую каждый день, уходящий в никуда, в бездну, безвозвратно. И от этого мне не только грустно. Тоскливо. Жалею уже те дни, которые не наступили, которые ещё не прожил. И только моё дело, работа захватывает. Если работа навязывает властно свой ритм, тогда, на время, забываю о зыбкости жизни. И, может, это самые лучшие моменты моего существования? Да ещё встречи с сыном».
Приняв, что счастье быстротечно и обманчиво, и необходимы, видимо, какие-то особые свойства характера, чтобы быть готовым к этому обману, он не постигнул того, чего же ему не хватает. Перестав верить в возможность счастья, пытался холодно понять: это его прорыв в некую суть бытия? И это положительно? Или – ущербность натуры, и от этого многое теряется? Эта захватывающая душу размагниченность порой лишала воли к активной жизни. Но Александр знал: периоды грусти и тоски чаще всего предшествуют взрывам неодолимого стремления действовать, не жалея себя, чтобы потом радоваться зримым результатам! Таким тогда он себе нравился. Ему не нужны были похвала и одобрение окружающих.
* * *