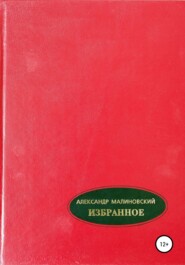По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда подошёл автобус, Влада у всех на виду поцеловала его в губы, притянув энергично за ворот куртки. И вскочила на подножку. Красивая и чужая.
– Ну, вот и всё, – неопределённо произнёс Ковальский.
Весь остаток вечера он хандрил, но, когда приехал на завод и принял смену, открылось второе дыхание. Вернувшись утром и проспав полдня, удивился: встреча с Владой была будто и не с ним. А если и была, то как во сне. Или как увиденный в кино кусок чужой жизни… в их невольном исполнении… Кто-то, против его воли, сотворил эту встречу. Поди угадай, для чего…
IV
Через два дня после свидания с Владой, едва войдя в общежитие, Ковальский услышал незнакомый завораживающий голос. Этот голос доносился из красного уголка, дверь которого открыта. Ковальский быстро приблизился и заглянул: зал полон. Мужчина лет сорока, рослый и смуглый, читал стихи.
Поражал его необычно высокий лоб и уверенная, покоряющая интонация. Когда он закончил, все громко зааплодировали. Послышались возгласы: «Ещё!».
– Хорошо, – сказал человек с высоким лбом, – прочту.
И снова зазвучал выразительный голос:
Многообразно зло природы!
Среди коричневых ночей,
Как тонкостенные триоды,
Мерцают головы врачей.
Он тоже вздрагивает,
Скальпель,
Он тоже, собственно, не бог!..
Перчатки содраны, как скальпы,
С усталых рук,
И левый бок
Щемит и жжёт —
Там бродит сердце,
Как непутёвая вдова.
Врачи, мои единоверцы,
Роняют горькие слова
О том, что снова опоздали.
В глаза не хочется смотреть…
И я смотрю в такие дали,
Что вижу собственную смерть…
– Кто это? – негромко спросил Александр подошедшего вахтёра.
– Владимир Шостко, наш. А этих, которые за столом сидят, писателей не знаю. Кажется, Павлов и Вятский. Так в объявлении значится.
Ковальский потихоньку прошёл в конец зала и сел.
…А где-то трещали фрегаты, фелюги
И вылезала наверх матросня
Крепить паруса,
Задраивать люки
И отпевать хрипловато меня.
Теперь-то он признал Шостко. Два его сборника у Ковальского были. Стихи поражали непохожестью на те, что обычно попадались на глаза. Но в своём общежитии увидеть поэта не ожидал, хотя и знал, что живут в одном городе и работает он врачом на «скорой помощи». Ему и в голову раньше не приходило попытаться встретиться.
Когда вечер закончился, Ковальский решил, что надо обязательно подойти к Шостко. Нельзя, чтобы так просто он ушёл. Живой поэт!
И подошёл.
– Владимир Владимирович, я – Ковальский Александр, инженер. Живу в этом общежитии, если не возражаете, можем подняться ко мне.
– Зачем? – бодро откликнулся поэт.
Ковальский сам удивился своему ответу:
– Поговорим. Есть водка и сало! Извините!..
Шостко непринуждённо расхохотался.
– И потом, я пробую писать стихи. Их накопилась целая тетрадка, – словно продолжая извиняться за грубую приземлённость сказанного, выдохнул Александр.
– Да? – Поэт посмотрел внимательно сверху вниз. – Тогда пойдём!
…«Не начинать же сразу со стихов», – думал Ковальский уже в комнате, доставая сало и водку.
Они выпили за знакомство и Александр подметил: «Пьёт, как нормальный мужик, и крякнул хорошо, по-русски».
– Владимир Владимирович, вы сейчас очень хорошие стихи читали, мне понравились. Но вот в сборнике вашем есть стихотворение, по-моему, называется «Монолог железа»…
– Есть такое! И вы помните?
– Я, может, что-то не понял, но вы говорите, что железо спасёт людей, мир?.. Это сомнительно. Есенин уже сказал, что, скорее, будет наоборот. И сам погиб от железного мира…
Шостко вскинул брови:
– Вы так прочли?
– Ну, да, а как иначе?
– Но там не мой монолог, а монолог железа…
И дело моё прекрасно —
Сделать их неприступней,
Чтоб не дразнила убийцу
Незащищённость спин, —
продекламировал поэт.
– А всё-таки?
– Доживём до… там у меня обозначен 3007 год – увидим.
– Ну, вот и всё, – неопределённо произнёс Ковальский.
Весь остаток вечера он хандрил, но, когда приехал на завод и принял смену, открылось второе дыхание. Вернувшись утром и проспав полдня, удивился: встреча с Владой была будто и не с ним. А если и была, то как во сне. Или как увиденный в кино кусок чужой жизни… в их невольном исполнении… Кто-то, против его воли, сотворил эту встречу. Поди угадай, для чего…
IV
Через два дня после свидания с Владой, едва войдя в общежитие, Ковальский услышал незнакомый завораживающий голос. Этот голос доносился из красного уголка, дверь которого открыта. Ковальский быстро приблизился и заглянул: зал полон. Мужчина лет сорока, рослый и смуглый, читал стихи.
Поражал его необычно высокий лоб и уверенная, покоряющая интонация. Когда он закончил, все громко зааплодировали. Послышались возгласы: «Ещё!».
– Хорошо, – сказал человек с высоким лбом, – прочту.
И снова зазвучал выразительный голос:
Многообразно зло природы!
Среди коричневых ночей,
Как тонкостенные триоды,
Мерцают головы врачей.
Он тоже вздрагивает,
Скальпель,
Он тоже, собственно, не бог!..
Перчатки содраны, как скальпы,
С усталых рук,
И левый бок
Щемит и жжёт —
Там бродит сердце,
Как непутёвая вдова.
Врачи, мои единоверцы,
Роняют горькие слова
О том, что снова опоздали.
В глаза не хочется смотреть…
И я смотрю в такие дали,
Что вижу собственную смерть…
– Кто это? – негромко спросил Александр подошедшего вахтёра.
– Владимир Шостко, наш. А этих, которые за столом сидят, писателей не знаю. Кажется, Павлов и Вятский. Так в объявлении значится.
Ковальский потихоньку прошёл в конец зала и сел.
…А где-то трещали фрегаты, фелюги
И вылезала наверх матросня
Крепить паруса,
Задраивать люки
И отпевать хрипловато меня.
Теперь-то он признал Шостко. Два его сборника у Ковальского были. Стихи поражали непохожестью на те, что обычно попадались на глаза. Но в своём общежитии увидеть поэта не ожидал, хотя и знал, что живут в одном городе и работает он врачом на «скорой помощи». Ему и в голову раньше не приходило попытаться встретиться.
Когда вечер закончился, Ковальский решил, что надо обязательно подойти к Шостко. Нельзя, чтобы так просто он ушёл. Живой поэт!
И подошёл.
– Владимир Владимирович, я – Ковальский Александр, инженер. Живу в этом общежитии, если не возражаете, можем подняться ко мне.
– Зачем? – бодро откликнулся поэт.
Ковальский сам удивился своему ответу:
– Поговорим. Есть водка и сало! Извините!..
Шостко непринуждённо расхохотался.
– И потом, я пробую писать стихи. Их накопилась целая тетрадка, – словно продолжая извиняться за грубую приземлённость сказанного, выдохнул Александр.
– Да? – Поэт посмотрел внимательно сверху вниз. – Тогда пойдём!
…«Не начинать же сразу со стихов», – думал Ковальский уже в комнате, доставая сало и водку.
Они выпили за знакомство и Александр подметил: «Пьёт, как нормальный мужик, и крякнул хорошо, по-русски».
– Владимир Владимирович, вы сейчас очень хорошие стихи читали, мне понравились. Но вот в сборнике вашем есть стихотворение, по-моему, называется «Монолог железа»…
– Есть такое! И вы помните?
– Я, может, что-то не понял, но вы говорите, что железо спасёт людей, мир?.. Это сомнительно. Есенин уже сказал, что, скорее, будет наоборот. И сам погиб от железного мира…
Шостко вскинул брови:
– Вы так прочли?
– Ну, да, а как иначе?
– Но там не мой монолог, а монолог железа…
И дело моё прекрасно —
Сделать их неприступней,
Чтоб не дразнила убийцу
Незащищённость спин, —
продекламировал поэт.
– А всё-таки?
– Доживём до… там у меня обозначен 3007 год – увидим.