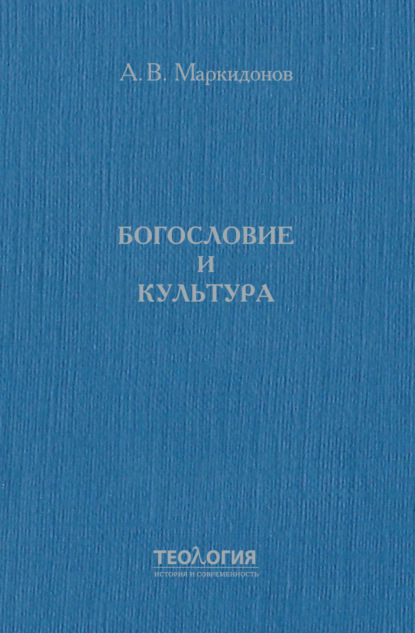По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Богословие и культура
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Богословие и культура
Александр Васильевич Маркидонов
Теология: история и современность
В монографии кандидата богословия, доцента кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Александра Васильевича Маркидонова рассматривается проблематика византийских и русских культурно-исторических реалий, в своем собственном содержании так или иначе соотнесенных с традицией богословской мысли и с характером религиозного сознания.
Смысло-положение философии, художественно-эстетического творчества, культуры школы и склада политического сознания опознается и исследуется в свете православного богословия. Именно в рамках богословия явления культуры, даже если их зависимость от него перестает быть наглядной, тем не менее определяют себя – либо как нетривиально расположенные к богословию и ему созвучные, либо с ним разноречащие.
В основу книги положены работы автора, ранее опубликованные в виде статей.
Монография рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблематикой взаимоотношения богословия и культуры.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Маркидонов
Богословие и культура
© А. В. Маркидонов, 2022
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2022
Вместо предисловия: вводные замечания к вопросу о соотношении культа и культуры
Обыкновенно в нашем христианском отношении к художественной культуре возникают (и надо бы заметить – должны возникать!) две трудности, две потенциально присутствующие в самом нашем восприятии культурной реальности крайности. В одном – крайнем – случае представляется единственно религиозно-оправданным отказаться от культуры, раз уже есть культ, а в нем – реальное и исчерпывающее осуществление общения человека с Богом (точнее – Бога с человеком), а значит – спасения в жизнь вечную.
В другом – крайнем – случае культура мыслится и переживается как некая эманация культа, его ино-бытие, его экстенсивное распространение, и тогда – по отношению к культу – речь идет не об иной природе творческого события в культуре, а всего лишь об ином тонусе, ином модусе того же самого – одного и того же – события Богообщения.
В первом случае культура осознается и расценивается как радикальное отпадение от культа, – с ним разделение; во втором случае она оказывается реальностью, по существу от культа неотличимой, его как бы продолжающей, а на определенном этапе истории и самосознания его и подменяющей.
В случае радикального разобщения культа и культуры психологически (а потом и исторически) оправданным представляется от культуры отказаться, ибо достаточно культа, все остальное – «от лукавого».
В случае столь же радикального неразличения культа и культуры актуализируется естественная в этом случае склонность удовлетвориться одной культурой, ее тем самым сакрализовать, возвести в культ.
В первом случае игнорируется тот факт, что культ, Таинство – так же, как и культура – в его человеческом вос-приятии есть известное духовно-значимое движение – событие возрастания, границы которого заданы Традицией, но само оно – как воз-растание именно – не обеспечено магически (юридически или психологически); или, выражаясь иначе, Таинство есть именно событие, действительность которого дана, а действенность лишь намечена и осуществляется синергически, т. е. как реальность Бого-человеческая, и уже тем самым нешуточно открытая к истории и культуре, осуществляющаяся в самой истории, хотя и выше-естественно.
Во втором случае игнорируется то важное обстоятельство, что эта «всамделишная» открытость, если угодно – заинтересованность (от inter-esse) Таинства нашего спасения в культуре, совсем не означает их (Таинства и культуры) однородности. Культ, пребывая и осуществляя себя в пространстве истории и культуры, будучи к ним открыт сотериологически (в ожидании обращения и спасения многих), в этой самой открытости принципиально отличен от них онтологически, по природе того общего всем события спасения, которое, однако, именно и только в культе имеет свой единственный Божественный источник.
Между двумя названными крайностями – разделения или неразличения культа и культуры – тесный, но поистине царский путь, во-первых, аскетического, а уже во-вторых, и эстетически значимого различения.
В культе единственный источник, основание, кроме которого (по апостолу Павлу) невозможно положить другого, «которое есть Иисус Христос» (1 Кор 3:11); в культуре более или менее, или совсем не-сообразное этому основанию (Основанию!) движение, событие возрастания (или в себе коснеющего расточения) человека в ответ на Откровение Бога – на Боговоплощение. Но именно потому, что и в пространстве культуры совершаются судьбы нашего спасения, это пространство приобретает всю ту (и всё ту же) напряженность и ответственность различения. В этом пространстве все в движении; если угодно, оно само есть это движение, возрастание в полноту, во Христе и Церкви открывшейся царственности бытия.
Но изнутри себя самого – самим собою – движение культуры или культура как некое целокупно (нравственно, эстетически и религиозно) устрояемое движение сущего принципиально не обоснована: ведь обоснование, подлинное начало всякого творчества – в самом Творце. Правда, человеческая культура (как и судьбы нашего спасения) столь неоднозначна, столь подвижна – и в этой своей подвижности обращаема до превратности, – что и самая эта необоснованность, самый даже разрыв с какою бы то ни было метафизикой и онтологией вообще может оказаться для культурно-эстетического сознания способом самоосуществления. В этом, в такого рода возможности некоторым художественным образом оформлять не-бытие, в этой продуктивности меонического в культуре – как ее страшный потенциал, так и огромная опасность. Иначе говоря, и потенциал, и опасность культурного творчества в том, что оно – будь то слово или музыка – всегда больше, чем оно само: всегда существенно отнесено к Первоисточнику бытия.
В древности (в том числе и собственно-христианской древности) эта соотнесенность Первоисточнику по-разному, но одинаково принципиально носила исходный для человеческого творчества характер; эта соотнесенность целокупности бытия изначально конституировала, пред-оформляла человеческое творчество. Очень важно в данном случае представить себе, насколько возможно четко, различие между тем, как (в Новое время) соотнесенность Целому (большему и высшему) может входить в художественное произведение, например, на правах его ведущей темы или телеологически значимого образа, и тем, как такая соотнесенность Целому именно конституирует, (изначально, как бы еще до-эстетически) ориентирует самый творческий процесс. В последнем случае по существу своему религиозное благоговение перед жизнью, уважение к Целому вовсе не предопределяет собой тематики произведения, не связывает эстетической воли художника, а напротив, ее освобождает и оформляет – так или иначе – внутри этой свободы, которая всегда, будучи подлинной, а значит, онтологически действенной, совпадает с ответственностью. Но это – ответственность художественного созерцания, спонтанность, или, лучше сказать, высшая энтелехия которого выверена не извне (не идеологически, не морально-юридически), а изнутри его самого, в некоторой первичной, благодарной, а потому трезвенно-зрячей расположенности человека к бытию и в самом бытии.
Античное искусство было выверяемо исходной для него соотнесенностью с космическим универсумом, в порядке которого начала человеческой феории и истории имели свое место и свою меру. Это «место» и эта «мера» проживались религиозно, усматривались созерцательно-философски, оформлялись политически, воспринимались музыкально и т. д., именно как часть – органически или драматически, – но соотнесенная с Целым. Космизм (т. е. эстетически завершенная организованность) так осознанного и так переживаемого бытия проявляется в таких очевидных соответствиях, как соответствие – например, в музыке – математического и философского содержания. «Техническое» и «органическое» (измышляемое нарочито или расположенное к применению и божественно предустановленное) содержание числа, в данном случае, еще не противостоят друг другу, а их исконное взаимосоответствие, их актуальное единство как раз и сказываются в музыке, и как музыка. Именно поэтому с наступлением «школьной» эпохи музыка квалифицируется в числе наук математических, а математика мыслится в качестве необходимого предварения к философии.
Христианство обнаружило в человеке несоизмеримо большую глубину, нежели это дано было эллинам: если для последних ключевое значение сохраняет реальность космически заданной меры (а значит, естественно-созерцаемой и осуществляемой соразмерности), то в горизонте Откровения в полную силу заявляет о себе достоинство человеческой свободы, а с нею и возможность, и риск. Возможность обрести достоинство, которое (по слову св. Григория Нисского) выше человеческой природы, и риск утратить всякое достоинство («оставить свое жилище», как говорится о падших ангелах в послании св. апостола Иуды, стих 6), выпасть из какой бы то ни было согласованности с целокупностью творения и премудростью Творца.
Вместе с большей – несоизмеримо, чем когда и где-либо большей – глубиной Откровения о человеке и судьбах его спасения христианство и в человеческое творчество привносит большую напряженность и динамику, не только задавая ему новое задание, но и переиначивая его этос – его духовную осанку. Во-первых, в творении мира, во-вторых, в Своем вочеловечении Бог христианского Откровения не оставляет человеку никакой возможности в чем бы то ни было удовольствоваться одним только человеческим, остаться при себе. Одно только человеческое в истории спасения уже и слишком человеческое, опрометчиво покинутое на себя самое.
Всякое человеческое творчество, дабы осуществиться в вечности, сообразоваться логосу Промысла Божия, призвано аскетически выверить свою естественную стихию, возделать ее в согласии (и в согласие) с человечеством Христа Спасителя, как оно себя осуществляет в полноте Евангельской истории, в ипостасном единстве с Богом-Словом. «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе…» (Флп 2:5); ничто в опыте христианской жизни не должно быть изъято из соотнесенности, не может остаться чуждым этому призыву апостола Павла.
Критерий художественной аскезы тот же, что и христианской аскезы вообще (поверх и до всякой еще конкретно-эстетической оформленности), это – смирение, благоговение, благодарение, соизмеренные или сами по себе экзистенциально окрашивающие искомую соизмеренность творчества, но уже не безликому божеству Космоса (пусть и ноуменального), а соизмеренность Богу любви, ставшему человеком, чтобы мы обожились.
Вот почему искусство – творческое событие художественного произведения – начинается раньше, чем оно начинается как искусство; оно начинается в глубине нашего человеческого духовно-телесного устроения как жизнь, и мы вправе ожидать и требовать от него подлинной жизненной оправданности, выверяя ее не идеологически, не социологически, не схоластико-догматически (да это было бы и невозможно!), но труднее и строже – экзистенциально-эстетически.
Что-то подобное имел в виду о. Серафим Роуз, когда говорил о «вкусе Православия», никак еще не сводимого к – и не выводимого из – наличию сакрально-канонической безупречности и догматической точности: ведь то и другое уже выявляет и осуществляет Православие как жизнь во Христе, но не продуцирует его задним числом.
Таким образом, в данном случае мы – в области духовной свободы, ответственность которой тем строже и необратимей, чем менее нормативно ее, этой творческой свободы, обнаружение и осуществление.
Каноничность церковного искусства, в этом отношении, оформляет акт творчества как торжество благодарной самоотдачи, в котором свобода совпадает со служением, сама при этом освобождаясь от онтологически – и эсхатологически! (Откр 22:10–12) – бесплодных колебаний гномической («выбирающей») воли.
Христианские начала византийской культуры
В свое время видный отечественный византинист И. И. Соколов настаивал: «Православие было не только весьма прочным объединяющим началом для византийского населения, но и, можно сказать, господствующей национальностью византийского государства, основной стихией народной жизни в Византии, ее глубочайшим, самым чутким жизненным нервом»[1 - Соколов И. И. О византизме в церковно-историческом отношении. СПб., 2003. С. 15.].
Если, по необходимости, оставить за рамками нашего рассмотрения устойчивую и чаще всего косную в своей одномерности критику византизма, коренящуюся, главным образом, в идеологической «подкорке» западной историографии, можно, с учетом этой критики, воспользоваться обобщением другого замечательного византиниста – архимандрита Киприана (Керна), который писал: «Многовековая жизнь Византии полна примерами невероятных низостей, чудовищных грехопадений и звериной злобы, наряду с образцами святости, просветленности и чистоты. Спорить не приходится: было и то, и другое, но не было одного – равнодушия к церкви, к религии, к загробной судьбе, этих отвратительных плодов секулярного просвещения. Были клятвопреступники и садисты, но среди них немало было и обращающихся к покаянию. Вероятно, было в быту много показного, формального, но не было серой индифферентности, не было плоской снивелированности. Преснота и бесцветность безвкусной цивилизации были чужды Средневековью. А в духовной жизни страшны не падения и грех, ибо после них возможны плач и покаяние, но страшно стоячее болото, спячка, равнодушие. В них покаяние невозможно»[2 - Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 17.].
Некая самоочевидность обозначенного нами в заглавии положения вещей – безусловность христианского качества византийской культуры – имеет свою глубину, свою смысловую напряженность и неоднозначность.
Дело в том, что исторический акт (но и процесс, конечно) восприятия христианства римско-византийской ойкуменой предельно обострил вопрос о самой возможности христианской культуры, самой возможности в свете христианского благовестия оправдать (а, значит, и обосновать) какую бы то ни было волю к завершенности в пространстве эсхатологически «подорванной» посюсторонности, в перспективе «бывания», как будто соревнующего открывшейся во Христе возможности «быть». Вопрос о возможности христианской культуры – это, действительно, проблема, или, как сказали бы, вероятно, сами византийцы, тайна христианской истории.
В самом деле, о какой, казалось бы, завершенности социума (в том числе и в его культурном измерении) может идти речь, если с явлением христианства человеческая экзистенция в самой первичной своей ткани оказывается драматично надломленной эсхатологической перспективой истории и, тем самым, внутри себя принципиально незавершимой и безопорной? «Я вам сказываю, братия, – говорит апостол Павел, – время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор 7:29–31; ср. также: Флп 1:23; 3:8).
Свидетельство «неотмирности» того Царства, залог которого полагает Христос в истории – Церковью и как Церковь, – есть менее всего декларация идеалистического порыва духа: это свидетельство «неотмирности» сказалось в мученичестве. Мученичество, по-гречески, и есть свидетельство. «Меня гнали и вас будут гнать», – говорит Христос в ознаменование радикальной неприобщимости мира в его естественно-историческом самодовлении, и благовестия о жизни вечной. О смысловой невместимости миром христианского свидетельства выразительно говорит и евангелист Иоанн: «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин 21:25).
Но разве, позволено спросить, легализация христианства не снимает вопрос о противостоянии свидетельства веры и образа мира в полноте его социокультурного устроения, и, тем самым, разве само мученичество не преходит исторически?
Мы не случайно отметили, что эсхатологизм христианского свидетельства, так внятно заявленный в приведенных выше новозаветных текстах, захватывает человеческую экзистенцию в самых первичных ее основаниях и потому не может быть «выветрен» или «рассеян» самой по себе переменой исторических обстоятельств, не говоря уже о том, что он и не должен быть утрачен, если христианство хочет оставаться христианством.
Но как же можно было самому христианству войти в союз со вчерашним pontifex’ом maximus’ом – римским императором, не только олицетворяющим, но и творящим действительность социально-политически и культурно устрояемой посюсторонности?! Или – что не менее остро – как мог обратившийся ко Христу император, наставленный в вере в том числе и теми словами апостола Павла, в которых так ясно обнажена тщета мира сего, как мог он оставаться императором, став христианином?!
Конечно, у нас есть некоторые основания спроецировать драматизм этого соотношения христианского эсхатологизма и римско-византийского космополитизма внутрь самой новозаветной керигмы. Всем памятны слова Спасителя о необходимости воздавать кесарю кесарево, развитые как в апостольских посланиях, так и в ранней, вдохновленной мученичеством христианской письменности. Однако в новозаветном изводе этой темы все же нет определенности, свойственной реалиям четвертого и последующих столетий, нет темы союза, симфонии и, стало быть, своего рода взаимной приобщенности Церкви и римско-византийской ойкумены.
Но, на самом деле, «приобщенность» эта ничуть не отменяет эсхатологического качества той доминанты церковного сознания, которая трансцендирует христианина в опыте веры и аскезы за пределы естественно-исторического и естественно-биографического сущего. Ведь как раз собственно исторически сохранение противоречивой со-положности и напряженной взаимно-отнесенности Царства Божьего и мира сего, Церкви и государства обнаружило себя в хронологически параллельном вызревании христианской имперскости и монашеской пустыни. Пустыня процветает подвижниками уже во второй половине III в., а значит, еще не без некоторого, хотя и никак не решающего, участия императоров-гонителей. Но с легализацией христианства пустыня – и в ней монашеский подвиг – не скудеет, а возрастает и ширится, так что св. Афанасий Великий уже в середине IV в. мог говорить об отшельнических и общежительных келиях как о своеобразном «царстве» и хоть и мягко, но все-таки противопоставлять его безмятежность и свободу (в том числе социально-экономическую, например, от податей) суровой действительности имперского порядка.
Монашество осознавало себя продолжением мученичества, и в нем – того отказа от приобщенности «миру сему», которым изначально руководимо христианское свидетельство. Но в том-то и дело, что этот отказ, как и христианский эсхатологизм в целом, сам ориентирован не дуалистически-манихейским размежеванием с миром как таковым, не отрицанием мира, а положительным опознанием человеком своего экзистенциального положения (своей экзистенциальной ситуации) как твари в отношении к своему Творцу, во-первых, и как твари погибающей в отношении к своему Спасителю, во-вторых; если угодно, – этой важнейшей характеристикой христианства, в отличие от дуалистически организованных религий, как раз и является совпадение и тождество Творца и Спасителя.
Христианская аскеза отрешенности и отказа соотнесена с апофатизмом христианской веры: тем самым опознанное ею (аскезой) радикальное различие Творца и творения, непознаваемость Бога побуждает человека к такому устроению, которое бы максимально отвечало тварности как его глубинному онтологическому качеству. Устроение это святые отцы называли смирением и, по словам преподобного Исаака Сирина, воля смиренномудрого в том, чтобы, «если можно, от самого себя погрузиться внутрь себя, войти в безмолвие и вселиться в нем, всецело оставив все свои прежние мысли и чувствования, соделаться чем-то, как бы не существующим в твари, не пришедшим еще в бытие, вовсе незнаемым даже самой душе своей. И пока таковой человек бывает сокровен, заключен в себя и отлучен от мира, всецело пребывает он во Владыке своем»[3 - Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 2008. С. 260.].
Так аскетическая артикуляция воли обнаруживает и осуществляет творение – человеческую экзистенцию в нем – как безусловный дар Божией любви, ответной любовью-благодарением возводя человека одновременно и «всецело к Богу», и к полноте своего человеческого естества. Отказываясь от опрометчивой «самодовлеемости», обращающей человека к собственной онтологической безосновности, нравственно-аскетический уклад Церкви, тем самым, в размежевании с гностико-манихейским дуализмом иерархически оформлял сущее (естества и истории) в его полноте и целостности.
Возвращаясь к теме встречи (и даже союза) Церкви и империи, мы, с учетом в своем роде иконического значения монашества в Церкви можем сказать, что «неотмирность» Церкви (в монашестве продолжающая себя актуализировать) изначально не была «анти-мирностью», но тем глубинным эсхатологическим – одновременно и началом, и заданием, силою и мерою которого все должно было прийти в иерархически осуществляемое соответствие замыслу Божию, а, значит, и себе самому, своей природе. Так, например, известный дуализм естественно-исторической реальности, сохраняя в полноте характеристики составляющих его элементов (Церковь не сливается с государством, брак не вытесняется монашеством) оказывается иерархически подчиненным более глубокому, полному и первичному устроению сущего – его устроению как творения, собранного или, точнее, собираемого в своей нравственно-аскетически осязаемой устремленности к своему Творцу.
Римско-византийский император становится и остается императором христианским, только подчинив себя святыне и правилу веры, только осознав свою власть (внешне-юридически никак не ограниченную) служением и жертвой. «Я твердо веровал, – скажет равноапостольный Константин Великий, – что всю душу, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, – все я обязан принести Великому Богу»[4 - Евсевий Памфил. О жизни блаженного царя Константина // Его же. Сочинения. СПб., 1850. Т. 2. С. 130.]. «Яко первый от Бога багряницу прием, – отзывается императору церковная ему похвала, – первый (же) волею повинул (т. е. подчинил. – А. М.) ее Христу»[5 - Из службы свв. Константину и Елене – 21 мая по ст. ст.].
Еще раз особо подчеркнем, что область этой нравственно-аскетически (и социально-политически, конечно) значимой соподчиненности императора Христу и Его Церкви никогда не была (да и не могла быть) исчерпывающе юридически прописана. Регламентации номоканонического характера – в Деяниях ли Соборов, в прагматических ли указах императоров – были уже выражением, юридической именно проекцией того сыновнего положения императора в отношении к Церкви, которое, по слову, например, о. Александра Шмемана, «основывалось не на “договоре”, сделке или соглашении, не на детальном определении взаимных прав и обязанностей, а на вере»[6 - Шмеман А., протопресв. Церковь. Мир. Миссия: мысли Православия о Западе. М., 1996. С. 43.].
Александр Васильевич Маркидонов
Теология: история и современность
В монографии кандидата богословия, доцента кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии Александра Васильевича Маркидонова рассматривается проблематика византийских и русских культурно-исторических реалий, в своем собственном содержании так или иначе соотнесенных с традицией богословской мысли и с характером религиозного сознания.
Смысло-положение философии, художественно-эстетического творчества, культуры школы и склада политического сознания опознается и исследуется в свете православного богословия. Именно в рамках богословия явления культуры, даже если их зависимость от него перестает быть наглядной, тем не менее определяют себя – либо как нетривиально расположенные к богословию и ему созвучные, либо с ним разноречащие.
В основу книги положены работы автора, ранее опубликованные в виде статей.
Монография рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, теологических факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблематикой взаимоотношения богословия и культуры.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Александр Маркидонов
Богословие и культура
© А. В. Маркидонов, 2022
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2022
Вместо предисловия: вводные замечания к вопросу о соотношении культа и культуры
Обыкновенно в нашем христианском отношении к художественной культуре возникают (и надо бы заметить – должны возникать!) две трудности, две потенциально присутствующие в самом нашем восприятии культурной реальности крайности. В одном – крайнем – случае представляется единственно религиозно-оправданным отказаться от культуры, раз уже есть культ, а в нем – реальное и исчерпывающее осуществление общения человека с Богом (точнее – Бога с человеком), а значит – спасения в жизнь вечную.
В другом – крайнем – случае культура мыслится и переживается как некая эманация культа, его ино-бытие, его экстенсивное распространение, и тогда – по отношению к культу – речь идет не об иной природе творческого события в культуре, а всего лишь об ином тонусе, ином модусе того же самого – одного и того же – события Богообщения.
В первом случае культура осознается и расценивается как радикальное отпадение от культа, – с ним разделение; во втором случае она оказывается реальностью, по существу от культа неотличимой, его как бы продолжающей, а на определенном этапе истории и самосознания его и подменяющей.
В случае радикального разобщения культа и культуры психологически (а потом и исторически) оправданным представляется от культуры отказаться, ибо достаточно культа, все остальное – «от лукавого».
В случае столь же радикального неразличения культа и культуры актуализируется естественная в этом случае склонность удовлетвориться одной культурой, ее тем самым сакрализовать, возвести в культ.
В первом случае игнорируется тот факт, что культ, Таинство – так же, как и культура – в его человеческом вос-приятии есть известное духовно-значимое движение – событие возрастания, границы которого заданы Традицией, но само оно – как воз-растание именно – не обеспечено магически (юридически или психологически); или, выражаясь иначе, Таинство есть именно событие, действительность которого дана, а действенность лишь намечена и осуществляется синергически, т. е. как реальность Бого-человеческая, и уже тем самым нешуточно открытая к истории и культуре, осуществляющаяся в самой истории, хотя и выше-естественно.
Во втором случае игнорируется то важное обстоятельство, что эта «всамделишная» открытость, если угодно – заинтересованность (от inter-esse) Таинства нашего спасения в культуре, совсем не означает их (Таинства и культуры) однородности. Культ, пребывая и осуществляя себя в пространстве истории и культуры, будучи к ним открыт сотериологически (в ожидании обращения и спасения многих), в этой самой открытости принципиально отличен от них онтологически, по природе того общего всем события спасения, которое, однако, именно и только в культе имеет свой единственный Божественный источник.
Между двумя названными крайностями – разделения или неразличения культа и культуры – тесный, но поистине царский путь, во-первых, аскетического, а уже во-вторых, и эстетически значимого различения.
В культе единственный источник, основание, кроме которого (по апостолу Павлу) невозможно положить другого, «которое есть Иисус Христос» (1 Кор 3:11); в культуре более или менее, или совсем не-сообразное этому основанию (Основанию!) движение, событие возрастания (или в себе коснеющего расточения) человека в ответ на Откровение Бога – на Боговоплощение. Но именно потому, что и в пространстве культуры совершаются судьбы нашего спасения, это пространство приобретает всю ту (и всё ту же) напряженность и ответственность различения. В этом пространстве все в движении; если угодно, оно само есть это движение, возрастание в полноту, во Христе и Церкви открывшейся царственности бытия.
Но изнутри себя самого – самим собою – движение культуры или культура как некое целокупно (нравственно, эстетически и религиозно) устрояемое движение сущего принципиально не обоснована: ведь обоснование, подлинное начало всякого творчества – в самом Творце. Правда, человеческая культура (как и судьбы нашего спасения) столь неоднозначна, столь подвижна – и в этой своей подвижности обращаема до превратности, – что и самая эта необоснованность, самый даже разрыв с какою бы то ни было метафизикой и онтологией вообще может оказаться для культурно-эстетического сознания способом самоосуществления. В этом, в такого рода возможности некоторым художественным образом оформлять не-бытие, в этой продуктивности меонического в культуре – как ее страшный потенциал, так и огромная опасность. Иначе говоря, и потенциал, и опасность культурного творчества в том, что оно – будь то слово или музыка – всегда больше, чем оно само: всегда существенно отнесено к Первоисточнику бытия.
В древности (в том числе и собственно-христианской древности) эта соотнесенность Первоисточнику по-разному, но одинаково принципиально носила исходный для человеческого творчества характер; эта соотнесенность целокупности бытия изначально конституировала, пред-оформляла человеческое творчество. Очень важно в данном случае представить себе, насколько возможно четко, различие между тем, как (в Новое время) соотнесенность Целому (большему и высшему) может входить в художественное произведение, например, на правах его ведущей темы или телеологически значимого образа, и тем, как такая соотнесенность Целому именно конституирует, (изначально, как бы еще до-эстетически) ориентирует самый творческий процесс. В последнем случае по существу своему религиозное благоговение перед жизнью, уважение к Целому вовсе не предопределяет собой тематики произведения, не связывает эстетической воли художника, а напротив, ее освобождает и оформляет – так или иначе – внутри этой свободы, которая всегда, будучи подлинной, а значит, онтологически действенной, совпадает с ответственностью. Но это – ответственность художественного созерцания, спонтанность, или, лучше сказать, высшая энтелехия которого выверена не извне (не идеологически, не морально-юридически), а изнутри его самого, в некоторой первичной, благодарной, а потому трезвенно-зрячей расположенности человека к бытию и в самом бытии.
Античное искусство было выверяемо исходной для него соотнесенностью с космическим универсумом, в порядке которого начала человеческой феории и истории имели свое место и свою меру. Это «место» и эта «мера» проживались религиозно, усматривались созерцательно-философски, оформлялись политически, воспринимались музыкально и т. д., именно как часть – органически или драматически, – но соотнесенная с Целым. Космизм (т. е. эстетически завершенная организованность) так осознанного и так переживаемого бытия проявляется в таких очевидных соответствиях, как соответствие – например, в музыке – математического и философского содержания. «Техническое» и «органическое» (измышляемое нарочито или расположенное к применению и божественно предустановленное) содержание числа, в данном случае, еще не противостоят друг другу, а их исконное взаимосоответствие, их актуальное единство как раз и сказываются в музыке, и как музыка. Именно поэтому с наступлением «школьной» эпохи музыка квалифицируется в числе наук математических, а математика мыслится в качестве необходимого предварения к философии.
Христианство обнаружило в человеке несоизмеримо большую глубину, нежели это дано было эллинам: если для последних ключевое значение сохраняет реальность космически заданной меры (а значит, естественно-созерцаемой и осуществляемой соразмерности), то в горизонте Откровения в полную силу заявляет о себе достоинство человеческой свободы, а с нею и возможность, и риск. Возможность обрести достоинство, которое (по слову св. Григория Нисского) выше человеческой природы, и риск утратить всякое достоинство («оставить свое жилище», как говорится о падших ангелах в послании св. апостола Иуды, стих 6), выпасть из какой бы то ни было согласованности с целокупностью творения и премудростью Творца.
Вместе с большей – несоизмеримо, чем когда и где-либо большей – глубиной Откровения о человеке и судьбах его спасения христианство и в человеческое творчество привносит большую напряженность и динамику, не только задавая ему новое задание, но и переиначивая его этос – его духовную осанку. Во-первых, в творении мира, во-вторых, в Своем вочеловечении Бог христианского Откровения не оставляет человеку никакой возможности в чем бы то ни было удовольствоваться одним только человеческим, остаться при себе. Одно только человеческое в истории спасения уже и слишком человеческое, опрометчиво покинутое на себя самое.
Всякое человеческое творчество, дабы осуществиться в вечности, сообразоваться логосу Промысла Божия, призвано аскетически выверить свою естественную стихию, возделать ее в согласии (и в согласие) с человечеством Христа Спасителя, как оно себя осуществляет в полноте Евангельской истории, в ипостасном единстве с Богом-Словом. «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе…» (Флп 2:5); ничто в опыте христианской жизни не должно быть изъято из соотнесенности, не может остаться чуждым этому призыву апостола Павла.
Критерий художественной аскезы тот же, что и христианской аскезы вообще (поверх и до всякой еще конкретно-эстетической оформленности), это – смирение, благоговение, благодарение, соизмеренные или сами по себе экзистенциально окрашивающие искомую соизмеренность творчества, но уже не безликому божеству Космоса (пусть и ноуменального), а соизмеренность Богу любви, ставшему человеком, чтобы мы обожились.
Вот почему искусство – творческое событие художественного произведения – начинается раньше, чем оно начинается как искусство; оно начинается в глубине нашего человеческого духовно-телесного устроения как жизнь, и мы вправе ожидать и требовать от него подлинной жизненной оправданности, выверяя ее не идеологически, не социологически, не схоластико-догматически (да это было бы и невозможно!), но труднее и строже – экзистенциально-эстетически.
Что-то подобное имел в виду о. Серафим Роуз, когда говорил о «вкусе Православия», никак еще не сводимого к – и не выводимого из – наличию сакрально-канонической безупречности и догматической точности: ведь то и другое уже выявляет и осуществляет Православие как жизнь во Христе, но не продуцирует его задним числом.
Таким образом, в данном случае мы – в области духовной свободы, ответственность которой тем строже и необратимей, чем менее нормативно ее, этой творческой свободы, обнаружение и осуществление.
Каноничность церковного искусства, в этом отношении, оформляет акт творчества как торжество благодарной самоотдачи, в котором свобода совпадает со служением, сама при этом освобождаясь от онтологически – и эсхатологически! (Откр 22:10–12) – бесплодных колебаний гномической («выбирающей») воли.
Христианские начала византийской культуры
В свое время видный отечественный византинист И. И. Соколов настаивал: «Православие было не только весьма прочным объединяющим началом для византийского населения, но и, можно сказать, господствующей национальностью византийского государства, основной стихией народной жизни в Византии, ее глубочайшим, самым чутким жизненным нервом»[1 - Соколов И. И. О византизме в церковно-историческом отношении. СПб., 2003. С. 15.].
Если, по необходимости, оставить за рамками нашего рассмотрения устойчивую и чаще всего косную в своей одномерности критику византизма, коренящуюся, главным образом, в идеологической «подкорке» западной историографии, можно, с учетом этой критики, воспользоваться обобщением другого замечательного византиниста – архимандрита Киприана (Керна), который писал: «Многовековая жизнь Византии полна примерами невероятных низостей, чудовищных грехопадений и звериной злобы, наряду с образцами святости, просветленности и чистоты. Спорить не приходится: было и то, и другое, но не было одного – равнодушия к церкви, к религии, к загробной судьбе, этих отвратительных плодов секулярного просвещения. Были клятвопреступники и садисты, но среди них немало было и обращающихся к покаянию. Вероятно, было в быту много показного, формального, но не было серой индифферентности, не было плоской снивелированности. Преснота и бесцветность безвкусной цивилизации были чужды Средневековью. А в духовной жизни страшны не падения и грех, ибо после них возможны плач и покаяние, но страшно стоячее болото, спячка, равнодушие. В них покаяние невозможно»[2 - Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 17.].
Некая самоочевидность обозначенного нами в заглавии положения вещей – безусловность христианского качества византийской культуры – имеет свою глубину, свою смысловую напряженность и неоднозначность.
Дело в том, что исторический акт (но и процесс, конечно) восприятия христианства римско-византийской ойкуменой предельно обострил вопрос о самой возможности христианской культуры, самой возможности в свете христианского благовестия оправдать (а, значит, и обосновать) какую бы то ни было волю к завершенности в пространстве эсхатологически «подорванной» посюсторонности, в перспективе «бывания», как будто соревнующего открывшейся во Христе возможности «быть». Вопрос о возможности христианской культуры – это, действительно, проблема, или, как сказали бы, вероятно, сами византийцы, тайна христианской истории.
В самом деле, о какой, казалось бы, завершенности социума (в том числе и в его культурном измерении) может идти речь, если с явлением христианства человеческая экзистенция в самой первичной своей ткани оказывается драматично надломленной эсхатологической перспективой истории и, тем самым, внутри себя принципиально незавершимой и безопорной? «Я вам сказываю, братия, – говорит апостол Павел, – время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор 7:29–31; ср. также: Флп 1:23; 3:8).
Свидетельство «неотмирности» того Царства, залог которого полагает Христос в истории – Церковью и как Церковь, – есть менее всего декларация идеалистического порыва духа: это свидетельство «неотмирности» сказалось в мученичестве. Мученичество, по-гречески, и есть свидетельство. «Меня гнали и вас будут гнать», – говорит Христос в ознаменование радикальной неприобщимости мира в его естественно-историческом самодовлении, и благовестия о жизни вечной. О смысловой невместимости миром христианского свидетельства выразительно говорит и евангелист Иоанн: «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин 21:25).
Но разве, позволено спросить, легализация христианства не снимает вопрос о противостоянии свидетельства веры и образа мира в полноте его социокультурного устроения, и, тем самым, разве само мученичество не преходит исторически?
Мы не случайно отметили, что эсхатологизм христианского свидетельства, так внятно заявленный в приведенных выше новозаветных текстах, захватывает человеческую экзистенцию в самых первичных ее основаниях и потому не может быть «выветрен» или «рассеян» самой по себе переменой исторических обстоятельств, не говоря уже о том, что он и не должен быть утрачен, если христианство хочет оставаться христианством.
Но как же можно было самому христианству войти в союз со вчерашним pontifex’ом maximus’ом – римским императором, не только олицетворяющим, но и творящим действительность социально-политически и культурно устрояемой посюсторонности?! Или – что не менее остро – как мог обратившийся ко Христу император, наставленный в вере в том числе и теми словами апостола Павла, в которых так ясно обнажена тщета мира сего, как мог он оставаться императором, став христианином?!
Конечно, у нас есть некоторые основания спроецировать драматизм этого соотношения христианского эсхатологизма и римско-византийского космополитизма внутрь самой новозаветной керигмы. Всем памятны слова Спасителя о необходимости воздавать кесарю кесарево, развитые как в апостольских посланиях, так и в ранней, вдохновленной мученичеством христианской письменности. Однако в новозаветном изводе этой темы все же нет определенности, свойственной реалиям четвертого и последующих столетий, нет темы союза, симфонии и, стало быть, своего рода взаимной приобщенности Церкви и римско-византийской ойкумены.
Но, на самом деле, «приобщенность» эта ничуть не отменяет эсхатологического качества той доминанты церковного сознания, которая трансцендирует христианина в опыте веры и аскезы за пределы естественно-исторического и естественно-биографического сущего. Ведь как раз собственно исторически сохранение противоречивой со-положности и напряженной взаимно-отнесенности Царства Божьего и мира сего, Церкви и государства обнаружило себя в хронологически параллельном вызревании христианской имперскости и монашеской пустыни. Пустыня процветает подвижниками уже во второй половине III в., а значит, еще не без некоторого, хотя и никак не решающего, участия императоров-гонителей. Но с легализацией христианства пустыня – и в ней монашеский подвиг – не скудеет, а возрастает и ширится, так что св. Афанасий Великий уже в середине IV в. мог говорить об отшельнических и общежительных келиях как о своеобразном «царстве» и хоть и мягко, но все-таки противопоставлять его безмятежность и свободу (в том числе социально-экономическую, например, от податей) суровой действительности имперского порядка.
Монашество осознавало себя продолжением мученичества, и в нем – того отказа от приобщенности «миру сему», которым изначально руководимо христианское свидетельство. Но в том-то и дело, что этот отказ, как и христианский эсхатологизм в целом, сам ориентирован не дуалистически-манихейским размежеванием с миром как таковым, не отрицанием мира, а положительным опознанием человеком своего экзистенциального положения (своей экзистенциальной ситуации) как твари в отношении к своему Творцу, во-первых, и как твари погибающей в отношении к своему Спасителю, во-вторых; если угодно, – этой важнейшей характеристикой христианства, в отличие от дуалистически организованных религий, как раз и является совпадение и тождество Творца и Спасителя.
Христианская аскеза отрешенности и отказа соотнесена с апофатизмом христианской веры: тем самым опознанное ею (аскезой) радикальное различие Творца и творения, непознаваемость Бога побуждает человека к такому устроению, которое бы максимально отвечало тварности как его глубинному онтологическому качеству. Устроение это святые отцы называли смирением и, по словам преподобного Исаака Сирина, воля смиренномудрого в том, чтобы, «если можно, от самого себя погрузиться внутрь себя, войти в безмолвие и вселиться в нем, всецело оставив все свои прежние мысли и чувствования, соделаться чем-то, как бы не существующим в твари, не пришедшим еще в бытие, вовсе незнаемым даже самой душе своей. И пока таковой человек бывает сокровен, заключен в себя и отлучен от мира, всецело пребывает он во Владыке своем»[3 - Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 2008. С. 260.].
Так аскетическая артикуляция воли обнаруживает и осуществляет творение – человеческую экзистенцию в нем – как безусловный дар Божией любви, ответной любовью-благодарением возводя человека одновременно и «всецело к Богу», и к полноте своего человеческого естества. Отказываясь от опрометчивой «самодовлеемости», обращающей человека к собственной онтологической безосновности, нравственно-аскетический уклад Церкви, тем самым, в размежевании с гностико-манихейским дуализмом иерархически оформлял сущее (естества и истории) в его полноте и целостности.
Возвращаясь к теме встречи (и даже союза) Церкви и империи, мы, с учетом в своем роде иконического значения монашества в Церкви можем сказать, что «неотмирность» Церкви (в монашестве продолжающая себя актуализировать) изначально не была «анти-мирностью», но тем глубинным эсхатологическим – одновременно и началом, и заданием, силою и мерою которого все должно было прийти в иерархически осуществляемое соответствие замыслу Божию, а, значит, и себе самому, своей природе. Так, например, известный дуализм естественно-исторической реальности, сохраняя в полноте характеристики составляющих его элементов (Церковь не сливается с государством, брак не вытесняется монашеством) оказывается иерархически подчиненным более глубокому, полному и первичному устроению сущего – его устроению как творения, собранного или, точнее, собираемого в своей нравственно-аскетически осязаемой устремленности к своему Творцу.
Римско-византийский император становится и остается императором христианским, только подчинив себя святыне и правилу веры, только осознав свою власть (внешне-юридически никак не ограниченную) служением и жертвой. «Я твердо веровал, – скажет равноапостольный Константин Великий, – что всю душу, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, – все я обязан принести Великому Богу»[4 - Евсевий Памфил. О жизни блаженного царя Константина // Его же. Сочинения. СПб., 1850. Т. 2. С. 130.]. «Яко первый от Бога багряницу прием, – отзывается императору церковная ему похвала, – первый (же) волею повинул (т. е. подчинил. – А. М.) ее Христу»[5 - Из службы свв. Константину и Елене – 21 мая по ст. ст.].
Еще раз особо подчеркнем, что область этой нравственно-аскетически (и социально-политически, конечно) значимой соподчиненности императора Христу и Его Церкви никогда не была (да и не могла быть) исчерпывающе юридически прописана. Регламентации номоканонического характера – в Деяниях ли Соборов, в прагматических ли указах императоров – были уже выражением, юридической именно проекцией того сыновнего положения императора в отношении к Церкви, которое, по слову, например, о. Александра Шмемана, «основывалось не на “договоре”, сделке или соглашении, не на детальном определении взаимных прав и обязанностей, а на вере»[6 - Шмеман А., протопресв. Церковь. Мир. Миссия: мысли Православия о Западе. М., 1996. С. 43.].